Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом

![]() Книга является, по сути, свидетельством автора своей веры и описанием результатов духовных поисков, пути от баптизма к Православию. Здесь представлены те главные, неопровержимые библейские, исторические и другие аргументы и факты, убедившие его принять Православие.
Книга является, по сути, свидетельством автора своей веры и описанием результатов духовных поисков, пути от баптизма к Православию. Здесь представлены те главные, неопровержимые библейские, исторические и другие аргументы и факты, убедившие его принять Православие.
Этот труд будет еще интересен и всем протестантам, пусть даже из любопытства захотевшим прочесть эту книгу.
Для православных же, эта книга послужит для некоторого ободрения и умножения веры.
Издание 6-е, в процессе переработки и дополнения.
На данный момент работа над книгой ещё не окончена, но её автор, отец Сергий, согласился по мере написания глав книги (хотя они и требуют ещё окончательной проверки) предоставлять их нам, потому как в таком виде, значительно дополненном и переработанном, книга будет гораздо полезнее и убедительнее прежней.
О замеченных ошибках всякого рода автор просит сообщать ему по нижеуказанному емейлу.
Иерей Сергий также нуждается в материальной поддержке, и просит своих православных читателей, имеющих возможность и ревнующих о проповеди Православия и возвращении протестантов в лоно нашей Единой, Святой Соборной и Апостольской Церкви, оказать посильную помощь в его миссионерском служении.
Координаты:
Кобзарь Сергей Александрович
ул. П. Лумумбы, д. 3-А
г. Артемовск
Донецкая область
Украина
84507
Номер карты Приватбанка: 4149 4377 2283 5657
Моб.: +38-050-758-57-45
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Наиболее частые вопросы по книге можно встретить на Форуме
|
"Get the Flash Player"
"to see this gallery."
|
Когда я, баптистский миссионер и недавний выпускник Донецкого Христианского Университета [Духовный ВУЗ, основанный совместными усилиями постсоветских и американских протестантов, который после трёхлетнего обучения я окончил в 1999 г. со степенью бакалавра богословия], в 2000-м году умом, сердцем и всей душой принял Православие, тайно крестился и начал писать настоящую книгу, мне не было ещё и 22-х лет. К тому же, вырос я в особой субкультуре - консервативных баптистов (где не поощрялось чтение классической литературы и других книг, подчас даже протестантских, а рекомендовалось читают одну Библию [Наш пастор в связи с этим любил говорить о том, что может в книгах и есть крупицы зерна, как они могут быть в куче навоза, но зачем рыться в навозе, собирая эти зерна, если у нас есть свежий, вкусный хлеб - Слово Божие!]), которые, кроме прочего, отличаются, как известно, своим специфическим русским языком, далеко отстоящем от литературных норм. И эту особенность советского баптизма я вполне унаследовал. Поэтому, эти два фактора (молодость и большой недостаток владения нормативным русским языком) указывали на то, что о написании книги мне и помышлять не стоит.
Кроме того, было понятно и то, что при таком положении в случае написания серьёзной богословской работы мне будет трудно избежать погрешностей не только литературных, но и богословских. Ведь богословие есть самая сложная и тонкая наука, требующая от занимающегося им многих разносторонних способностей и дарований [Потому, сознавая данную сложность, Православная Церковь так осторожно и так редко дает своим святым наименование "богослов"], в том числе высокой образованности и большого жизненного опыта. Поэтому, в значительной мере осознавая все вышесказанное, сама мысль о том, чтобы когда-либо написать книгу ко мне вовсе не подступала, и я никогда не имел такого стремления [Когда мой близкий друг по ДХУ, Ярослав Тимонько, сказал мне однажды как бы невзначай, что по его мнению, если я когда-либо напишу книгу, то там не будет такой "воды", как во многих книгах американских авторов, то помню, что я сильно удивился его словам, и не столько тому, что мой друг был обо мне такого хорошего мнения, как тому, что он вообще мог предположить, что я когда либо стану писать книгу].
Но когда я познал Православие и увидел, какое обольщение и духовную смерть несет в себе протестантизм; когда я понял, как протестанты меня обманывали и как я сам невольно обманывал людей, проповедуя им, сам того не понимая, богопротивное учение, то осознал крайнюю необходимость скорее засвидетельствовать как можно большему числу людей о найденной мною драгоценной драхме (ср. Лк. 15:8,9) и предостеречь их от гибельного пути. Как писал пророк Иеремия: "было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и - не мог" (Иер. 20:9). Исключительно по этой причине я решился написать настоящую книгу [Хотя в самом начале, когда я решил записать все главные свидетельства и аргументы в пользу истинности Православия и лживости протестантизма, я и не думал, что моя работа выйдет как книга. Я записывал их именно с той целью, чтобы иметь возможность дать распечатку тем из моих бывших единоверцев, которые будут спрашивать о причинах моего обращения и о моей вере, - и так я в начале и делал], надеясь, что, несмотря на все погрешности и недостатки, она принесет свой плод. И книга действительно оказалась полезной. Более ста человек засвидетельствовали мне в письмах [С некоторыми из этих писем можно ознакомиться в приложении III] о своем обращении от протестантизма к Православию, которое (обращение) произошло в значительной мере благодаря данной книге. Надеюсь, что еще больше есть тех обратившихся, которые не написали мне письма, а также тех, кто, прочтя книгу, был удержан от принятия протестантизма и утвердился в Православии. Таким образом, жизнь показала, что мой расчет оказался верным, и я нисколько не жалею, что ради спасения этих бесценных душ десять лет издавалась во многих отношениях существенно недоработанная книга, общий тираж которой составил около 25000 экз.
Теперь же, благодарение Богу, появляется возможность не просто незначительно поправить книгу, как это делалось в нескольких предыдущих изданиях, но основательно переработать и дополнить её. Проделанную работу считаю прямым своим пастырским и просто христианским долгом. Ведь если сейчас, когда я уже не новообращённый христианин, а священник, находящийся в Церкви более 10 лет, в течении которых обретённая мною вера все глубже осмысливалась и изучалась, могу изложить ранее написанное лучше, то значит, я просто обязан это сделать, как написано: "кто разумеет делать добро и не делает, тому грех" (Иак. 4:17).
Вся основная суть книги и все основные главы в настоящем издании остались, но при этом вся книга была полностью переписана и примерно в 5-10 раз увеличена по объёму, так что кроме разве что некоторых цитат в ней не осталось ни одного не тронутого предложения. Таким образом, все предыдущие издания данной книги, включая первые компьютерные распечатки, относятся к данному изданию так же, как относятся черновики и наброски к более или менее фундаментальной и оформленной работе… "Неужели, спросит кто-то, раньше всё было написано неверно, раз пришлось всё переписывать?". Нет, конечно. Вера моя и сейчас и 10 лет назад была и есть та же самая, православная. Но одно дело веровать сердцем, и совсем другое дело выразить свою веру в правильных словах.
Разницу между верой и способностью выразить свою веру понимал ещё древний христианский апологет Минуций Феликс, у которого мы находим такое замечание: "Когда Октавий кончил свою речь, мы с Цецилием несколько времени в молчаливом удивлении смотрели на него. Что касается собственно меня, то я был сильно изумлен искусством, с каким он изложил доказательства, примеры и свидетельства на истины, которые легче чувствовать, нежели высказывать, - отразил врагов теми же стрелами философов, которыми они сами вооружаются, и представил истину не только удобопонятною, но и благоприятною" (Октавий, гл. 39). Поэтому, суть и главная мысль книги никак не изменились, а только форма изложения тех же самых истин.
Также, кроме пере-и-доработки уже существовавших глав, в книгу добавлено несколько важных глав и приложений. В главе 22 "Почему не католицизм" объясняется, почему я, разуверившись в протестантизме, обратился именно в Православие, а не в католичество, и в чем его важнейшие заблуждения. Данное приложение очень важно по той причине, что ведь практически все догматы и реалии, которые я признал истинными и которые защищаю в своей книге (как то: вещественные святыни, иконопочитание, молитвы святым и ангелам, молитвы за усопших, монашество, детокрещение, миропомазание, исповедь и прочее) есть и в католицизме: почему же тогда я стал именно православным, а не католиком?
В приложении I даются "ответы на разные вопросы", относящиеся к православно-протестантской полемике, на которые не было дано ответа в основной части книги.
В приложении II: "Мой путь от баптизма к Православию" описана вся последовательность (прежде всего внутренне-духовная, а не просто внешне-событийная) моего обращения к Православию и выхода из баптизма. В предыдущих изданиях книги некоторые мысли данного приложения содержались в главе: "Введение: мой опыт поиска истины".
В приложении III: "Из писем бывших протестантов", которое уже имелось в последних изданиях книги (15 писем), добавлены ещё 19 интересных и назидательных свидетельств об обращении протестантов в Православие.
В данном издании, для легкости усвоения материала и более ясного прослеживания мысли, текст разбит на под главы и под темы; ключевые слова и выражения, в том числе и в цитатах, выделены жирным курсивом.
Молю Господа, чтобы данное переработанное и дополненное издание достигло еще большего числа читателей, и, по Божьей благодати, еще больше связало снопов для Царствия Божия.
Эта книга является, по сути, свидетельством моей веры и письменным изложением результатов моих духовных поисков, моего пути от баптизма к Православию. Здесь я хочу представить моему читателю те главные библейские, богословские, исторические, логические и другие аргументы, которые убедили или, лучше сказать, попросту заставили меня принять Православие. Таким образом, эта книга является "отчетом в моем уповании" (ср. 1 Пет. 3:15), и в этом отчете я намерен не только свидетельствовать о своем обращении, но и по мере своих скромных способностей, которые дал мне Бог, богословски аргументировано защищать свою веру. Личное свидетельство и по возможности фундаментальная богословская защита Православной Веры, ставшей теперь и моей, от безосновательных и богопротивных протестантских нападок - вот две составляющих данной книги.
Книга эта представляет собой существенно дополненный и разработанный вариант той работы, которую я написал перед уходом из баптизма для объяснения своего шага моим (теперь уже бывшим) единоверцам, во время написания которой я душой уже был православным, но формально и видимо оставался ещё в баптизме несколько месяцев. Поэтому, говоря о баптизме (и обо всем протестантизме вообще), я часто употреблял местоимения первого лица ("мы", "нас", "наши" и под.), включая и себя в ряды протестантов, что было на момент написания первой работы в известном смысле правдой. Эта особенность оставлена и в данной книге, что, как думаю, придает ей живой стиль и запечатлевает именно тот момент моей жизни, когда я еще как бы по инерции называю себя баптистом и протестантом, но в душе уже окончательно рушатся протестантские извращённые мудрования, вся его система богословствования и всё его мироощущение. Со страниц своей книги я обращаюсь к протестантам как ещё протестант, и говорю им: "вот посмотрите, мы верим и думаем так и так, и убеждены в своей правоте, но как же наша вера соотносится вот с этими библейскими местами, и вот с подобными свидетельствами веры древней Церкви, и вот с такими логическими аргументами, и вот с этими нашими же собственными убеждениями, и т.п.". Таким образом, в книге я обычно отождествляю себя с протестантами, а не с православными, о которых говорю не "мы", а "они", то есть в третьем лице.
Вторая особенность книги заключается в том, в книге я стараюсь разговаривать со своим читателем на простом языке. То есть, при написании книги я всегда старался придерживаться принципа простоты изложения, чтобы прочесть и понять её смог каждый, даже мало подготовленный читатель, кто действительно ищет Истину и спасения своей душе. Для этого, в частности, я часто делаю пояснения, привожу поясняющие примеры из жизни и нередко важнейшие мысли повторяю.
Третья особенность, о которой важно знать моему читателю для лучшего понимания данной книги, заключается в том, что все основные главы в ней, при всех своих особенностях, построены, как правило, по одной простой схеме. В начале главы, перед обсуждением каждой темы или под темы, объясняется, в чем заключается разномыслие протестантов и православных, и на каких основаниях протестанты не согласны с учением или практикой православных. Затем дается православный ответ на эти обвинения на основании
1) Священного Писания;
2) свидетельств веры древней Церкви;
3) логических рассуждений и
4) свидетельств от противного, где это уместно.
Все эти четыре пункта я хочу прокомментировать.
Прежде всего, хочу сказать, что такую схему я вовсе не изобретал: она сама собой явилась в моей душе как не требующая доказательств аксиома. Когда я был в поиске истины и желал разобраться в вопросах веры, то, естественно, мне нужны были принципы, по которым я мог бы определять, что соответствует истине, а что нет. Другими словами, мне нужен был авторитетный источник, по которому я мог бы сверять различные богословские мнения. И, конечно же, для меня как для протестанта такой незыблемый авторитет всегда существовал, это - Библия (по крайней мере, 66 книг, истинность которых признает весь христианский мир). Это, безусловно, для меня был (и есть) первый критерий истинности любого учения. Никакое богословское мнение я ни в коем случае не собирался принимать, если оно не основывалось на Священном Писании или противоречило его букве или духу. Данную позицию не нужно доказывать, ведь она заложена как краеугольный камень в сознании каждого протестанта.
Но если это так, то почему бы на этом нам и не остановиться? Для чего нам нужны еще какие либо другие авторитеты, кроме Библии? Подробному ответу на этот вопрос я посвящаю III-ю часть своей книги "О Священном Писании и Священном Предании". Здесь же скажу кратко, что для меня была сразу очевидна субъективность, в которую можно легко впасть и в которую действительно многие впадают при исследовании Библии. В этой мысли настойчиво убеждает факт существования множества различных христианских конфессий, которые учат по-разному, но основывают свои учения на Священном Писании. Православные, католики, "свидетели Иеговы" и протестанты во всех своих многочисленных разветвлениях основывают свои учения на Библии, но при этом учения их существенно, а во многих вопросах совершенно противоречат друг другу: так как же разобраться и быть уверенным в том, чему на самом деле учит Библия? Быть может, если бы я не проучился три года в ДХУ и не выслушал множества различных богословских мнений, противоречащих друг другу, но в тоже время "прекрасно" согласующихся со Священным Писанием (а при ознакомлении с каждым таким мнением создается именно такое впечатление), то я меньше был бы озадачен проблемой субъективности в исследовании Библии. И тем протестантам, которые не имеют богословского образования или которые мало общаются с представителями других деноминаций, а слушают только проповеди своего пастора, реальность и серьезнейшую значимость этой проблемы порой трудно оценить. Когда баптисты произносят свою излюбленную фразу: "Библия ясно учит (тому или иному)", то многие даже не подозревают, насколько то, что видится им как ясное учение Библии, для других вовсе не кажется ясным; наоборот, им кажется, что Библия ясно учит совершенно противоположному. И главное, что у последних есть не менее, как кажется, веские аргументы так думать, чем у нас…
Но, говоря кратко, хорошо осознавая указанную трудность в выяснении Истины на основании только Библии, я пытался найти какой-то еще вспомогательный авторитетный источник, которому можно было бы доверять; такой источник, о котором не спорят, которому, как и 66-ти каноническим книгам Библии, также доверяют все христианские деноминации, и который мог бы мне помочь в поисках Истины. Существует ли вообще такой источник? Оказывается, существует, и я его для себя выявил. Этот источник - вера и жизнь Церкви первые IV века! Именно здесь мы обнаруживаем еще одну точку единства во всем христианском мире!
Высказанное положение крайне важно, потому подробно обсудим его. Вспомним, как видят историю Церкви православные, католики и протестанты? Православная Церковь полагает, что от Христа и до наших дней она является истинной Церковью. В 1054 г. католики отделились от неё (окончательно) и перестали быть Церковью. Протестанты, отделившись от католиков, тем более не являются Церковью.
Католики, конечно же, считают себя истинной Церковью и думают, что это православные, а не они впали в раскол, и с 1054 г. перестали быть Церковью, а в 1517 г. то же самое случилось с протестантами.
Протестанты же, как правило, думают, что Церковь была истинной до IV века, пока она была в гонениях. Баптистский пастор Павел Рогозин, например, в своей книге "Откуда все это появилось", направленную против Православия и католицизма и очень популярную среди баптистов [Именно по этим двум причинам, - 1) из-за содержания в данной книге многих обвинений в адрес Православия и 2) её популярности среди баптистов, - в дальнейшем я буду не раз на неё ссылаться, чтобы показать, как нагло и откровенно врёт П. Рогозин, которому многие баптисты слепо верят], признает даже, что "вплоть до пятого века церковь христианская была еще сильна верой и истиной" [П.И. Рогозин "Откуда всё это появилось", МАП "Книга", 2 изд, 1993 г, с. 6]. Но после Константина, по общему мнению протестантов, когда Церкви была дана свобода, она постепенно стала впадать в грехи и ереси, пока совсем не отступила от Бога и духовно не умерла. И только в XVI веке Церковь вновь возродилась в лице реформаторов-протестантов.
Не желая предубежденно, "без суда и следствия", отвергать ничью позицию, а ища только точку единства, я увидел, что три главные христианские конфессии, то есть все христиане, фактически сходятся в том, что до IV века (включительно) Церковь была истинной! Таким образом я решил, что для выяснения Истины как ко второстепенному авторитетному источнику (после Священного Писания) можно и нужно обращаться к свидетельствам веры древней Церкви, которая, по мнению подавляющего большинства христиан различных вероисповеданий, точно стояла в Истине.
Да и не только факт всеобщего признания этого периода Церкви истинным, но и сама логика вещей подсказывает, что свидетельства веры древних христианских писателей, особенно тех, которые слышали самих Апостолов или их ближайших учеников, обладают авторитетом. Почему я должен изучать работы европейских реформаторов и их последователей XVI и позднейших веков и верить им, а труды древних христианских писателей, гораздо ближе по времени отстоящих от Христа и Апостолов, оставлять в стороне? Другими словами: почему мы подробно изучаем период реформации, а периодом формации не интересуемся - ведь очевидно, что по самой сути он намного важнее [Мысль о важности изучения именно периода формации, а не реформации, я впервые услышал от моего сокурсника по ДХУ (Андрея Кравцева), которого я очень уважал и который был, на мой взгляд, искренно верующим и самым одаренным из нашего потока, ставшего в последствии преподователем богословия. (Когда в моей душе одна за одной рушились все протестантские позиции, то Андрей был моей последней опорой в деле защиты протестантизма. Именно к нему я поехал задать волнующие меня вопросы надеясь, что может быть он, более умный и образованный чем я, сможет мне на них ответить, но удовлетворительных ответов он мне не смог дать. И это не потому, что у него не хватило эрудиции и образования. Просто честных и праведных ответов протестантизм дать не может душе, искренне ищущей Истину)]! Для нас должно быть приоритетнее и авторитетнее то, во что верили и что утверждали христиане первых веков, особенно самые древние, а не во что верили реформаторы. Поэтому, исследуя вопросы Веры и желая познать Истину, я поставил себе целью после изучения каждого спорного вопроса по Священному Писанию выяснить, как веровала в этом отношении Церковь первых четырех столетий. Труды церковных писателей IV в. я решил включить в свое исследование исходя из простого понимания того, что даже если разделять протестантское убеждение в том, что после получения свободы в 313 г. Церковь отступила от истины и ввела множество ложных догматов, то такое отступление никак не могло произойти вдруг, так что в 312 г. Церковь еще пламенеет духом и умирает за Христа, а в 313 г. находится уже в страшном отступлении, язычестве, идолопоклонстве и т.д. Я изначала понимал и верил, что никакого серьезного отступления в Церкви произойти не могло по крайней мере до тех пор, пока было живо то поколение людей, которые в гонениях веровали во Христа и умирали за Него. По крайней мере, когда я, еще будучи протестантом, читал сочинения церковного учителя и писателя IV в. И. Златоуста, то я всей душой понимал и чувствовал, что это пишет человек в Духе Божием, который живет и дышит пламенной верой и любовью к Богу [Такого же примерно мнения об И. Златоусте, кстати, держатся многие протестанты, в частности - мой отец, баптистский пастор, который сам мне о том свидетельствовал и говорил, что иногда использует работы И. Златоуста в своих проповедях].
И протестанты в основном так и мыслят по этому вопросу, признавая, что церковные писатели и учители IV в. еще стояли в истине. Мы уже упоминали П. Рогозина, признающего, что "вплоть до пятого века церковь христианская была еще сильна верой и истиной". Если из этой фразы можно понять, что по мнению П. Рогозина Церковь стояла в истине только до начала V века, то учебник сравнительного богословия, изданный СЕХБ, этот период стояния Церкви в Истине распространяет и на V век, говоря о периоде до второй половины пятого века как о "наиболее важном в богословском отношении" и о "блестящем полете богословской мысли… до Халкидонского собора" (т.е. до 451 г.), а начавшийся "некоторый упадок" датирует второй половиной V-го века. Подобную мысль высказывает также известный протестантский богослов Алистер Мак-Грат говоря, что "поздний патристический период (с ок. 310 до 451 гг.) можно считать одной из высших точек [Православные, кстати, так же высоко оценивают труды св. отцов IV века, называя его золотым. Так, архиепископ Филарет Гумилевский в своём фундаментальном труде "Историческое учение об отцах церкви" пишет: "…четвёртый век (312-420 г.) резко отличается от всех последующих: это век величайших светил церкви. Государство дало тогда свободу церкви и высокое просвещение открылось как следствие борьбы язычества с христианством; V-ый и VI-ой века были уже учениками и подражателями золотого века просвещения христианского" (стр. XVII)] в истории христианского богословия" (Алистер Мак-Грат, "Введение в христианское богословие", изд. Одесская Богословская Семинария, 1998 г, стр. 19).
Тем не менее, к V веку у протестантов, как правило, нет уже такого доверия [По крайней мере я, в начале своего исследования, будучи еще протестантом, не питал особого доверия к Церкви V века, разве что к блаженному Августину, жившему в IV-V веках. Алистер Мак-Грат, например, пишет об Августине так: "Обращаясь к рассмотрению личности Аврелия Августина… мы сталкиваемся, вероятно, с одним из величайших и влиятельнейших умов всей христианской истории. Привлечённый к христианской вере проповедью епископа Амвросия Медиоланского, Августин пережил драматический опыт обращения…" (стр. 23). Прочтя "Исповедь" блаж. Августина я был так потрясён глубиной, искренностью и величием этой книги, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что он был истинным, возрождённым (как любят говорить протестанты) христианином. В этом сможет, я уверен, убедиться любой, кроме, разве что, совершенно мёртвого к восприятию Божьей благодати, кто прочтёт хотя бы несколько страниц его "Исповеди. Поэтому, цитаты из творений блаж. Августина я иногда привожу в своей книге], как к первым четырем, то по этой причине, чтобы не основываться на зыбком для меня основании, V век в своем исследовании я уже почти не брал во внимание, тем более последующие века. И в настоящей книге эта особенность отражена: после свидетельств Библии по каждой теме, где это уместно, приводятся свидетельства веры христианских отцов и учителей первых четырех веков [Свидетельств веры первых трёх веков Церкви в моей книге по некоторым темам приведено меньше, чем свидетельств IV века, и некоторые легкомысленные и неосведомлённые протестанты могут, заметив эту особенность, подумать так: "у отцов Церкви первых трёх веков было меньше отступления от истинной веры, чем у отцов IV-го века, потому и цитат в пользу православных отступлений у ранних писателей находится меньше". На самом же деле, причина тому заключается только в том, что, прежде всего, по причине гонений богословских сочинений первых трёх веков (особенно I-го и II-го) мы имеем во множество раз меньше, чем работ IV-го и дальнейших веков. Веру же проповедуют и утверждают одну и ту же как святые отцы первых веков, так и отцы IV-го века].
И здесь, еще раз забегая наперед, хочу поведать о своем огромном в свое время удивлении. Подходя к исследованию ранней христианской литературы, я был уверен, что она вся будет свидетельствовать в пользу протестантизма; что в ней не может обнаружиться никаких подтверждений современной православной (и, в чем я был полностью уверен, совершенно несуразной и еретической) практики иконопочитания, детокрещения, молитв святым и за усопших, крестного знамения, почитания мощей и всего подобного. И как сильно я поражался, когда по мере прочтения творений ранних учителей Церкви я по всем вопросам обнаруживал ясное и единогласное подтверждение православной, а не протестантской позиции!!!
Мне ясно запомнился один момент такого исследования. Изучив уже немало спорных вопросов и увидев, что древние свидетельства всегда говорят в пользу Православия, я приступил к изучению вопроса о причастии (хлебопреломлении). Я узнал о православной вере в то, что хлеб и вино, которыми причащаются верующие, во время богослужения становятся самим Телом и Кровью Христа [См. разбор этого вопроса в главе "О таинстве Святого Причастия"]. Для меня, как и для всякого протестанта, такое мнение казалось большой нелепостью. Я подумал: "ну неужели и это учение содержала Церковь из начала?" И в этот момент я как-то интуитивно, имея уже некоторый опыт в этом деле, со страхом [Со страхом потому, что такое подтверждение в очередной раз означало для меня то, что мне все-таки придется принять Православие, раз уж я решил найти Истину и принять её, и значит - пойти на многие лишения и скорби] осознал, что непременно обнаружу и в этом вопросе подтверждение Православия. И, уже не удивляясь, я действительно без труда нашел у ранних церковных писателей множество ясных подтверждений именно православной позиции. Становилось очевидным, что Православие ничего в догматике не искажало и не придумывало нового, а только сохраняло и сохраняет до ныне древнюю веру Церкви. Наше же возвращение к вере древней Церкви есть чистейшая иллюзия и страшная, пагубная ложь…
Теперь о третьем пункте, о логических размышлениях и доказательствах.
Мы - христиане, а Христа Ап. Иоанн называет Словом (по греч. логосом, что значит: слово, смысл, разум), откуда и происходит наше понятие о логике. Весь мир сотворен Божьим Логосом очень разумно, и во всем творении мы видим эту великую Божью премудрость: "все соделал Ты премудро" (Пс. 103:24). Именно эту истинную Божественную мудрость я имею в виду, говоря о логике, а не о той мудрости века сего, которую осуждает Ап. Павел (см., напр., 1 Кор. 1:20, 3:19). То есть в Боге и в христианской Вере все в высшей степени разумно, и наша душа, будучи сотворена по образу Божию, страстно желает во всем, тем более в вере, видеть этот логос - т.е. смысл, разумность, обоснованность. Хотя, по причине греховности, в человеке сильно исказился Богом данный логос, разум (учение Христа не всегда кажется людям разумным), тем не менее, мы всегда пытаемся понять смысл и значение христианских догматов и подстроить своё поврежденное мышление под Божественный разум и откровение, и душе легче принимать и твердо держаться таких догматов, смысл которых она глубоко понимает. То есть, нам не только хочется знать, действительно ли Бог есть Троица, но и понимать то, какое это имеет значение. Поэтому, убедившись в истинности того или иного догмата на основании Библии и учения древней Церкви, я всегда старался понять для себя его смысл, его согласованность с другими догматами и увидеть его закономерность и необходимость для христианской жизни и благочестия. С противоположной же стороны, осознав ложность какого либо учения, я желал видеть, действительно ли оно не разумно, противоречиво и какой вред в себе несет. Вот эту разумность православного учения, а также необоснованность и противоречивость протестантских суждений, в чем я полностью убедился, я и постарался показать в каждой главе своей книги.
Остается теперь сказать о свидетельствах от противного.
Дьявол, будучи тварью, далеко отстоит от Создателя и Противника своего в творческих способностях. Кроме того, он одержим страстью ругаться и святотатствовать над всем, что делает Бог. Поэтому, чаще всего он не создает ничего своего, а лишь подражает Богу и делает все то же самое, что и Бог, но только все - в извращенном виде, чтобы была возможность святотатствовать и глумиться над Богом! Бог есть Троица - и сатана создает свою лжетроицу: он сам, антихрист и лжепророк (см. Откр. 16:13); у Бога есть Церковь - и он создал себе свои сатанинские и другие лже-церкви и лже-религии; у Церкви есть Библия - и у дьявола есть своя сатанинская библия и т.д. Из-за этого очень ярко выраженного качества сатаны, его называют в богословии обезьяной Бога [Так именуют дьявола не только в православном богословии. В ДХУ я неоднократно слышал это выражение и от наших преподавателей, а также встречал его в протестантских книгах], по той ассоциации, что обезьяна часто кривляет человека и подражает его манерам. Эта мысль одна из важнейших в демонологии (а также - в антихристологии, так как антихрист ведёт себя точно таким образом, как и отец его диавол). Потому, если хорошо понять и усвоить эту особенность в поведении врага Христова и Его Церкви, то при наличии духовного чутья и способности анализировать дела дьявола (ведь нам должны быть "не безызвестны его умыслы" (2 Кор. 2:12)), мы сможем выявлять ту истину, которую он извращает. То есть, если мы видим, что дьявол (через своих слуг) очень глумиться над чем-либо, то это неспроста: значит, здесь есть что-то такое, что очень ему противно, а значит - истинно и свято! Таким образом, имея дар духовного рассуждения, через анализ действий дьявола, можно познавать истину и утверждаться в ней. Ведь написано, что любящим Бога все (в том числе и козни дьявольские) "содействует ко благу" (Рим. 8:28). Потому, для истинного христианина, размышление над делами дьявола не оскверняет его ("для чистых все чисто" (Тит. 1:1)), а только назидает и укрепляет в вере. Вот такие размышления над делами дьявола с выявлением той истины, которую он искажает, я и называю свидетельствами от противного. Лично для меня, в моем поиске истины, такие свидетельства часто имели очень большую силу и добивали остатки моих сомнений в истинности Православия, когда я понимал, что дьявол неистово искажает и противится Православной Церкви, её таинствам и духовным реалиям, а не нам, протестантам, и в этом жесточайшем противостоянии Бога и Церкви с дьяволом и его слугами, мы остаемся где-то в стороне. И если мы и ведем какую-то духовную брань, то сражаемся мы явно не на стороне Церкви, так как одни из первых её поносим и противостоим ей.
Посвящаю я свой труд, прежде всего, протестантам - моим бывшим единоверцам, тем из них, которым будет интересно узнать о причинах моего обращения в Православие. Очень прошу Вас дочитать мою книгу до конца. Я знаю, что духи обольщения будут придумывать множество поводов, чтобы удержать Вас от чтения этой книги и не позволить Вам впустить в душу столько правды, которую им потом в Вашей душе будет очень трудно подавить ложью, а если Ваша душа и совесть окажутся достаточно чисты, то и совершенно невозможно. В том, что протестанты действительно удерживаются какой-то сверх силой от чтения данной книги, я много раз убеждался, когда узнавал, что по прошествии многих лет после первого издания книги даже мои родители, родные братья и сестры и многие самые близкие родственники и друзья не прочитали ни страницы из моей книги. Хотя, казалось бы, одно только простое любопытство, необычность моего обращения (которое было для них как гром среди ясного неба), а также желание разубедить меня в Православии вернуть в свои ряды должны были бы непременно побудить их к прочтению и "разоблачению" книги. Но нет, дьяволу легче подавить в протестанте и любопытство и желание опровергнуть "заблуждение", чем потом ложью подавлять в душе протестанта столько ясных свидетельств об Истине.
Поэтому, если Вы, уважаемый мой протестантский читатель, действительно уверенны в том, что стоите в Истине, то Вам нечего бояться, ведь проверки боится не Истина, а ложь. Не уподобляйтесь "свидетелям Иеговы", которые из-за боязни разубедиться в своей лжи читают только свою литературу, а другие книги, особенно написанные против них, и в руки брать не желают. Свои книги вы читали и будете читать, но прочтите хотя бы одну православную. Ведь вы живете в стране, где большая часть её жителей, которых Вы стремитесь обратить в свою веру, считает себя православными. Вы же о Православной Вере практически ничего не знаете. Так прочтите мою книгу хотя бы для того, чтобы в общих чертах узнать, во что (и на каком основании) действительно веруют православные и что они отвечают Вам на Ваши обвинения в их адрес.
Свою книгу я посвящаю также сомневающимся, не церковным, но ищущим Истину душам (а также мало церковным православным), кто не примкнул еще к рядам протестантов, но в душе стал колебаться и раздумывать над такой перспективой, так как успел уже подпасть под влияние их обольстительной пропаганды и услышать от них много клеветы в адрес Православия, которая, из-за одностороннего взгляда и незнания православного учения, кажется им очень убедительной и отвращает их от Правой Веры, в которую многие из них были посвящены посредством таинств крещения и миропомазания. Если уж Вы действительно ищите Истину, то справедливости ради, как праведный судья, выслушайте не только одну, но и другую сторону, как написано: "первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследывает его" (Притч. 18:18). Если послушать одних протестантов, то они многим покажутся правыми, но при внимательном рассмотрении их основных противоречащих Православию догматов и верований, вся их ложь и противоречивость с лёгкостью и очевидностью вскрывается. Поэтому, раз уж Вы наслушались протестантских аргументов в свою пользу и против Православия, то тогда выслушайте и их соперников, а уж после того и принимайте окончательное решение - кому верить, а кому нет.
Кроме того, я уверен в Господе, что и моим православным братьям и сестрам, которые, благодарение Богу, вовсе не сомневаются в истинности Православия, эта книга принесет свою пользу. Во-первых, исторически всегда так было, что нападки на Православие со стороны еретиков и борьба с ними православных пастырей и апологетов только пробуждали в православных интерес к духовным вопросам и ревность по Богу, и еще больше укрепляли в их душах истинную Веру. Во-вторых, знание православных ответов на сектантские нападки может оказаться полезным в дискуссиях с протестантами и для утверждения в Вере сомневающихся.
Теперь, с Божьей помощью, рассмотрим те догматы и явления духовной жизни, в которых нет согласия между православными и протестантами, и постараемся понять, в чем заключается истина.
Если православный человек спросит любого протестанта, например, баптиста: "почему Вы баптист, а не православный?" - что он ему ответит? Если спрошенный окажется уж очень либерально и экуменистически настроенным, то он может ответить мягко, что он именно в этой вере покаялся, получил возрождение, познал Христа, и раз именно сюда призвал его Дух Святой, то здесь он и остается, не считая правильным перебегать из одной деноминации в другую. При этом он, как правило, сошлется на 1 Кор. 7:20, где сказано: "Каждый оставайся в том звании, в котором призван", и скорее всего добавит, что он вовсе не считает баптизм единственно правильной верой, и признает, что в других конфессиях также есть истинно верующие и что он вообще не считает важным, к какой деноминации принадлежать - лишь бы веровать Во Христа, любить Его всем сердцем и исполнять Его заповеди [О лживости такого экуменизма мы подробнее поговорим в главе 22].
Но настолько либерально к Православию настроено небольшое число протестантов [Сейчас практически все протестанты более или менее признают друг друга частью одной Христовой Церкви (т.е., например, пятидесятники - менонитов, а харизматы - баптистов), но православных мало кто считает частью истинной, а не отступнической Церкви]. Обычный же консервативный баптист ответит, что он баптист потому, что именно баптизм проповедует чистое Евангелие, а православные отступили от истинной Веры и… - далее он перечислит целый список догматов и реалий Православия (как то мощи, иконы, молитвы святым и за усопших, монашество и т.д.) которые, что для него совершенно очевидно, не согласуются с Библией, и потому являются причиной, по которой он не является и никак не может быть православным! Именно этот список ложных догматов, коими мы по заблуждению считаем многие истинные и прекрасно согласующиеся с Библией и учением древней Церкви православные догматы, служит для нас огромным камнем преткновения к изучению и принятию Православия. Мы думаем, что раз Православная Церковь отступила от Истины и впала в заблуждения, то значит, мы не должны (и, более того, это был бы великий грех!) в ней оставаться, а имеем право и даже обязаны основать свою правильную церковь по Библии.
Но так ли это? Правда ли то, что многие православные догматы не согласуются с Библией и верой первых христиан, а мы, протестанты, восстановили истинную, Православием утраченную веру? Ответу именно на этот вопрос и посвящена моя книга, ибо никакой честный диалог между Православием и протестантизмом невозможен без разговора о вопросах нас разделяющих. Вопросы эти можно разделить на две части и условно назвать их оборонительными и наступательными, так как при разговоре на одни темы протестанты нападают на православные догматы, православные же больше защищают свою веру, а по другим темам больше "нападают" православные, изобличая заблуждения протестантизма. И хотя такое разделение есть, повторю, вполне условное, так как при обсуждении всякого вопроса присутствуют оба эти элемента, все же разделение это вполне реально. Конечно, протестантам более приятны и памятны именно те вопросы, при которых они выступают обвинителями, ибо мы никогда не согласимся стать православными, если нам аргументировано не ответят на наши обвинения и не развеют их, ибо для нас они очень серьёзны. Другими словами, нас не столько интересует то, в чём нас обвиняют православные, сколько то, могут ли они дать ответ на наши обвинения. Вот поэтому я начинаю свою книгу не с таинств, которые по самой сути являются самыми важными вопросами и которые можно отнести скорее к вопросам наступательным, а с вопросов оборонительных, которые наиболее актуальны для нас.
Итак, рассмотрим основные учения Православной Церкви, с которыми не согласны протестанты, и посмотрим
1) согласуются ли они со Священным Писанием;
2) так ли веровала древняя Церковь;
3) насколько протестантские возражения разумно обоснованны и непротиворечивы и
4) на чью правоту указывают свидетельства от противного.
Православная Церковь имеет множество различных вещественных (материальных) святынь. К ним относятся святые места, святая вода, иконы, мощи святых, кресты, храмы и все, что в них находится (святые дары, миро, престол, антиминс, жертвенник, хоругви и проч.). В протестантском же мировоззрении понятие "материальная святыня" отсутствует, хотя на практике мы почитаем некоторые материальные предметы, не понимая того, что таковое почтение полностью противоречит нашему протестантскому богословию - об этом подробнее будет сказано ниже.
Наше отношение к вышеперечисленным святыням и аргументы против православного их почитания таковы: мы спасаемся по вере во Христа: зачем же нам весь этот ненужный груз каких-то святынь?
Кроме того, мы считаем, что Библия не учит почитанию святынь. Мы знаем, что о них что-то там говорится в Ветхом Завете [Т.к. протестанты читают Ветхий Завет, то они встречают там частые упоминания о различных материальных святынях, но чаще всего этим местам не придаётся никакого значения; они просто проходят мимо сознания протестанта], но к нам это не имеет отношения, так как Ветхий Завет был устранен Христом. Большинство же православных святынь есть ничто иное, как "изделия рук человеческих" (Ис. 37:19), и почитание их есть идолопоклонство. В своей истории баптисты, например, пишут, что первыми баптистами на Украине "поклонение кресту и иконам рассматривалось как идолопоклонство" ["История евангельских христиан-баптистов в СССР", изд. ВСЕХБ, 1989 г., стр. 66]. Такое отношение не только ко кресту и иконам, но и к другим святыням характерно практически для всего исторического и современного протестантизма. Благоговеть пред не рукотворными святынями (святые места, мощи) так же нет никакого основания, ибо это есть бездушная, мёртвая материя, а поклоняться нужно только Богу: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Мф. 4:10).
Кресту и иконам посвящены две нижеследующие главы. Здесь же поговорим о:
I. святынях как таковых и о возможности оказывать им почтение;
II. о возможности чудес посредством святынь;
III. о святых мощах;
IV. о святой воде и
V. о доказательствах от противного.
I. Суть православного понятия о святынях.
В основе православного почитания святынь лежит понимание того, что материя может как освящаться, так и оскверняться. Иными словами, она может воспринимать на себя, сохранять и сообщать (т.е. передавать, источать) благословение и освящающую благодать Божью.
Когда Бог сотворил землю, то вся она была, безусловно, свята, гармонична и исполнена и благодати Божьей. От общения с такой неповрежденной природой человек пребывал в радости, счастье и умиротворении. Другими словами, он черпал от неё данную ей Богом благодать, что говорит о способности материи быть проводником Божьей благодати. Когда же человек согрешил, то этим он осквернил и навел проклятие на всю землю: "проклята земля за тебя" (Быт. 3:17). Земля, хотя и не совсем, но в значительной мере лишилась благодати Божией, потому она стала произрастать сорную траву: "терния и волчцы произрастит она тебе" (Быт. 3:18); появились болезни, смерть, землетрясения, наводнения, смертельно опасные звери и растения, и тому подобные беды. И каждый человек своими грехами продолжает осквернять и наводить проклятие на землю. Потому на ней все эти негативные явления все больше умножаются. И из Св. Писания мы знаем, что самые ужасные и ещё не виданные катаклизмы во всей природе будут происходить во времена антихриста (см. Откр. 6 и 16 гл.), т.е. тогда, когда человечество будет грешить самым страшным образом. Сам Бог предупреждал израильтян говоря, что если они будут хранить Его заповеди, то они получат Его благословение, которое будет заключаться и в том, что земля будет хорошо плодоносить. И наоборот, если они будут грешить, то с ними будут случаться различные несчастья, в том числе и неблагоприятное отношение природы (см. Втор. 11:13-17).
Известно, что на земле есть проклятые места. Например, многие люди, побывавшие в местах, где ранее были фашистские или советские концлагеря, свидетельствуют, что они там чувствовали себя ужасно и что им хотелось скорее оттуда уйти. Почему так? Потому, что на этих местах было совершено большое количество преступлений - насилия и убийств; на этих местам находилось множество злых людей, объятых ненавистью друг ко другу. Из-за такого количества греха на небольшом пространстве эти места крайне осквернены и прокляты. Изначально всей земле Богом данная благодать из таких мест вытеснена более, чем из тех мест, где ничего подобного не происходило. Влияние бесов на душу человека в таких местах резко усилено. Вот потому ему так тягостно и жутко там находится. И напротив, человека всегда притягивают нетронутые места земли, а также святые места, именно потому, что они больше источают благодати Божьей: первые потому, что они меньше других осквернены человеческими грехами и более других мест сохраняют в себе первозданную благодать, а вторые - в силу особой их освященности.
Из этого следует ясный вывод, что духовное состояние человека прямым образом влияет на окружающую его материю, которая из-за его грехов оскверняется и проклинается, а из-за его святой жизни, естественно, освящается и благословляется. Просто Бог таким образом создал материю - способной к восприятию, а затем и к источению как благословения, так и проклятия. Это духовный закон. Если человек живет свято, то он исполняется благодати Божьей. От его духа освящается душа, от души - тело. Материальное наше тело (а не только душа) также может быть святым, как написано: "Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока…" (1 Фес. 5:23). От тела святого человека освящается его одежда, земля, по которой он ходил, и другие материальные вещи, с которыми он соприкасался.
В силу действия названного закона существует возможность получать благодать Божию, часто чудодейственную, посредством тех вещественных предметов, например одежды, с которыми соприкасался святой человек. Так, женщина, много лет страдавшая от тяжелой болезни, получила исцеление от прикосновения к краю одежды Иисуса (Мф. 9:20); Елисей остановил реку посредством милоти (плаща) святого пророка Илии (4 Цар. 2:14); больные и бесноватые исцелялись посредством того, что на них "возлагали платки и опоясания с тела Павла" (Деян. 19:12). Этих случаев мы не замечаем или не хотим замечать в Св. Писании, или, по крайней мере, не делаем из них никаких выводов и никак их не связываем с понятием о святыне. Мы не понимаем, что такие места Библии свидетельствуют о способности материи воспринимать на себя благодать Божью (т.е. освящаться) и быть проводником этой благодати.
Когда Бог являлся людям, то места такого явления освящались и становились святыми. Когда Бог явился Моисею в несгорающем кусте, то Он сказал ему: "…сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая" (Исх. 3:2-5). Даже если не Сам Бог, а только Его ангелы являлись людям, - места их явления также становились святыми. Когда Иисусу Навину явился "вождь воинства Господня" (Архангел Михаил), то приблизившемуся Иисусу он сказал: "сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято" (Иис. Нав. 5:13-15). Эти места освящались потому, что соприкасались со святыми стопами Бога или Его Ангелов, что еще раз говорит о реальности закона, по которому материя способна воспринимать на себя благодать Божью. Вот такая материя (земля, одежда и пр.), освятившаяся от соприкосновения с Богом, Ангелами или святыми людьми, и называется святыней.
Кроме того, всякая вещь, посвященная Богу, также является святыней. Известно, что в библейском языке "святой" значит "отделенный, избранный". Вещь, посвященная (отделенная) Богу становится святыней. Бог особым образом соприкасается с посвященной Ему вещью, благословляет и освящает её и имеет к ней особое отношение: таинственным образом Он связывает Себя со святыней и в ней пребывает Своей благодатью. И в Израильском народе было не мало материальных святынь. Вот главные из них.
1. Вся земля израильская была святыней, ибо Сам Бог избрал и освятил её для Себя и Своего народа, и о которой Он сказал, что это такая "земля, о которой Господь, Бог Твой, печется: очи Господа, Бога Твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года" (Втор. 11:12). Земельные уделы всех колен израилевых были святыней Господней, а уделы священников - "святыней из святынь" (Иез. 48:12,14).
2. Скиния была святыней потому, что она была местом богослужения и местом особого присутствия Божия. О ней Сам Бог сказал: "...устроят они мне святилище" (Исх. 25:8) - т.е. материальное сооружение, которое ни только само свято, но и предназначено освящать, т.е. передавать свою святость. Главная же часть скинии - алтарь - назывался "святое святых". И хотя скиния была ничем иным, как "изделием рук человеческих", материальной вещью, это не мешало быть есть великой святыней.
3. Иерусалимский храм был такой же святыней. И они (скиния и храм), естественно, не только воспринимали на себя божественную благодать и освящение, но и сообщали эту благодать и освящение людям и другим предметам, как свидетельствовал о том Сам Христос: "что больше: золото или храм, освящающий золото" (Мф. 23:17).
4. Скрижали завета были святынями потому, что на них были начертаны (на первых - Самим Богом, а на вторых - святым пророком Моисеем) заповеди Божии - Его святое слово.
5. Все храмовые и священнические принадлежности были святынями: "и помажь им (миром) скинию собрания и ковчег [скинии] откровения, и стол и все принадлежности его, и светильник и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его; и освяти их, и будет святыня великая: всё, прикасающееся к ним, освятится" (Исх. 30:26-29).
6. Все жертвоприношения были святыней: "посторонний не должен есть сего (мясо овна), ибо это святыня" (Исх. 29:33,34); "это (жертва повинности) великая святыня" (Лев. 7:1; ср. 6:25; 27:28); "это (кровь очистительной жертвы) святыня великая у Господа" (Исх. 30:10); "это (хлебное приношение) великая святыня из жертв Господних" (Лев. 2:3).
7. Ковчег Завета - особая, главная святыня Израиля, который находился в святейшем месте - во святая святых. В нем находились скрижали завета и посох Аарона, и с ним Бог себя связывал особым образом. Ему как святыне евреи поклонялись. Так, например Иисус Навин "...пал лицем своим на землю пред ковчегом Господним..." (Иис. Нав. 7:6).
И читая Ветхий Завет мы видим, что евреи очень почтительно относились к своим святыням, и всякое такое почтение (как и непочтение) относилось к Самому Богу, что говорит о том, хочу повториться, что Бог вполне конкретно связывал Себя со святынями.
Из обычной жизни мы можем понять, что значит святыня. Всякая вещь принадлежащая царю, например перстень или престол, является не обычной вещью, и если кто посмеет украсть царское кольцо или посидеть на царском троне, то такие дела будут расценены именно как личное оскорбление самому царю.
Чтобы убедиться в справедливости такой логики (хотя для разумного человека она и так понятна), давайте проанализируем отношение Бога, израильтян и даже язычников к Ковчегу Завета - главной святыне Израиля.
В библейском повествовании мы читаем о том, что Оза был наказан Богом смертью только за то, что он взялся за ковчег, не имея права прикасаться к нему, хотя он и имел благое побуждение - не дать ковчегу опрокинуться (см. 2 Цар. 6:6-8). И такое непочтительное отношение к святыне (к материальной вещи) было расценено Богом как непочтение к Нему Самому!
Филистимляне устрашились прибытия ковчега на поле боя и сказали: "Бог тот пришел к ним в стан" (1 Цар. 4:7). Неужели филистимляне не знали, что не ковчег является Богом евреев? Знали, но даже они понимали, что Бог тесно связан со своей главной святыней, как бы обитает в ней, и что с приходом святыни приходит и Сам Бог. И когда они захватили ковчег Завета и поставили его в храме своего бога Дагона, то он дважды падал пред ним (см. 1 Цар. 5,2-5). Кроме того, жители тех местах, куда привозили ковчег, заболевали страшными наростами и даже умирали, а также страдали от резкого умножения мышей (см. 1 Цар. 5,6). Т.е., Бог наказывал филистимлян за захват ковчега так, как будто они оскорбили Его Самого.
Конечно, ковчег не был сам по себе Богом, и филистимляне назвали его так по своему языческому мышлению. Богодухновенные же библейские писатели, такие как святые пророки Моисей и Давид, выражались точнее. Они не называли ковчег Богом, но признавали самую тесную связь Бога с Его главной святыней. Так, в понимании Моисея Бог был тесно связан с ковчегом завета. В Числ. 10:35,36 мы читаем: "Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои…. А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!". Т.е. Моисей ясно понимал, что между ковчегом (вещественной святыней) и Самим Богом есть прямая связь, и когда движется Ковчег, то с ним движется и Бог, а когда он останавливается, то и Бог останавливается.
В понимании псалмопевца Давида Иегова был похожим образом связан с ковчегом завета: "Стань, Господи, на место покоя Твоего, - Ты и ковчег могущества Твоего" (Пс. 131:8; 2 Пар. 6:41). Давид убоялся внести в свой дом ковчег завета, понимая, что с ним придет в его жилище Сам Бог: "И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег Божий?" (1 Пар. 13:12). Когда же его жена Мелхола упрекнула его за то, что он скакал и плясал перед ковчегом, Давид ответил: "Пред Господом плясать буду" (2 Цар. 6:16, 20, 21).
Все эти места показывают, что Бог каким-то духовным, мистическим образом связан со Своими святынями и Сам своею благодатью пребывает в них. Потому пред ковчегом как перед Самим Богом, приносили всесожжения (3 Цар. 3:15); кадили (Исх. 40:26-27); возжигали лампады (Исх. 37:17,23), поклонялись (Иис. Нав. 7:6). Одним словом, к ковчегу завета благочестивые евреи относились с благоговейным трепетом.
С подобным же почтением относились евреи и к Храму, оказывая ему всякую честь, вплоть до поклонения. Вот тому библейские примеры.
Пс. 5:8. Царь Давид говорит: "...поклонюсь святому храму Твоему".
Пс. 137:2: "Поклонюсь пред святым храмом Твоим...".
Пс. 131:7: "Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его" ["Подножие Его" - здесь значит Скиния, ибо во времена Давида каменный Храм ещё не был построен. Вообще же в Библии подножием Божиим называется как Скиния (а затем и Иерусалимский Храм - ср. 1 Пар.28:2; Пс. 131:7; Ис. 60:13; Иер. 2:1; Иез. 43:6,7), так и земля (см. Ис. 66:1; Мф. 5:35; Деян. 7:49). (Некоторые же места Ветхого Завета в местах о подножии Божием пророчествуют о подножии креста, к которому пригвоздили ноги Бога-Христа; об этом больше будет сказано в следующей главе)].
Пс. 98:5: "...поклоняйтесь подножию Его: свято оно".
Во всех этих случаях поклонение совершается не Богу непосредственно, но вещественной святыне, а точнее сказать - Богу посредством вещественной святыни! И разве были Давид и Иисус Навин идолопоклонниками оттого, что поклонялись Храму и ковчегу? Разве не является поклонение Божьей святыне одним из способов поклонения Самому Богу? Ясно, что всякое почтение, оказываемое вещественной святыне, из которых большая часть по своей сути было ни что иное, как "изделие рук человеческих", было почтением Самого Бога и весьма благочестивым делом, а никак не идолопоклонством. Таким же образом и православный христианин, оказывая почтение и поклоняясь Храму, Евангелию или другой святыне, тем самим оказывает почтение и поклонение Самому Богу, как делали это святой пророк Давид, Иисус Навин и остальные праведники Ветхого Завета. И то, что мы называем почитание святынь идолопоклонством и не различаем одного от другого, свет от тьмы, есть великое кощунство и заблуждение протестантизма, и, как минимум, свидетельство нашей духовной ограниченности и ущербности.
Или мы действительно думаем, что уважаемые многими протестантами православные писатели, такие, как А. Лопухин и священники А. Мень и Д. Дудко были при всем своем уме и духовном развитии грубыми идолопоклонниками, поклоняясь не живому Богу, а бездушным "изделиям рук человеческих"? Ведь православный священник, например, постоянно целует Евангелие, крест, престол, блюдо и чашу, на которых совершается Евхаристия, свое священническое облачение и т.п. Неужели это столько идолов и богов у него, и все это акты идолопоклонства? Нет. Просто мы не имеем никакого понятия о святынях, и не умеем отличать их от идолов.
На все вышесказанное у нас или нет ответа, или один: святыни были в Ветхом Завете, а мы живем по Завету Новому. А знают ли протестанты, что отменено, а что оставлено из Ветхого Завета в Церкви? Как правило, этот вопрос каждый решает на своё усмотрение. Где Новый Завет отменил святыни? Разве теперь, с приходом Христа, святые места явления Бога, такие как гора Синай, перестали быть святыми? Наоборот, святых мест стало еще больше. С приходом Христа явилась ещё более святая чем Синай гора - Голгофа, на которой был распят Христос. Вифлеем, гора Елеонская, Гефсиманский сад и другие места, где бывал Христос, стали величайшими святынями христиан. Весь город Иерусалим и весь Израиль есть святая земля, ибо там не только на малое время являлся Господь Бог, как раньше, но несколько лет жил во плоти и ходил по ней. С приходом Христа святынь и святости в мире стало больше, а не меньше.
Да, многие ветхозаветные святыни упразднились вместе с упразднением Ветхого Завета, или после разрушения Иерусалима просто исчезли. Местонахождение ковчега теперь точно неизвестно. Иерусалимский храм разрушен [Хотя до тех пор, пока этого не случилось, первые христиане, несмотря на то, что начался уже Новый Завет и ветхозаветные жертвы уже духовно были заменены жертвой чистого и непорочного Агнца Христа, продолжали посещать его и молится в нем (см. Деян. 3:1; 24:11), в том числе и Ап. Павел, который как никто другой проповедовал спасение по благодати и поклонение Богу в духе и истине, и который возгласил: "конец закона - Христос" (Рим. 10:4)]. Ветхозаветные жертвенник и жертвоприношения действительно упразднены крестом и жертвой Христа. Но святые места и само понятие святынь не может быть упразднено. Отпало только то, что было "детоводителем ко Христу" (ср. Галл. 3:24) и служило прообразом. С Новым же Заветом появились новые святыни: Храм и храмовые принадлежности изменились с ветхозаветных (прообразовательных) на новозаветные; появились новые святые места. И закон, о котором мы упоминали (т.е. способность материи воспринимать и сообщать благодать Божию) не изменился и не может быть изменен.
Протестанты не признают ни Храма, ни храмовых святынь, не желая вообще признавать такое понятие, как "вещественная святыня", или считая, что это понятие перестало существовать с окончанием Ветхого Завета. На самом же деле это не так, и в Деян. 15:16 мы находим важнейшее пророчество по этому поводу, где Господь говорит: "Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее". А в Евр. 9:10 Новый Завет называется по отношению к Завету Ветхому "временем исправления". В Новом Завете падшая скиния Давидова, - т.е. падший духовно с отвержением иудеями Христа и вскоре после этого разрушенный физически Иерусалимский Храм, - Богом воссоздаётся и исправляется. И главнейшие из этих исправлений заключаются в следующем.
1) Если в Ветхом Завете храм был только один, то теперь храм Богу может быть построен "на всяком месте" (1 Тим. 2:8), где есть поклоняющиеся Богу в духе и истине (ср. Ин. 4:23).
2) Иудейские кровавые храмовые жертвы, служившие прообразом жертвы Христа, вокруг которых было сосредоточено всё богослужение, заменено в храмах христианских "бескровной жертвой" - Евхаристией, вокруг которой также сосредоточено всё православное богослужение.
3) Храм по прежнему разделён на 3 части - святое святых (алтарь), святое (средняя часть храма) и притвор. Но люди в Новом Завете, благодаря жертве Христа, стали ближе к Богу. Если раньше народ израильский стоял в притворе, а священники служили в средней части храма - в святое святых же заходил только первосвященник один раз в год - то теперь народ стоит в храме, а священники служат в алтаре.
Кроме этого, исправлено, конечно же, и многое другое (подробнее об этом будет разговор в главе "о православном храме и богослужении"). Но главное то, что ветхозаветный храм с его святынями Богом не уничтожен, а воссоздан и исправлен. И этого протестанты совершенно не хотят понимать.
Теперь приведём несколько примеров того, как мы, называя почтение к святыне идолопоклонством, сами оказываем почтение некоторым материальным предметам и испытываем к ним некое благоговейное чувство. Вот эти примеры.
1) Во многих баптистских домах молитвы заведено так: тех, кто не является членом баптистского братства, не пускать не то что на кафедру, но даже и на то место, где находится хор. А на кафедру, которая у баптистов считается, пожалуй, самым святым местом, как правило, не заходит никто ни до, ни во время, ни после служения, кроме проповедников. В доме молитвы запрещается смеяться, громко говорить, шутить, играть и т.п. Это чувство - остатки того благоговения, которое питают православные к храму, в особенности к алтарю (подобием которого у нас является передняя часть дома молитвы, где располагается кафедра и хор).
Однажды, будучи уже членом Артёмовской общины ЕХБ, я с моим другом, придя на вечернее собрание раньше всех и поджидая остальных, беседовали, сидя на своих местах в хоре. Я готовился в ближайшее время начинать проповедовать, и этот момент меня очень волновал, прежде всего по причине моей молодости. Пользуясь случаем, я встал за кафедру, чтобы хоть как-то освоиться с кафедрой, хоть немного почувствовать себя на месте проповедника, и чтобы мой друг посмотрел на меня со стороны. Но дежуривший при молитвенном доме дьякон увидел это и сразу же сказал мне спуститься оттуда, объясняя, что с места, с которого проповедуется Слово Божие, нельзя вести обычные разговоры. Нам было понятно, что такое поведение дьякона было продиктовано некоторым чувством благоговения к святому месту.
Итак, почему мы запрещаем смеяться, бегать и шуметь в доме молитвы? Почему запрещаем кому зря даже просто зайти на кафедру? Очевидно что все эти правила продиктованы чувством необходимости благоговейного отношения к материальной святыне, которой является дом молитвы и кафедра, хотя чувство это у нас слабое и неосознанное.
2) Как ни странно, но некоторые протестанты способны даже чувствовать некоторое благоговение не только к дому молитвы, но и к тому, что православные называют святыми местами. Наш пастор, Кобзарь И.М., которому я прихожусь внучатым племянником, как-то рассказывал с кафедры всему собранию о своей поездке в Израиль. Он с сильным чувством говорил, что когда он был на Голгофе, то ему хотелось целовать камни на той горе, где был распят наш Спаситель Христос! Думаю, что у многих протестантов возникло бы на Голгофе подобное чувство. Это потому, что, как замечает блаженный Августин, душа каждого человека - христианка, и христианка именно православная, и она чувствует то, как должно выражать свою любовь к Богу. Наш пастор свидетельствовал, что ему хотелось приложиться к святыне, но он не приложился, не осмелился, так как ум его отравлен духом протестантизма, который удерживает человека от благодати святынь! Этот случай ярко иллюстрирует то, как двоятся мысли протестанта в подобных случаях. Душа протестанта, которая по природе своей православная христианка, ибо сотворена по образу православного Христа, желает приложиться к святыне, чувствует её благодать; ум же его, заражённый мудрствованием бесовским, противится этому. Потому Ап. Павел и пишет: "Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу" (2 Кор. 10:4). Вот эти бесовские замыслы, т.е. хитросплетенные протестантские аргументы, приводящие к отвержению, хуле и ненависти к Божьим святыням, нужно нам силою Истины пленить и покорить в послушание Христу, ибо почтительное отношение к святыням весьма угодно Богу и есть почтение Самого Бога.
Православные, будучи свободны от дьявольских наваждений в данном вопросе, когда бывают на Голгофе, в действительности не редко могут поцеловать эти святые камни. Так неужели они становятся идолопоклонниками, делая то, что протестантскому пастор только хотелось бы сделать? Другими словами, неужели желание нашего пастора поцеловать камни на Голгофе нужно расценивать как богопротивное желание (и дьявольское искушение) совершить акт идолопоклонства, в чём пастору нашему нужно раскаиваться? Нет, конечно, ведь он, желая поцеловать камни Голгофы, хотел тем самим почтить не материю бездушную, а пострадавшего за нас Христа. Размышляя над этой ситуацией все мы как-то смутно, но всё же понимаем, что камни на Голгофе чем-то отличаются от обычных камней, и что они как-то связанны со страданиями Христа.
3) У протестантов есть ещё и богослужебные святыни, хотя они, естественно, этим словом никогда не называются. К таким святыням у нас относится Библия и принадлежности к хлебопреломлению (чаша, блюдо и покрывальца) и сами хлеб и вино, на которых совершается хлебопреломление. В Православии весьма почитается Священное Писание, но богослужебное напрестольное (т.е. лежащее на престоле в алтаре храма) Евангелие почитается особо: его торжественно читают священнослужители, а также износят из алтаря к народу для поклонения и целования. Мы тоже почитаем Библию, обращаемся с ней осторожно и куда попало её не положим [Во время моей юности, когда я находился ещё в баптизме, наша молодежь сильно увлеклась постановкой разных театральных сценок. И вот однажды, когда одна из таких сценок разыгрывалась на собрании, девушка, игравшая роль неверующей, берет Библию и кидает её на пол под стул. Я помню, как у многих из нас при этом сжалось сердце, так как многие считали, что такого нельзя делать даже в сценке, тем более в доме молитвы. Нашему пастору этот эпизод также очень не понравился и в какой-то момент я видел, что он желал прервать всё это, но едва сдержался. Всё это говорит о том, что Библия является для баптистов некоторой вещественной святыней, к которой они относятся с благоговением. Хотя такое благоговение вовсе уже не свойственно для большинства американских протестантов. Во время учебы в ДХУ я многократно видел, как американцы, даже преподаватели богословия, на собраниях после прочтения отрывка из Библии клали её на пол под свой стул. Харизматы же вообще становятся на неё ногами (под мотивом наглядно показать, что Библия есть их основание) и часто со страшной силой швыряют её по сцене. Всё это показывает, что в своем пути протестантизм все дальше отходит от Православия и истинного благочестия, и остатки благочестивого страха консервативного баптиста в отношении к Библии и дому молитвы уже не обременяют совесть западных "прогрессивных" протестантов и харизматов. Последние уже с чистой совестью ставят в своих домах молитвы теннисные столы и играют во дворе молитвенного дома в волейбол], она для нас как некая святыня. И так же, как православные с особым благоговением относятся к напрестольному Евангелию, баптисты особо благоговейно относятся к Библии, лежащей на кафедре.
Принадлежности к хлебопреломлению мы также почитаем как некие вещественные святыни. Они для нас именно такие сосуды (материальные вещи), которые посвящены Богу и употребляются только на богослужении. И их мы никогда не употребим для другого дела, не поставим, к примеру, на обеденный стол, считая это делом недопустимым. Если бы кто-то из баптистов взял бы эту чашу, чтобы попить из неё воды, то такое поведение было бы нами расценено как кощунство и оскорбление святыни (хотя, повторю, этого термина мы бы не употребляли). Крошки с хлеба, используемого на вечере, баптисты также тщательно съедают, следя за тем, чтобы ни одна из них на пол не упала, а также, чтобы ни одна капля вина не пролилась. Зачем же так благоговеть перед бездушной материей и изделием рук человеческих? Т.е., отвергая святыни и почитание их на уровне разума, мы интуитивно, где-то в глубине сердца все равно понимаем, что есть места и материальные предметы святые, необычные, сокровенные, вызывающие чувство благоговения и требующие к себе должного и особо почтительного отношения.
Но эти примеры есть скудные остатки у баптистов и прочих протестантов того благоговейного чувства пред святынями, которым живет Церковь всю свою историю. На этих примерах, пожалуй, понятие протестантов о святынях заканчивается. То, что, например, пища может освящаться молитвою, протестанты уже с трудом признают. Хотя многие баптисты, садясь за стол, просят Бога в молитве "благословить и освятить эту пищу". Молятся они так только потому, что помнят слова Ап. Павла: "…(пища) освящается словом Божиим и молитвою" (1 Тим. 4:5). Но в то, что пища в действительности воспринимает на себя освящение и благодать, они, конечно, ни в коем случае не признают, ибо не веруют и не понимают того, что материя способна освящаться.
Будучи уже православным, в пасхальные дни я принес своим родителям (баптистам) несколько пасок. Мой отец (пастор) с сарказмом спросил у меня на украинском диалекте: "вони священни?" Я ответил, что он может в этом не сомневаться. Тогда он засмеялся и сказал, что нет никакой разницы, принес ли я их из магазина, или из Церкви. И дело здесь не в том, что он не верил в то, что Православная Церковь, являясь отступнической, как считают протестанты, имеет благодать освятить их, а в то, что эти пасхи, - равно как и любые другие материальные предметы, - вообще могут быть освящены.
Чтобы еще раз убедиться в том, что православные относятся к святыням не как к идолам или талисманам, - и что они, почитая материальную святыню, почитают тем Самого Бога и благодать Духа Святого, которая сообщается святыне, - обратимся к словам молитв, которые произносит священник во время освящения тех или иных предметов.
Вот молитва, читаемая над елеем, которым будет помазываться дом при освящении: "Господи Боже наш, призри ныне милостиво на молитву мою, смиренного [В Православии это слово обозначает (в подобном контексте): наименьшего, осознающего свою никчемность] и недостойного раба Твоего, и ниспошли благодать пресвятаго Твоего Духа на елей сей, и освяти его: да будет он во освящение места сего и на нем сооруженного дома, и на прогнание всякой вражеской силы и сатанинских наветов. Ибо Ты есть всё благословляющий и освящающий, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь" [Здесь и далее для большей ясности молитвы приводятся в русском переводе].
А вот молитва на освящение богослужебных сосудов, используемых для совершения таинства причастия: "Владыко Вседержителю, Господи Боже наш, давший Моисею рабу Твоему закон, заповеди и уставы, и в храме Твоём, во славу пресвятаго имени Твоего сооружённом, сосуды золотые и серебряные для приношения различных жертв Тебе истинному Богу нашему (что было тенью и образом нынешней истинной бескровной нашей жертвы) Ты повелел изготовить и освятить. И ныне Ты Сам, Человеколюбец Господи, благослови дискос [блюдо, на которое полагается святой хлеб (просфора)] сей, чашу, звездицу [(символ Вифлеемской звезды) состоит из двух положенных накрест, закреплённых в центре и загнутых металлических пластин, образующих при раскрытии купол. На звездицу, поставленную на дискос, полагается одно из двух покровцов] и лжицу [особая маленькая ложечка для причащения миря] с покровами их, и освяти их силою, действием и благодатию всесвятаго и животворящего Твоего Духа, дабы приносилась Тебе на них истинная, живая, бескровная и словесная жертва, пресвятое тело великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, который ради нас и нашего ради спасения Тебе Богу и Отцу Своему единожды самого Себя в жертву благоприятную на крестном жертвеннике принёс. Тебе же с Ним и с пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом подобает всяческая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков, аминь".
Все остальные молитвы на освящение различных предметов написаны в том же духе. Православная Церковь молится об освящении материи, она призывает благодать Святого Духа на материю, и почитает эти материальные предметы, (которые она называет святынями) только в связи с тем, что они посвящены Богу и становятся средствами освящения. Поэтому православными через святыни почитается благодать Божия, Сам Бог. И считать, что православные вместо живого Бога почитают бездушных, чуждых Богу идолов просто кощунство и богохульство. Только от безумия и слепой ненависти к Православию, которую посеял в нас враг душ человеческих, можно так бессовестно клеветать на Церковь, как делаем это мы, протестанты.
II. Теперь задумаемся о чудесах, которые Бог часто творит посредством святынь.
Мы уже упомянули, что через ковчег завета Господь сокрушил филистимского идола Дагона и самих филистимлян жестоко наказал. Посредством жезла Моисей творил чудеса - разделял море и высекал воду из скалы (Исх. 7:12; Числ. 20:11). От одного взгляда на медного змея смертельно больные исцелялись (Числ. 21:8-9). Кроме этого, от соприкосновения с костями святого пророка Божия Елисея ожил мертвец (4 Цар. 13:21); милотью Илии Елисей остановил реку (4 Цар. 2:14); краем одежды Иисуса была исцелена женщина (Мф. 9:20); платки и опоясания с тела [Исцеляли не только опоясания и платки, принадлежавшие святому Апостолу Христову; исцеляла даже тень, падающая от тела другого первоверховного Апостола - Петра (Деян. 5:15)] Ап. Павла также исцеляли (Деян. 19:12), о чем мы уже также упоминали.
Подобные чудеса (посредством святынь) происходят до сих пор в Церкви, ибо "Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же" (Евр. 13:8). В Православии апостольским веком чудеса не закончились. Они продолжают происходить. В наше время в Церкви есть не мало так называемых чудотворных икон. Это такие иконы, которые чудесным образом мироточат, слезоточат, а иногда и кровоточат, чему нельзя дать никакого научного объяснения. Просто на иконе чудесно появляются слёзы, миро или кровь. К чудотворным иконам относятся также такие иконы, о которых многие верующие единодушно свидетельствуют, что после молитвы пред ними они быстро и явно получили ответ на свои молитвы. Таких свидетельств в Церкви много и о мощах святых.
Конечно, слышать такое протестанту - чистое мучение. Если для нашего слуха одни только такие слова, как "мощи" и "иконы" звучат ругательно, то словосочетание "чудотворные иконы" нас просто коробит. На самом же деле, подобные словосочетания только выражают веру Церкви в то, что Бог и до сего дня совершает чудеса [И если масоны или какие либо другие слуги дьявола сделали несколько подделок, а потом нарочно громко и сенсационно их разоблачили, о чем могли слышать и протестанты, то эти случаи не отменяют истинных чудес, происходящих от святынь] посредством материальных святынь, как Он совершал их в былые времена. Ведь мы с легкостью и без всякой неприязни верим, когда читаем о чудесах от святынь, описанные в Библии, но стоит нам только услышать о том, что подобные чудеса происходили и после Апостолов, а тем более о том, что они происходят и в наше время - мы сразу отказываемся верить в это и говорим, что это все - обман или дьявольские проделки.
В связи с библейскими чудесами, происходившими посредством материальных вещей (святынь) мы скажем, что ведь это не одежда, кости и ковчег чудотворили, а Бог через них, поэтому сами эти вещи не имеют никакого значения и ценности. Православные прекрасно понимают, что святыни чудотворят не сами по себе, а Бог через них. Но ведь Бог сотворил эти чудеса не через чью попало одежду и кости, тем более нечестивца, и не через простой красивый сундук, а через одежду и кости именно Своих праведников и святых, и через Свой ковчег, Свою святыню!
Одна из самых ярко выраженных характерных черт протестантизма заключается в отсечении [Потому Церковь и называет таких людей сектантами, ведь латинское слово secta значит "отсекать". Сектанты это те, которые усекают истину, тем самим самих себя отсекая от Христа и Церкви] значительной части Истины. Реформаторы, желая отсечь человеческие предания от Истины, сильно перестарались и вместе с католическими заблуждениями отсекли много Истины. Если признать (или хотя бы учитывать) такой взгляд Православия (что католицизм пошел путем нововведений и прибавил много лишнего к Православию, а протестантизм при отсечении этого лишнего отсек вместе с ним и много Истины - Православие же держится золотой середины), то многие спорные вопросы веры между тремя этими направлениями христианства быстрее проясняются. В других главах мы ещё не раз выявим эту характерную черту протестантизма в различных богословских вопросах. Так вот в вопросе о чудесах от святынь протестантизм оставил одну часть истины, - именно ту, что совершаются они силой Божьей и источник этих чудес есть Сам Бог, с чем от всей души согласны и православные, - другую же часть истины, - что проводником и средством этих чудес есть вещественные святыни, которые тоже имеют свое важное значение, - он отвергает и не желает о ней ничего знать, кроме того, что все эти святыни есть прах (ср. Быт. 3:19) или ничтожные и ничего не значащие изделия рук человеческих. Разумно ли это?
Здесь важно также сказать о том, что большинство протестантов (кроме, пожалуй, пятидесятников и харизматов) считают, что веком Апостолов явные чудеса (а также пророчества и явления Христа и святых) в Церкви закончились, и что знамения и чудеса являет теперь только дьявол для обольщения людей. Но такая позиция не имеет никакого подтверждения в Библии. Наоборот мы знаем, что "Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же". Поэтому, как в век апостольский, так и в любое время Он может совершать любые чудеса, и в этом Он нигде и никогда Себя не ограничивал. Мы можем только заметить, что при жизни Христа и Апостолов чудес совершалось больше, чем сейчас, и этому есть, на мой взгляд, вполне разумное объяснение.
Дело в том, что Бог ведёт историю человечества по Своему плану, где всему есть своё время: "всему свое время, и время всякой вещи под небом" (Екк. 3:1). Есть время для обильных чудес и знамений, а есть время для умеренности в чудотворениях; точно так же, как есть время, когда Бог много говорил людям (как при Моисее, пророках и, тем более, при Христе), а есть время, когда Бог говорит мало и редко, как написано: "слово Господне было редко в те дни, видения были не часты" (1 Цар. 3:1).
Так вот, во всей истории мы можем отметить 4-ре периода, когда Бог являл (и явит) великие, обильные чудеса. Первый и последний из этих периодов связанны с началом и концом мира, а второй и третий - с рождением Ветхозаветной и Новозаветной Церкви.
Первый период был при сотворении мира, когда Бог одним Своим словом творил великие чудеса, вызывая Свое творение из небытия: "И сказал Бог: да будет свет. И стал свет… И сказал Бог: да будет твердь посреди воды… И сказал Бог: да будут светила… И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую… И стало так" (Быт. 1 гл.)
Второй период был при Моисее, когда Бог совершал много великих чудес: десять казней Египетских, переход посуху через Чермное море и реку Иордан, источение воды из скалы, манна небесная, облако огненное и облачное и т.д. Эти чудеса и знамения нужны были для образования Ветхозаветной Церкви.
Третий период обильных и великих чудес, описание которых мы часто встречаем при чтении Евангелия и Деяний Апостольских, был при Христе и Апостолах. Эти чудеса были нужны для создания Новозаветной Церкви.
И последний период обильных чудес будет при конце мира, когда во времена антихриста, ещё до прихода Христа, Божьи пророки Енох и Илия будут творить великие знамения и чудеса (см. Откр. 11:3-6) в противовес чудесам, которые будет творить лжепророк (см. Откр. 13:13,14; 19:20). Кроме того, Бог через Своих Ангелов будет карать землю необычными способами (см. Откр. 6 и 16 гл.), а затем Сам явится, поразит антихриста и его армию (Откр. 19:19-21) и сотворит новое небо и новую землю (Откр. 21:1-5) - т.е. явит множество великих чудес.
Необходимость обильных чудес во все указанные четыре периода истории человечества вполне понятна и обоснована, но наличие таких периодов интенсивных чудотворений вовсе не обозначает, что все остальное время Бог не совершает вообще никаких чудес. И мы знаем, что в промежутках между этими четырьмя периодами также происходили чудеса.
От сотворения мира до Моисея совершались чудеса: Бог "изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни" (Быт. 3:24); восхитил Еноха живым на небо (Быт. 5:24); навел на землю потоп (Быт. 6:17); смешал языки на земле (Быт. 11:6-9); являлся Каину, Аврааму, Иакову и говорил с ними (Быт. 4:9-16; 12:7; 18:1-33; 35:9).
От Моисея до Христа также происходили чудеса: Иисус Навин остановил солнце (И.Нав. 10:12-14); стены Иерихона пали вопреки законам природы (И.Нав. 6:19), а однажды, когда Израиль воевал с Аморреями, "Господь бросал на них с небес большие камни [града] до самого Азека, и они умирали" (И.Нав. 10:11). Много чудес происходило также от ковчега завета, о чём мы уже упоминали. Много чудес совершалось и пророком Илиёй, который воскрешал мёртвых, закрывал небо, чтобы не было дождя, низводил огонь с неба, останавливал реку и творил много других чудес, равно как и его слуга, ученик и приемник пророк Елисей.
Итак, мы видим, что есть четыре периода в истории человечества, когда Бог являет много великих чудес, и что между этими периодами чудеса также происходят, хотя и не так много. Почему же в один из промежутков между этими периодами, то есть от Апостолов и до Великой Скорби, не должно быть никаких чудес? Такой причины нет, и отрицание многими протестантами чудес продиктовано эпохой Возрождения, для которой было характерно отрицать всякое чудо и давать всему рациональное объяснение. Но как во все времена, так и сейчас, Бог совершает чудеса, многие из которых совершаются посредством вещественных святынь. Например, широко известно, что уже на протяжении многих столетий с честной главы святого Николая Чудотворца в итальянском г. Бари ежегодно собирают целую чашу мира, которое чудесным образом выступает и стекает с его главы и которое - неземного происхождения.
Для того чтобы нам было легче осознать почти полный пробел в нашем богословском мировоззрении относительно святынь, давайте задуматься о том, что бы мы делали, если бы в наши руки попали те самые "платки и опоясания с тела" Ап. Павла, посредством которых происходили исцеления больных? Для нас бы это стало великим соблазном и камнем преткновения. Что с ними делать? Подражая первым христианам прилаживать их к больным? Нет, это как-то противоречит всем нашим понятиям. Выкинуть? Тоже не вариант, как-то уж слишком. Если бы эти вещи были из Ветхого Завета, то мы бы могли сказать, что мы живем по Новому Завету и не нужно нам в новые мехи вливать старое вино. Но эти вещи из Деяний Апостольских, а как быть с ними - не понятно. То чувство растерянности, которое возникает у нас при размышлении над данной ситуацией, как раз и свидетельствует о том, что протестантская вера и мироощущение совсем не такие, какие были у первых христиан.
Для православных же никакого вопроса в такой ситуации не возникло бы. Они бы поступили точно так же, как первые христиане - стали бы прикладывать [Но только для того, чтобы был порядок при большом стечении народа, и чтобы при бесчисленном передавании из рук в руки эти великие святыни не повредились, их бы положили на середину храма в киот, чтобы все желающие могли сами приложиться к ним] эти святыни ко всем и больным, и здоровым [В библейском повествовании не сказано о том, что эти платки и опоясания прикладывали только к больным, но о том, что от такого соприкосновения те, кто были больны, исцелялись], с жаждой по мере возможности приобщиться к духу и благодати великого Апостола. Такая ясная позиция православных в данном вопросе (и растерянная наша) свидетельствует о том, что по крайней мере в вопросе о вещественных святынях православные единомышленны и единодушны с первыми христианами, а не мы.
III. О святых мощах.
Если понять все вышесказанное в первых двух пунктах данной главы, то вопрос о мощах не станет для нас камнем преткновения или соблазна. Повторим, что от святой жизни человек исполняется Духом Святым, который освящает его дух, душу и тело. При наступлении смерти, душа святого человека оставляет тело, которое, разлучившись с душой, не теряет своей освященности. Это можно сравнить со святым местом, которое остается святым и после того, как его Бог уже покинул. Гора Синай была святым местом не только во время присутствия на ней Бога, но остаётся святыней и теперь, равно как и гора Голгофа и другие святые места. И останки (мощи) некоторых святых остались в Церкви до сего дня. К ним верующие с благоговением прикладываются и часто получают исцеления, чему свидетельств в Церкви бесчисленное множество.
И как бы мы не хотели всё сказанное опровергнуть как негодные басни и ересь, мы должны понять, что, во-первых, верить в возможность получения благодати, в том числе и исцеляющей, от мощей святого человека легче, чем в то, что его можно получить от его платков и опоясаний. Ведь мощи это часть тела святого, которое было в тесном соприкосновении с душой святого, а платки и опоясания имели непосредственное соприкосновение только с телом, т.е. освятились от святой души посредством тела.
Во-вторых, Библия нам дает явный пример того, как от мощей святого пророка Елисея произошло не просто исцеление, но воскрешение мертвеца, и этого не нужно упускать из виду. И это притом, что воскрешение есть большее чудо, чем исцеление, и в Новом Завете больше благодати, чем было в Ветхом.
И, в-третьих, у нас осталось, слава Богу, множество свидетельств о том, что первые христиане свято хранили и всячески чтили останки мучеников, часто получая при их посредстве исцеления.
С этими свидетельствами в достаточно большом объёме читатель может познакомиться ниже. Сейчас же рассмотрим, каково было отношение к человеческим останкам в древнем Израиле. Анализируя места Ветхого Завета касающиеся данного вопроса, можно заметить три важных момента.
1) Евреи весьма благоговейно и почтительно относились к останкам своих предков, особенно людей важных - патриархов, пророков и царей. О своих останках патриархи делали особые завещания. Так, Иаков перед смертью заповедал вывести тело его из Египта и похоронить его вместе с отцами его - Авраамом и Исааком (Быт. 49:29-33). И Иосиф тщательно исполнил просьбу своего отца. Тело его он приказал забальзамировать, и после 70-ти дней плача с почестями перевёз и похоронил его.
О смерти самого Иосифа мы читаем так: "И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте" (Быт. 50:24-26). Когда же пророчество Иосифа исполнилось, и евреи спустя 400 лет действительно вышли из Египта, то они исполнили его наказ: "И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда" (Исх. 13:19). И Ап. Павел оценивает завещание Иосифа о своих костях как великое дело веры: "Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих" (Евр. 11:22).
И во всё время 40-летнего странствования по пустыне, евреи носили тело Иосифа с собой. И только когда земля обетованная была завоёвана при Иисусе Навине, тело Иосифы было с почестями похоронено. Причём Дух Святой нашёл важным точно указать место его захоронения: "И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова" (Ис. Нав. 24:32).
Таким образом, 400 лет в Египте, 40 лет в пустыне и, естественно, в последующее время евреи благоговейно сохраняли и почитали тело Иосифа. В книге Сираха мы находим об этом прямое свидетельство: "и не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев, опора народа, - и кости его были почтены" (Сир. 49:17).
В 3 Цар. 13-й главе мы читаем трагическую историю о двух безымянных людях - "человеке Божием" и "пророке-старце". Хотя первый был умервшлен львом за непослушание Божьему слову, но старец всё равно с почтением похоронил его: "И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: увы, брат мой! После погребения его он сказал сыновьям своим: когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий; подле костей его положите кости мои; ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вефиле и о всех капищах на высотах, в городах Самарийских".
Ап. Пётр в своей знаменитой проповеди упоминает о гробнице Давида как о всем известном достоянии и ценности Израиля: "Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня" (Деян. 2:29). То есть, несмотря на многолетний плен многочисленные беды, евреи сохраняли гробницу Давида и помнили о её местонахождении.
Нужно сказать, что погребение тела почившего было в Израиле не просто средством избавиться от ненужной разлагающейся вещи - источника дурного запаха и инфекций; это было делом особенно благочестивым. Так, для того, чтобы достойно похоронить тело Саулово, израильтяне рисковали жизнью, придя к воротам врагов снять его тело (см. 1 Пар. 10:12). Также Товит, перечисляя свои благодеяния, особое место уделяет погребению умерших братьев, и именно за это дело он лишился всего и едва ли не самой жизни: "Во дни Енемессара я делал много благодеяний братьям моим: алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его. Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Сеннахирим, когда, обращенный в бегство, возвратился из Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупы, но их не находили. Один из Ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их; тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города. И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего" (Тов. 1:16-20).
Итак, если останки людей, даже святых и праведных, есть просто земля и ничтожный прах [К своей главе "поклонение мощам" П. Рогозин, естественно, поставил эпиграфом именно Быт. 3:19: "Ибо прах ты, и в прах возвратишься", с первой же строчки заявляя об отношении протестантизма к мощам святых] и пепел, то для чего благочестивые евреи готовы были рисковать жизнью, ради отдания последних почестей этому праху? Для чего они бальзамировали трупы Иакова и Иосифа? Для чего оказывали столько чести праху? Для чего тело Иосифа евреи столько лет сохраняли и носили с собой? Для чего о своих безжизненных телах, которые в глазах протестантов есть ничто, патриархи делали торжественные завещания и страшные заклятия? Протестантам совершенно не свойственно и чуждо библейское отношение к останкам своих братьев: они не помнят о местах захоронения знаменитейших из своих братьев, и даже своих основателей. Какой баптист знает о том, где похоронены наши баптистские патриархи - Н. Воронин, В. Павлов, И. Рябошапка, И. Проханов, И. Каргель? Кто хотя бы иногда ходит на их могилы и ухаживает за ними? Кто, например, из нашей артёмовской общины знает, где похоронен пастор, предшествовавший настоящему, и как вообще было его имя? Православные же, как и древние евреи, очень почтительно относятся к памяти, гробницам и останкам своих братьев, особенно святых. Они, подобно евреям, помнят дни кончины своих святых, места их погребения, и знают, где находятся честные мощи их. Это говорит о том, что православные, а не мы, протестанты, близки к библейскому мировоззрению и традиции.
В опровержение того, что почитание останков праведников есть дело благочестивое и богоугодное, протестанты часто говорят, что Христос обличал фарисеев за то, что они строили гробницы пророкам: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников" (Мф. 23:29). Но аргумент этот совершенно нелеп, ибо по контексту речи Христа совершенно понятно, что осуждал Он не за то, что фарисеи строили праведникам гробницы, а за лицемерие и не соответствие их дел внутреннему их состоянию: строя гробницы и памятники пророкам, они не слушали голоса этих пророков и гнали Христа, самого Господа всех пророков и праведников. Ведь в этой же речи Христос осуждает книжников и фарисеев за то, что они отдавали Богу "десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру" (Мф. 23:23). Но если бы они не оставили важнейшего в законе, то Христос никогда бы их не осудил за исполнение и малейших заповедей, ведь и Сам Он сказал, что "сие надлежало делать, и того не оставлять" (Мф. 23:23). Христос обличал фарисеев не только в этом, говоря: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды" (Мф. 23:25). Ведь и в данном случае понятно, что Христос не был защитником грязной посуды, а упрекал фарисеев за нечистоту сердца, и если бы душа их была чиста, то Господу было бы приятна и забота их о чистоте чаш и блюд. Таким образом, если бы фарисеи почитали гробницы пророков не лицемерно, а искренно, делая дела их, исполняя их слова и принимая Христа, то Господь никогда их не осудил бы за то, что они по любви к памяти пророков строили и украшали их гробницы.
2) Если почтительное отношение к телу покойного было в Израиле делом особого благочестия, то, с обратной стороны, непочтение к останкам человека было великим грехом. Так, даже язычников моавитян Бог обещает покарать за их надругательство над останками царя Едомского, притом даже, что последний был их врагом: "Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь" (Ам. 2:1).
Кроме того, страшным наказанием и проклятием для евреев была перспектива того, что кости их будут поруганы. Так, в Иез. 6:5 мы читаем пророчество: "и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших". Подобные слова мы встречаем и в Иер. 8:1,2: "В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их; и раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут навозом на земле". И когда эти слова исполнились, то такое бесчестие к останкам предков воспринималось евреями именно как великий позор и бесчестие, и страшное наказание Божье: "Но мы не послушали гласа Твоего, чтобы служить царю вавилонскому, и Ты исполнил слова Твои, которые говорил чрез рабов Твоих, пророков, что вынесены будут кости царей наших и кости отцов наших из места своего. И вот, они выброшены на дневной зной и ночной холод..." (Вар. 2:24,25).
Также и человека Божия за неповиновение Господь наказал тем, что тело его не было похоронено с отцами его: "И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеления, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: "не ешь хлеба и не пей воды", тело твое не войдет в гробницу отцов твоих" (3 Цар. 13:21,22).
Итак, если безжизненное тело человека есть просто прах (и ничего больше), то почему же тогда за непочтение к ничего незначащему праху Бог наказывает? Почему же положить этот прах на дорогу считалось у евреев страшным проклятием и бесчестием? Не потому ли, что останки людей, особенно Божиих, есть не просто прах и ничто, а имеют ценность и честь [Мощи святых православные называют именно "честными"]? И если они есть ничто; если они обладают ценностью и честью не большей, чем любой камень или прах под ногами, то почему же тогда для евреев было таким страшным бесчестием и наказанием Божиим, если кости их предков и царей были выбрасываемы на дорогу?
3) Ветхий Завет пророчествует о славе мощей праведников. Так, в Ис. 66:14 мы читаем: "И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается". Праведным судьям, "которых сердце не заблуждалось и которые не отвращались от Господа", Сирах желает: "Да процветут кости их от места своего" (Сир. 46:13,14). Того же он желает и святым пророкам Божиим: "И двенадцать пророков - да процветут кости их от места своего! - утешали Иакова и спасали их верною надеждою" (Сир. 49:12). Эти места Св. Писания пророчествуют прежде всего о воскресении праведных, но также и о славе их мощей. "Кости процветут" значит "воскреснут", а также "прославятся". И Церковь, прославляя мощи святых, исполняет это пророчество.
В связи с настоящим разговором важно отметить, что в Ветхом Завете все праведники шли в ад [Смотреть разбор этого вопроса в главе 4, ответ на возражение 7] и их души не могли свободно действовать и помогать людям через свои мощи. Потому почитание мощей в Ветхом Завете не было так развито, как в Новом. После того же, как Христос разрушил ад и возвел в рай всех праведников, то святые и праведники Нового Завета, минуя ад, сразу восходят на небеса, и Господь дал им возможность быть не безучастными в деле спасения тех, кто проходит ещё своё земное поприще, а всячески содействовать своим ближним, в том числе и посредством своих мощей.
Теперь обратимся к свидетельствам древней Церкви [Так как тема о почитании честных мощей тесно связанна с темой о почитанием самих святых и молитвам к ним, то здесь приводится только одна часть цитат из отцов Церкви. С другой частью можно познакомиться в 3-й главе настоящей книги, особенно в разделе III. Вообще нужно сказать, что понять отношение Церкви к мощам можно только в связи с её учением о почитании святых].
Святой Поликарп (70-156 гг.), ученик самого Иоанна Богослова, им поставленный во епископа Смирнского, был, по выражению Иеронима, "вождем всей Азии" в христианстве и окончил жизнь мученичеством за Христа. О его допросе, истязаниях, непоколебимости в вере и славной кончине смирнская Церковь подробно описала в своём послании, адресованном церкви Филомелийской и "всем общинам святой и кафолической Церкви, пребывающим во всяком месте". Послание это было написано живыми свидетелями кончины св. Поликарпа вскоре после его смерти (не позднее 157 года), и потому оно является одним из первых "мученических актов", дошедших до нас.
Так вот, в конце данного документа мы находим такие слова: "Центурион, видя иудейскую склочность, положил его тело на виду у всех, как это у них принято, и сжег его; мы же потом собрали его кости, которые дороже драгоценных камней и благороднее золота, и положили их, где следовало. Там по возможности Господь даст и нам, собравшимся в ликовании и радости, отпраздновать день рождения Его мученика в память прежних борцов за веру, в поучение и подготовку будущих". Заметим важнейшие детали.
1) Смирнские христиане с благоговением собрали кости св. Поликарпа и положили их в особом месте, где в дальнейшем они намеревались торжественно день рождения мученика, т.е. день его блаженной кончины. Это описание полностью соответствует православному отношению к мощам, но никак не нашему. Ведь мы никогда не собираемся у гробниц своих мучеников и не совершаем там в их память богослужений.
2) Данное послание не является выражением частного отношения к святым мощам одного человека. Так относилась к мощам не только вся смирнская Церковь, но и другие поместные Церкви, которым она адресует своё послание с полной уверенностью, что те являются с нею единомышленниками.
Подобное свидетельство мы имеем и о кончине Игнатия Богоносца (ум. 107 г.): "Исполнилось желание св. мученика Игнатия, чтобы не обременить никого из братий собиранием его останков, так как он еще прежде в письме желал, чтобы таков был конец его. Ибо остались только твердейшие части его тела, которые отвезены в Антиохию и положены в полотно, как неоценимое сокровище; по благодати, обитавшей в мученике, оставленное св. Церкви" (Цит. по "Православно-догматическое богословие", том II, с. 567).
Евсевий Кесарийский (263-340 гг.): "У нас обычай и посещать гробы (святых), и совершать здесь молитвы, и чтить блаженные их души, - и это признаем мы делом справедливым" [Т.2, С. 560].
Св. Иоанн Златоуст (IV в.). Для начала стоит заметить, что сей великий отец и учитель Церкви отличался великой святостью жизни и ревностью по Богу, чего не желают отрицать даже многие протестанты. Баптистский историк и магистр богословия М.В. Иванов, например, в своей "Истории христианства" называет И. Златоуста "благочестивым старцем" и оценивает его так: "величайший проповедник, прекрасные проповеди которого до сих пор переиздаются на многих языках и назидают многих верующих" (М.В. Иванов. История христианства. Изд. "Библия для всех". СПб. 2000 г. стр. 28.). Таким же положительным образом оценивают Златоуста и многие другие протестанты, которые уважают и не редко читают его труды, особенно проповеди. Так вот, этот великий воин Христов оставил нам такое множество поучений о должном почитании святых и их честных останков, что процитировать их все не представляется возможным. Поэтому, приведём только некоторые из них (параллельно обращая внимание не только на учение св. И. Златоуста о св. мощах, но и на его учение о молитвах святых и о молитвах к святым, о чём мы подробнее будем говорить в главе 4).
1) "Скажи мне, где гроб Александра (Македонского)? Укажи мне и скажи, в какой день он умер? А рабов Христовых и гробы славны, так как находятся в царственном городе, и дни кончины известны, так как составляют торжество для целой вселенной. Александрова гроба не знают и свои; а гроб Христов знают и варвары. И гробы рабов Распятого блистательнее царских дворцов, не только по величине и красоте строений, - хотя и в этом отношении они превосходнее, - но, что гораздо важнее, по ревности стекающихся к ним. Сам облеченный в багряницу приходит лобызать эти гробы, и, отложивши гордость, стоит пред ними, и молит святых, чтобы предстательствовали за него пред Богом. В предстательстве умерших скинотворца [Буквально "творителя скиний", т.е. изготовителя палаток. И. Златоуст имеет в виду Ап. Павла] и рыбаря имеет нужду облеченный в диадему. Итак, скажи мне, ужели дерзнешь называть мертвым их Владыку, когда рабы Его и по смерти предстательствуют за царей вселенной? (Беседа 26, на 2 Коринфянам, п. 5).
2) "Вид раки [саркофаг, где находятся мощи святого] Святого, объемля душу, поражает и возбуждает её и так сильно потрясает, как если бы казалось, что сам лежащий находится вместе с нами и умоляет нас. Пораженный таким образом удаляется, исполнившись силы и изменившись в другого человека. Замечательно, что от самого места возбуждается в живых живое представление об умерших; так, известно, что приходящие для плача, лишь только приступают к гробам, тотчас как будто на месте могилы видят стоящими тех, которые лежат в могиле, тотчас обращаются к ним с речью. Многие, пораженные сильною скорбью, близ гробов мертвых основали себе постоянное жилище, а сего они никак бы не сделали, если бы не ощущали какого-нибудь утешения при виде самого места. Но что я говорю о месте и гробницах, когда вид одной одежды умерших или одно слово, воспроизведенное в мысли, часто ободряет душу и оживляет слабеющую память. Вот для чего Бог даровал нам останки святых!" (Слово о святом Вавиле против Юлиана и язычников).
3) В похвальном слове Игнатию Богоносцу святой учитель Церкви писал: "Будем вседневно притекать к сему святому для принятия от него духовных даров. Всякий, притекающий к нему с верою, приобретает великие блага. Ибо не только тела, но и самые гробы святых преисполнены даров благодати… Посему призываю всех вас: в печали ли кто, в болезни ли, в обиде ли, в другом ли каком мирском несчастии, или в глубине греховной - притекайте сюда с верою: вы получите помощь и с великою радостью возвратитесь отсюда, приобретши одним воззрением облегчение вашей совести… Сие сокровище благопотребно для всех, сие пристанище надежно". А также: "Не только тела, но и сами гробницы святых исполнены благодати. Ибо если во время Елисея совершалось нечто подобное, и мёртвый чрез прикосновение ко гробу его разрешился от уз смерти и возвратился к жизни, тем более ныне, когда благодать обильнее и действия Святого Духа плодотворнее, естественно прикасающемуся с верою к самой гробнице (святых) извлекают из нее великую пользу. Посему Бог оставил нам мощи святых, желая как бы рукою привести нас к той ревности, какая была в них и, даровав нам некоторую пристань, надёжное врачевство против зол, отовсюду нас окружающих".
4) В другом похвальном слове - св. мученикам Иувентину и Максиму - он пишет: "Будем всегда приходить к ним, прикасаться к раке их и с верою обнимать останки их, дабы от них привлечь на себя какое либо благословение. Ибо, как воины, показывая царю полученные ими от неприятелей раны, смело говорят с ним; так и сии мученики, нося на руках усечённые главы свои, и выступив на среду, удобно могут испросить у Царя небесного всё, что только захотят".
5) В своей беседе в день памяти св. мучен. Вавилы святой отец также говорит о святых мощах, как бы в наущение нам, протестантам: "Не на то смотри, что лежит пред тобою нагое и лишенное душевной деятельности тело мученика, но на то, что в нём присутствует иная, большая самой души сила - благодать Святого Духа".
6) Из "Беседы о мучениках": "Побудь при гробе мученика, изливай там потоки слез, сокрушайся, прими благословение от гроба его и, обнадеженный покровительством мученика, часто упражняй себя в чтении его подвигов; возлюби сие место, пригвозди себя к ковчегу останков".
7) В "Первом слове о Маккавеях" И. Хризостом писал также: "как императорская корона, украшенная со всех сторон драгоценными каменьями, издает разнообразный блеск, так и тела святых мучеников, испещренные, как бы драгоценными камнями, язвами, подъятыми за Господа, драгоценнее и досточтимее всякой императорской короны".
8) Из "Слова всем святым мученикам": "Не так светло небо, украшенное сонмом звезд, как светлы тела мучеников, украшенные багряными ранами. Вы часто видите солнце восходящим на востоке и бросающим багряновидные лучи: таковы тела святых, проливающие из себя, как багряные лучи, потоки крови, которыми мученики сияли гораздо более, нежели как небо сияет светом солнца", а также: "И если суетные дела и множество продолжительных забот помрачат ум и много явится на пути добродетели препятствий, по обстоятельствам домашним или общественным; оставивши дом, вышедши из города, простившись со всею суетою, пусть придем в церковь мучеников, насладимся сим духовным благоуханием, забудем многопопечения, усладимся покоем, ибо будем общаться со святыми; и свергнувши бремя с совести, возвратимся домой в веселии духа";
"С пламенною любовию повергнемся пред их останками, облобызаем их раки, ибо многую силу могут иметь раки мучеников, как и кости мучеников имеют важную силу. Будем пребывать при них не только в день сего празднества, но и в другие дни, станем просить, умолять их, чтобы они были нашими покровителями: они многую имеют силу - не живые только, но и мертвые, и гораздо более мертвые";
"Святые мощи - неисчерпаемые сокровища, и несравненно выше земных сокровищ именно потому, что сии разделяются на многие части и чрез разделение уменьшаются; а те от разделения на части не только не уменьшаются, но еще более являют свое богатство: таково свойство вещей духовных, что чрез раздаяние они возрастают и чрез разделение умножаются". В этих словах мы находим подтверждение того, что православный обычай разделять мощи святых на малые частицы и посылать их в различные храмы имеет древнее происхождение.
9) В речах св. Иоанна Златоуста мы находим подтверждение и другому православному обычаю - возжигать лампады у мощей святых и помазываться маслом, взятом из этих лампад: "Не только кости мучеников, но и гробницы и ковчеги их изливают многие благословения. Возьми священного масла, оботри все твое тело, язык, губы, шею, глаза". Святой отец советует это делать в предостережение от греховных действий. И далее: "Подлинно, масло благовонием своим напоминает тебе подвиги мучеников, укротит всякую похоть, удержит во многом терпении и изгонит болезни душевные" (Взято из интернет статьи "О почитании святых мощей").
Св. Григорий Богослов (IV в.) писал: "они (св. мученики) прославляются великими почестями и праздниками, они прогоняют демонов, врачуют болезни, являются, прорекают; сами тела их, когда в ним прикасаются и чтут их, столько же действуют как святые души их; даже капли крови и всё, что носит на себе следы их страдания, также действительны, как их тела" (Слово I обличительное на Юлиана, ч.I).
Св. Григорий Нисский (IV в.) в похвальном Слове Мелетию свидетельствует, что платы с лица этого святого верующие разделяли между собою и носили под одеждами. В слове же святому Феодору он говорит: "Какая вожделенная, достолюбезная обязанность, какое великое счастье касаться самых останков! Созерцая как бы живое и цветущее тело, христиане лобызают его, прикасаются очами, устами, ушами и всеми чувствами; потом умоляют мученика, как бы живого и им присущего, ходатайствовать за них", а также свидетельствует, что "христиане прикасались к гробнице мученика (Феодора), твердо веруя от одного прикосновения приять освящение и благословение. Самый прах с места его гробницы принимали как дар и хранили как вещь драгоценнейшую".
Св. Ефрем Сирин (IV в.): "И по смерти действуют они (мученики), как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов, и силою Господа отражают всякое лукавое влияние их мучительского владычества. Ибо святым мощам всегда присуща чудодействующая благодать Святаго Духа" (Похвальное слово мученикам в "Творениях св. отцов", том XIV, с. 128.).
Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.), комментируя 4 Цар. 13:21, пишет: "Он (Елисей), будучи в живых, совершил чудо воскрешения своею душою. Впрочем, чтоб не только были почитаемы души праведных, а верили бы, что и тела праведных имеют такую силу: то мёртвый, упавший в гроб Елисеев, коснувшись мёртвого тела пророка, ожил. Мертвое тело пророка совершило дело вместо души. Тогда, как оно было мёртво и лежало во гробе, даровало жизнь мёртвому, и даровавши жизнь, само по-прежнему осталось мёртвым. Для чего? Для того, чтоб не приписано было дело сие одной душе".
В другом месте: "Есть некая животворная и спасительная сила в телах праведников, когда мертвец, брошенный на гроб пророка Елисея, возвратился к жизни чрез одно прикосновение к его костям" (Поучение огласительное XVIII, п. 16.).
Св. Василий Великий (IV в.) говорит: "Кто касается костям мученика, тот приемлет некоторое сообщение освящения по благодати, обитающей в теле мученика" (Беседа на псалом 115).
В ином месте он свидетельствовал: "Памятью мученика (Маманта) вся страна пришла в движение; весь город принимает участие в празднике; не родственники сходятся к гробам отцов, но все приходят на место благочестия…" [Беседы на св. мученика Маманта].
Св. Амвросий Медиоланский (IV в.) в слове при открытии мощей святых Гервасия и Протасия говорил: "Вы узнали и даже сами видели многих, освободившихся от демонов, а ещё больше таких, которые, лишь только касались одежды святых руками, тотчас исцелялись от своих немощей. Возобновились чудеса древнего времени с тех пор, как через пришествие Господа Иисуса излилась на землю благодать обильнейшая: вы видите многих, исцелившихся как бы некоторою тению Святых. Сколько убрусцев [маленькие полотенчики] передаются из рук в руки! Сколько одежд, которые были возлагаемы на священнейшие останки и от одного прикосновения соделались целебными, испрашивают (верующие) друг у друга! Все стараются хоть несколько прикоснуться, и тот, кто прикоснулся, здрав бывает" (Цит. по Митр. Макарий, т. II, с. 564).
Блаж. Августин (IV-V вв.) вслед за св. Амвросием повествует (как очевидец) о чудесах, бывших от мощей упомянутых святых Гервасия и Протасия, и, кроме того, свидетельствует, что и от мощей св. мученика Стефана также происходило много чудес: "Не прошло и двух лет, как эти мощи находятся в Иппоне, и хотя не все совершившиеся с того времени чудеса переданы письменно, однако ж число записанных восходит до семидесяти" ("О граде Божием", XXII, п. 9, 8).
Итак, мы имеем ясную картину того, что почитание мощей святых (вытекающее из почитания самих святых и веры в возможность молитвенного общения с ними, а также - из веры в способность материи освящаться и быть проводником освящающей и исцеляющей благодати) было в Церкви издревле.
Многие протестанты, приметив, что большинство приведенных цитат взяты из IV-го века, могут сказать, что вот, факт налицо, что почитание мощей появилось только в это время. Но такое заключение будет весьма поспешным и неразумным по нескольким веским причинам.
Во-первых, у нас имеются свидетельства даже со II-го века, а меньше их в сравнении с IV-м веком только потому, что богословских работ дошедших до нас со II-III веков во множество раз меньше, чем аналогичных работ IV и последующих веков - в предисловии об этом уже было сказано.
Во-вторых, отцы IV-го века никак не могли вдруг все сговориться и начать проповедовать о почитании мощей. Сама святость их жизни, чего не могут отрицать даже многие честные и образованные протестанты, не могла этого позволить, и учили они почитать мощи святых только потому, что Церкви и в предыдущие века было свойственно относиться к ним с благоговением. Ведь если блаженный Августин говорит о мощах первомученика Стефана, то ведь ясно, что Церковь их чтила с I-го века. Предположение, что первые века их никто не почитал, а в IV-м веке их выкопали и стали чтить - невероятно, и не согласуется с ясным свидетельством смирнской церкви о том, что к останкам своего епископа, священномученика Поликарпа, они относились с большим почтением.
В-третьих, сами образованные протестанты признают, что почитание мощей началось в Церкви не с IV-го, а со II-го века. Так, В.И. Петренко почитание мощей вместе с молитвами святым относит к "раннему христианству" (В.И. Петренко, "Богословие икон. Протестантская точка зрения". Изд. "Библия для всех". С-Пб. 2000 г. стр. 46), а М.В. Иванов начало почитание мощей относит к периоду гонений II-III веков (М.В. Иванов. История христианства. Изд. "Библия для всех". СПб. 2000 г. стр. 17).
Но несмотря на все эти свидетельства, даже протестантские, П. Рогозин утверждает, что "Никейский собор (787 г.) наперекор Св. Писанию и отцам церкви поклонение останкам мучеников утвердил" (Рогозин, с. 12). То ли Рогозин не относил Иоанна Златоуста, Григория Богослова и прочих вышеприведенных святых к отцам Церкви, толи, что более вероятно, делая такое важное заключение, даже не удосужился поинтересоваться, чему учили и во что верили эти отцы. Но многие протестанты предпочитают верить откровенной лжи Рогозина, чем ясным свидетельствам веры самих отцов Церкви.
В своей главе "поклонение мощам" П. Рогозин приводит ещё один аргумент из жизни отцов Церкви: "Антоний Египетский и Афанасий Великий, столпы Церкви IV века, строго осуждали это опасное языческое направление в Церкви (т.е., почитание мощей). Чтобы предотвратить тёмные массы от такой опасности, они приказывали замуровывать в стены храмов все сохранившиеся до того времени останки мучеников и ни в коем случае не допускать поклонения им" (с. 12). На этот "гениальный" аргумент Рогозина хорошо отвечает священник Вячеслав Рубский: "Однако, для человека знакомого с православной традицией, этот факт свидетельствует об обратном. Именно почитание мощей как святыни, знаменующей своим присутствием святость молитвенного помещения, мотивировало то, что мощи святых полагались в стены храма. Подобно тому и ныне полагаются они в престол и вшиваются в антиминс (в чём также П.И. Рогозин не забыл укорить православных). А иначе действия данных отцов представляются несколько странными. Зачем замуровывать в стены храма то, что представляет "опасность" для тех, кто его посещает? Не лучшим ли было бы сжечь останки или уничтожить другим каким-нибудь способом?" (Священник Вячеслав Рубский, "Православие - протестантизм. Штрихи полемики", глава "Почитание мощей угодников Божиих"). Действительно, баптистам, при их негативном отношении к мощам, никогда бы и в голову не пришла мысль замуровать останки святых в своих домах молитвы. Если бы баптистские лидеры знали, что многие верующие "соблазняются" мощами и желают им оказывать почести, то они бы постарались как можно дальше захоронить эти останки, да так, чтобы по возможности никто не знал даже о месте их захоронения. А тот факт, что святые Антоний и Афанасий полагали мощи святых в основание и стены храмов как раз таки ясно свидетельствует, что они не разделяли баптистскую и обще протестантскую неприязнь к мощам святых.
Насчёт почитания святых мощей есть ещё один достаточно веский аргумент, который приводит отец Вячеслав в той же главе: "Самым, на мой взгляд, любопытным обстоятельством при яром отрицании протестантами почитания мощей является то, что они сами вполне открыто почитают мощи тех, кого любят [останки умершего. Будь то тело, скелет с кожей или же просто кости. Во всех православных требниках "мощами" называется труп покойника (прим. В.Р.)]. Когда умирает кто-либо из протестантов, его родственники и друзья, конечно не из любви к телу, а именно по любви к душе усопшего, покупают ему красивый гроб, одевают его в новые одежды, целуют тело его и возлагают на гроб и могилу цветы. Так протестантами воздаются последние почести умершему. (Впрочем, не только ими, но у них, как и у атеистов, на этом ставится точка). Причина всем этим действиям, конечно, не обрядоверие и не рецидив язычества, а любовь.
Стоит подметить ещё также, что, воздавая честь останкам, протестанты, безусловно, воздают должное не омертвелым тканям, а личности почившего. Итак, это ещё один пример в протестантской практике чествования личности посредством материального, что в глазах такого ревностного баптиста, как например Иаков Козлов, - чистой воды идолопоклонство. Если же предположить, что чествование останков не имеет к личности никакого отношения, и это есть всего лишь проявление любви к телу, то и в этом случае протестанты подпадают под не менее тяжкое обвинение другого баптистского богослова в "поклонении именно "останкам"". Почему же то, что у протестантов считается нормальным при погребении, православным не позволяется делать постоянно? Протестанты лобзают останки своих братьев, а можно ли и нам тот же знак любви оказывать мощам своих святых?"
Действительно, если останки наших близких есть ничтожный прах и ничего более, не имеющий никакой связи с душой умершего, то зачем же мы целуем и чествуем этот прах? Для чего совершаем идолопоклонство? Если же мы скажем, что мы целуем этот прах ради любви к душе (личности) человека, жившей в этом теле, то тогда нужно признать тот факт, что в нашем же понимании душа и после смерти имеет отношение и некоторую связь с телом, в котором она жила. Ведь всем людям, не исключая нас, протестантов, понятно, что почтение к телу усопшего есть почтение к самой его личности. Если тело умершего родственники зашьют в мешок и закопают в яму без всяких почестей и церемоний, или если они наплюют на него, то всеми, в том числе и нами, протестантами, подобные действия будут расценены как святотатство и вандализм, как оскорбление личности покойного. Но для чего оказывать все эти почести и церемонии праху и пеплу, не имеющему никакого значения и связи с душой человека? Какая разница - плюнуть на прах под ногами, или на прах покойного? Ведь и первый и второй есть прах даже по одному названию! Но ведь мы такого никогда не сделаем со своими близкими. Сама даже мысль о плевке на прах покойника - отвратительна. И то, что мы это понимаем говорит как раз о том, что мы не последовательны в своём богословии, и не доводим свои догматы до конечных выводов. Противясь православному почитанию св. мощей, называя таковое поведение идолопоклонством и отрицая всякую связь личности умершего с бездыханным телом, мы, тем не менее, на практике и в жизни таковую связь вполне признаём, и оказываем почтение телам своих покойников, не считая своё поведение идолопоклонством.
Впрочем, нужно заметить, что погребальные церемонии протестантами скорее только терпятся, чем предписываются; мы совершаем эти церемонии не столько благодаря, сколько вопреки духу протестантизма. Мы как бы вынуждены это делать, чтобы не вызывать в глазах общества крайнее к себе отторжение, и не выдавать своё действительное отношение [Действительное (сущностное) отношение протестантизма к погребению таково, что нет никакой разницы, похоронить покойного с почестями и церемониями, или зашить в мешок и закопать в яму. Такие рассуждения присущи многим протестантам: я неоднократно слышал подобные рассуждения от баптистов, и сам их имел, о чём я хорошо помню. И навеивается такое отношение, безусловно, не личными какими-то странностями отдельных протестантов, а именно самим духом протестантизма, который не признаёт никакой вещественной святыни, считая останки даже праведного человека, мученика за Христа ничем - прахом, ничем не отличающимся от земли и камней] к праху наших близких. Т.е., зная о том, что все люди всех вер и религий во все времена почтительно относятся к останкам своих родных, протестанты не осмеливаются говорить против этого и самим не оказывать хотя бы элементарных знаков почтения к покойному. Но на могилы своих ближних протестанты, например, ездят намного реже, чем православные, и намного меньше за ними ухаживают. Здесь они уже могут дать большую волю своему догматическому отрицанию значимости останков своих умерших, ведь на недостаток посещений и ухода за могилами родных общество обратит внимание и осудит намного меньше, чем за недостойное погребение.
Таким образом, при похоронах своих близких протестанты лицемерят, и не выдают своего истинного, догматического отношения к телу покойного, входя тем самим в противоречие между своим учение и практикой. Ведь и на Пасху многие баптисты ездят на кладбище только для того, чтобы не подвергаться осуждению со стороны православных, перед которыми им нужно держать лицо, ведь именно их нам нужно совращать в свою веру.
Рассудим, для чего мы ездим на кладбище, и именно на Пасху? Православные ездят по вполне понятной причине, полностью согласованной и предписанной их догматикой. Они приходят на могилы своих близких, чтобы
1) помолиться о них Богу и
2) возвестить им радость [Отсюда и слово "радоница", которым называются послепасхальные дни (вторая неделя после Пасхи), в которые православные ходят на кладбище] о воскресении Христовом.
Для чего же приходим на кладбище мы? Только "за компанию", только во избежание осуждения, только вопреки своей догматике. Ведь молиться за усопших для нас есть грех, а возвещать умершим радость воскресения - спиритизм. Да и вера наша никак не предписывает нам посещения кладбищ на Пасху. Наоборот, наша вера как раз таки учит нас, что воздавание почестей материи, мёртвому телу, есть идолопоклонство. Для чего же мы придерживаемся православного предания вопреки своим догматам? На этот вопрос есть только один ответ: мы это делаем только ради подражания православным, и ради того, что наша душа и совесть не позволяют до конца принять наши же положения со всеми конечными выводами. А последовательный протестант никоим образом не должен ходить оказывать почтение праху и пеплу. Он должен чтить только Бога. Итак, первая причина, по которой протестант всё же терпит все погребальные церемонии - избежание осуждения со стороны общества.
Но есть и вторая, практически очень для протестантов важная причина. Духовно тяготясь погребальными церемониями, не находя для них богословского обоснования и совершающие их, как было сказано, не по предписанию своей веры, многие протестанты главным смыслом погребения сделали "евангелизацию". Баптисты знают, что на похороны их собрата обязательно придут соседи и знакомые не баптисты, которые ради уважения к покойному будут слушать все наши проповеди и песнопения. Потому, для нас есть чудесная возможность посеять этим слушателям своё учение и постараться обратить их в баптизм. Потому и проповеди баптисты произносят на похоронах всегда целенаправленно "евангелизационные". Причём, делается всё это самым сознательным образом. Наш пастор часто прямо об этом заявлял, что похороны это лучшая возможность для евангелизации, а на самих похоронах постоянно повторял, что покойному наши службы уже не нужны, а всё это нужно для нас, для живых. Таким образом, баптистская "заупокойная служба" есть на самом деле только повод к завлечению в свои ряды новых людей, где покойник используется только в качестве приманки: ведь всё совершается не ради него, а ради других.
Теперь несколько слов о том, почему мощи многих святых остались нетленными. Естественно, протестанты объясняют этот факт либо действием бесов, либо, чаще всего, тем, что православные изучили и используют определённые методы бальзамирования. Мне лично одна баптистка рассказывала случай, описанный в газете, как один человек умер в своей квартире сидя на стуле, а газовая конфорка осталась гореть. И когда спустя долгое время тело нашли, то из-за предельно сухого воздуха оно не разложилось, а просто высохло. Конечно же, подобными случаями протестанты желают объяснить происхождение святых мощей и опровергнуть православную веру в то, что многие мощи святых остались нетленными чудом и силою Божьей. Но на поверку, бойкие наши теории плохо стыкуется со многими фактам, которые, как известно, вещи упрямые. "Миф о том, - пишет священник Вячеслав Рубский, - что Церковь хранит некую тайную технологию сохранения тел и костей от разложения, крайне несостоятелен. Миф этот своим рождением обязан атеистам, но на вооружение был взят многими протестантскими сектами. Святые мощи были обретаемы при самых разнообразных, и часто при крайне неблагоприятных для их сохранения обстоятельствах. Так что чудесность их нетления становится очевидной. Гроб преподобного Сергия Радонежского найден почти в воде, и что же? Мощи его сохранены Господом, а не способствующими тому условиями. Тело преподобного Адриана Ондрусовского прежде обретения его 2 года пролежало среди болота, а тело святого князя Глеба, брошенное убийцами в лесу возле Днепра под открытым небом, лежало около пяти лет, и чудом Божиим не было съедено животными и не подверглось тлению. В этих и во многих других случаях, бывших на протяжении всей истории Церкви, Господь указывал на святых Своих, чья жизнь и дела для нас должны быть примером. И дела Господни для нас - пример. Если Он прославляет тела святых, не надлежит ли и нам их чествовать?" (Священник Вячеслав Рубский, "Православие - протестантизм. Штрихи полемики", глава "Почитание мощей угодников Божиих").
Подытоживая тему о почитании мощей святых, укажем на положительный смысл этой практики, который заключается в двух главнейших и очевидных аспектах.
Первый: созерцание с верой останков святых оказывает глубокое нравственное влияние на душу. Скажем об этом словами одного православного мыслителя: "Как останки героев земли при одном взгляде на них живо напоминают славные деяния и труды и весь образ жизни почивших, так и святые мощи естественно воспроизводят в душе те добродетели и совершенства, которыми сиял, и те болезни и труды, ими же трудился святой муж, почивающий о Господе. Вместе с сим воспоминанием естественно рождается чувство благоговения, почтения и любви к святому; мы поражаемся его добродетелям и совершенствам, удивляемся высоте и святости его жизни и в благоговении и умилении преклоняемся пред гробом, заключающим в себе святые останки!..
Живое благоговейное воспоминание жизни святого производит то, что при взгляде на его добродетели мы невольно обращаемся к самим себе, ищем в себе нравственное добро, измеряем своим сознанием достоинство нравственной нашей жизни по сравнению с жизнью святого. При этом открывается, с одной стороны, чувство нашего нравственного убожества и окаянства, с другой - воспламеняется ревность подражать высоким добродетелям. Святой Иоанн Златоустый говорит, что святые мощи сильнее поучений и увещаний побуждают людей к добродетельной жизни - так, что один взгляд на них сильнее могучего слова проникает в душу, приводит ее в сознание своего нравственного ничтожества и исторгает из очей горькие слезы раскаяния. "Если бы Бог из среды нас исхитил святых, то лишил бы многого наставления и утешения, какое чувствуют все люди на гробницах святых. Это вы сами доказываете собственным свидетельством. Часто, при всем том, что мы вам угрожаем, умоляем, устрашаем, увещеваем, вы не возбуждаетесь и не обращаетесь к молитве со всей готовностью; но когда вы собираетесь в церковь мучеников, без увещания, при одном взгляде на гробницы святых изливаете обильные источники слез и среди молитвы воспламеняетесь сильной ревностью. Но мученик лежит нем, в великом безмолвии. Отчего же трогается совесть и льются, как из источника, потоки слез? Именно оттого, что вы размышляете о мучениках и воспоминаете их деяния. Ибо как бедные, когда видят богатых, облеченных достоинством, сделанных царскими телохранителями, осыпанных от императора всеми почестями, скорбят тем более, чем более по счастью других узнают свою бедность, - так и мы, когда вспоминаем, какое достоинство имеют мученики у Царя всех Бога, каким блеском, какой сияют они славой, приводим на память наши грехи, скорбим и сокрушаемся тем более, чем более ощущаем нашу бедность по их богатству и узнаем, как далеко отстоим от них. Вот отчего исторгаются слезы!"" (Взято из интернет статьи: "О почитании святых мощей" http://www.cirota.ru/forum/show_subj.php?subj=77082).
Второй аспект: мощи святого, являясь вещественной святыней, хранят в себе благодать Духа Святого, которую этот святой стяжал (приобрёл), живя на земле. Святыня же способна не только хранить, но и распространять вокруг эту благодать - выше мы много об этом говорили. Поэтому те, кто с верою и молитвой прикасаются (по православному - прикладываются) к мощам святых, получают от них освящение и "многоразличную благодать" (ср. 1 Пет. 4:10), в которой кто нуждается: утешение, укрепление в вере, исцеление, помощь в нуждах и т.п.
Итак, почитание мощей мучеников и святых имеет достаточное библейское и богословское обоснование. Более того, очень важно, что древняя, чистая и гонимая Церковь почитала мощи святых, делая это, естественно, по наущению Апостолов и по внушению Духа Святого. Православие же сохраняет веру и практику древних христиан. Для нас же благочестивое и благоговейное отношение к останкам Христовых служителей чуждо, и мы кощунственно называем его, на радость всем бесам, идолопоклонством. Этот факт, естественно, является одной из важных причин, почему я не могу впредь оставаться баптистом.
IV. О святой воде.
Протестанты, не признавая никакой материальной святыни, не желают ничего знать, естественно, и о святой воде. Для православных же святая вода, особенно крещенская, называемая также великой агиасмой, - одна из важнейших и наиболее широко употребительных святынь, которая есть, пожалуй, в каждом доме у тех, кто считает себя православным. Святую воду пьют; ею кропятся и помазывают больные места тела; без неё не обходятся при освящении храмов, икон, крестов, домов, автомобилей, полей и "всякой вещи" [В православном требнике есть такой чин - на освящение всякой вещи, при котором, как и при всяком освящении, используется святая вода].
Основанием для освящения воды и употребления её указанным образом является всё тот же вышеуказанный духовный закон, являющийся одним из основополагающих для устройства всего нашего мира, по которому материя способна из-за воздействия на неё Бога, Ангелов, человека или бесов как освящаться, так и соответственно оскверняться. Вода же есть особая, самая важная составляющая материи по многим показателям, имеющая уникальные свойства.
1) Вода есть первооснова нашего мира, о чём ясно свидетельствует Библия: "вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою" (2 Петр. 3:5). Впрочем, факт этот очевиден и без ссылок на Св. Писание.
2) Именно из воды преимущественно состоит тело человека и прочих живых существ.
3) Вода, благодаря своему круговороту в природе, сообщается между собой по всей земле.
4) Вода есть самая распространённая жидкость на земле, и именно воде, а не твёрдым и газообразным веществам, проще всего быть средством освящения (из-за того, что ею можно окроплять).
Если протестанты желают узнать, что говорят о воде не православное богословие, а светские учёные, то мы можем дать слово и им. Недавно вышел весьма интересный документальный фильм под названием "Великая тайна воды", в котором его создатели (а в их числе есть именитые светские учёные: лауреаты нобелевской премии, академики, доктора наук, профессора гос. университетов и т.д.) на множестве примеров и экспериментов показывают, какими необычайными свойствами обладает простая вода. И хотя можно отчасти соглашаться с критиками данного фильма в том, что не все показанные эксперименты повторимы с одинаковыми результатами, и что создатели фильма несколько увлекаются в своём исследовании, тем не менее, с большей частью сказанного этими учёными нельзя не согласиться и не признать большой доли правды в их выводах. Этот фильм, кстати, очень понравился и впечатлил многих знакомых мне баптистов, которые с интересом и, естественно, с доверием к сказанному и показанному обсуждали при мне многие подробности данного фильма. Они, правда, не понимали, что данная информация на научном языке утверждает главный тезис нашей главы - способность материи освящаться или оскверняться. Итак, процитируем несколько отрывков из этого фильма.
Мы прводили много экспериментов по влиянию на образцы воды самыми различными факторами: магнитными полями, электрическими полями, различными объектами, ну и в том числе человеческим присутствием, человеческими эмоциями. И выяснилось, что эмоции, положительные и отрицательные, это наиболее сильный момент воздействия… Группу людей попросили спроецировать на колбу с водой, которая стояла перед ними, самые положительные эмоции - любви, нежности, заботы. Потом колбу меняли и опять просили сосредоточить на воде эмоции, но другие - чувство страха, агрессии, ненависти. После чего произвели измерение образцов. Изменения воды имели четко выраженную направленность. Т.е., любовь повышает энергетику воды и стабилизирует эту воду, а агрессия её резко понижает…".
Если перевести всё сказанное в данном фильме на богословский язык, то ясно одно: материя, а в особенности вода, весьма восприимчива к поведению и духовному состоянию человека. Поэтому, если человек живёт праведно - в любви, правой вере, страхе и заповедях Божиих, покаянии, незлобии, смирении, молитве, то освящается его дух и душа; посредством же души освящается и тело, а посредством тела и вся окружающая его материя. И наоборот, если человек грешит, он оскверняет свой дух, душу и тело, и всё вокруг себя. Потому православные так любят и ценят те места, где подвизались и проводили жизнь святые, ибо православные ощущают на таких местах действие освящающей благодати.
Хочу повторить, что данный духовный закон весьма реален и крайне важен для духовной, нравственной и материальной жизни человека и всей земли. Ф.М. Достоевский, которому дано было с необычайной точностью прозревать и определять многие явления духовной и душевной жизни человека, произнёс всем известную фразу: все за всех отвечают. Суть мысли русского гения состоит, кажется, в том, что каждый человек несёт некоторую ответственность за поступки другого в самом прямом смысле. Т.е., если некто Василий грешит, то он оскверняет не только свои дух и душу, но и своё материальное тело, которое, повторим, состоит в большей степени из воды. Из тела же человека, как мы знаем, каждый день через дыхание, пот и другие пути выходит несколько литров воды. И вода эта, осквернившись грехами Василия (или же, говоря словами учёных, запомнив его негативную информацию) смешивается с остальной водой на земле, сообщая свою скверну другим молекулам воды. Затем эта вода попадает в тела других людей и становится на время частью тела Ильи, передавая ему свою негативную информацию. От этого Илье делается духовно хуже, ибо такая вода оскверняет его. Через эту воду бесам уже несколько легче становится влиять на его душу и склонять её ко греху. Поэтому, в грехе, которому поддастся Илья из-за усилившегося влияния бесов, виноват (и отвечает за него) не только он, но и Василий.
Конечно, грех Василия влияет на другого человека и посредством слова. Т.е., информация о преступлениях и безнравственной жизни других действует подавляюще и соблазняющее на других людей. Но если какой-либо человек совершит, например, вероломное убийство, о котором никто никогда не узнает, то всё равно, его преступление осквернило землю. Истекшая кровь [Сравнить: "голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли" (Быт. 4:10)] жертвы и дыхание убийцы сообщили об этом преступлении всей земле и дали бесам больше духовной силы для воздействия на других людей. Потому в грехе моего ближнего всегда есть часть и моего греха. Ведь если бы я больше освящался и вносил в мир святость, а не свои грехи, то моему ближнему было бы легче не грешить. Потому действительно - все за всех отвечают… (Замечу по ходу, что такое серьёзное и глубокое отношение Православия ко греху меня в своё время просто потрясло).
Так вот, зная об этом законе, православные всегда освящают пищу и питие перед употреблением молитвой и крестным знамением. И зная о том, какое особое место в нашем мире занимает вода - более всех других веществ способная к восприятию и к сообщению духовного состояния человека - православные особое внимание уделяют освящению воды и её употреблению. Ею исцеляются от болезней и пьют по утрам, а также в моменты тяжких искушений для его ослабления. "Когда человек употребляет просфору и святую воду, - говорил затворник Георгий Задонский, - тогда не приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту, молитве и ко всякой добродетели". Это благотворное воздействие св. воды на душу и тело могут подтвердить все православные, которые хоть раз с верою её употребляли. И можно с уверенностью сказать, что если бы Церковь не освящала воду, если бы Сам Господь ежегодно 19 января не освящал всю водную стихию на праздник Богоявления (Крещения), то грех бы умножался и распространялся в мире намного быстрее, влияя на людей с большей силой.
Уместно здесь упомянуть и о том факте, что святая вода часто годами не портится, и её хранят и пьют, бывает, по 40 лет. Скептики говорят, что бывает это от воздействия серебра. Но чаще всего воду освящают железным или деревянным крестом, а в трехлитровую банку попадает всего лишь одна капля святой воды, которая, казалось бы, не может, по сути, ничего изменить, но результат бывает тот же. Более того, многие делали эксперименты и банку вообще закрывали крышкой при освящении, но вода и тогда не портилась [Портится она крайне редко, и, как правило, у нечестивых владельцев. Потому, испорченная святая вода это первый знак для её хозяина просмотреть свою жизнь]. Интересно, что тот факт, что вода действительно освящается и не портится, некоторые протестанты хотя и нехотя, но признают. Один баптистский пастор, например, говорил мне, что на Крещение вода действительно освящается, но чтобы не записать своё признание на счёт Православия он тут же добавил, что Православная Церковь не имеет к этому никакого отношения, т.к. воду освящает не Церковь, а Сам Господь. Но даже если это так, почему же тогда протестанты не набирают на Крещение воду, почему не пьют её, не хранят и никак не пользуются? В этих вопросах протестантизм демонстрирует только свою ущербность, непоследовательность и усечённость. Т.е., протестантская позиция такова: наверное вода (и вся материя) действительно способна к восприятию как доброго, так и греховного влияния, ведь похоже Библия, да и исследования учёных это подтверждает; наверное, на Крещение действительно Господь освящает воду, но только мы об этом ничего не хотим знать, потому что эта информация как-то плохо встраивается в наше богословие. Другая позиция протестантов - напрочь всё отвергать и вообще не рассуждать об этих вопросах. Но можно ли так держать себя по отношению к таким важным вещам? Можно ли так безразлично относится к тому, что делает Христос? Как можно думать: "да, возможно Христос освящает воду на Крещение, но ко мне это не имеет никакого отношения"?..
Святая вода не есть явление новое. Она была известна ещё в Ветхом Завете (см. Числ. 5:17; 19:9).
В Новом Завете мы также встречаем описание регулярного повторяющегося события, когда Ангел посредством возмущенной им воды (а значит - освятившейся от соприкосновения с ним) исцелял больных (Ин. 5:2-4). Самому Христу, могущему исцелять любой недуг одним Своим словом, было угодно прибегнуть к посредству воды, когда Он послал слепого умыться в купальне Силоам, соделав её воды чудодейственными (Ин. 9:6,7). Вот так и до сего дня Христос освящает воду для Своей Церкви, делая её "целительной для души и тела, всякую вражью силу отгоняющей" [Слова из чина освящение воды, великой ектении].
А как обстоит дело с Церковью? Когда стали освящать воду и использовать её для освящения? Как бы не хотелось нам отнести начало использования святой воды в Церкви к V-му или дальнейшим векам, нужно признать факт, что святая вода была в Церкви с первых веков. В свободной энциклопедии "Википедия" в статье "святая вода" мы читаем: Свята?я вода? (греч. ![]() - святыня) - освящённая в церкви вода. Употребление святой воды в христианстве восходит ко II веку". Конечно, православные верят, что святую воду стали использовать христиане II-го века не произвольно, а по наущению Апостолов, но только письменных упоминаний о том у нас не сохранилось.
- святыня) - освящённая в церкви вода. Употребление святой воды в христианстве восходит ко II веку". Конечно, православные верят, что святую воду стали использовать христиане II-го века не произвольно, а по наущению Апостолов, но только письменных упоминаний о том у нас не сохранилось.
Св. Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника.
Теперь, для более ясного уяснения значения святой воды и православного к ней отношения, предлагаю моему читателю познакомится с текстом одной из величественных православных молитв, которые читает священник на Богоявление при освящение воды: "Боже Великоименитый, Отче Господа нашего Иисуса Христа, единственный творящий чудеса, которым нет числа, глас Которого на водах многих, видя Которого убоялись воды и пришли в смятение бездны и множество шума вод; пути Которого в море и стези в водах многих, и пути Твои не исследимы. Крещением Сына Твоего воплощенного, схождением на Него Пресвятаго Духа в виде голубя и Твоим отеческим гласом Ты освятил Иорданские потоки. Ныне Тебя смиренно, мы, недостойные рабы Твои, молим и умоляем, пошли благодать Пресвятаго Духа на воду сию и небесным Твоим благословением благослови, очисти и освяти её, и даруй ей благодать и благословение Иорданово и силу для очищения всякой скверны, исцеления всякого недуга и прогнания бесов и всех наветов и козней их; и соделай так, чтобы силой, действием и благодатью Пресвятого Духа служила она для всех с верой её пьющих, принимающих и кропящихся рабов Твоих во оставление грехов, во исправление страстей, в прогнание всякого зла, во умножение добродетелей, во исцеление от болезней, во освящение и благословение домов и всякого места, во отгнание губительных и всяких злотворных воздухов, и в получение Твоей благодати. Ибо Ты есть всё благословляющий и освящающий, Боже наш, и Тебе славу воссылаем со Единородным Твоим Сыном, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь".
А вот какие прошения произносит дьякон (или священник) при освящение воды: "О том, чтобы освятиться водам сим, силою, и действием, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. О том, чтобы снизошли на воду сию очищающие действия предвечной Троицы, Господу помолимся. О том, чтобы была вода сия целительной для души и тела, и всякие вражеские силы отгоняющей, Господу помолимся. О том, чтобы ниспослал Господь Бог благословение Иорданово и освятил воду сию, Господу помолимся…".
Итак, как видим, вся сила освящения и чудотворения приписывается Богу, "единственному творящему чудеса", и к святой воде почтительно относятся только потому, что она становится носителем и проводником Божьей освящающей благодати.
V. Теперь обратимся к доказательствам от противного.
Мы неоднократно говорили о существовании закона, по которому материя может не только освящаться, но и оскверняться - т.е. воспринимать на себя (а потом и источать) не только благословение, освящение и благодать Божью, а дьявольские проклятие, осквернение и так сказать "злодать". Выше мы уже упоминали о том, что Адам своим непослушанием навел проклятие на землю, т.е. осквернил её и частично лишил её Божьей благодати. Кроме того, Ап. Иуда научает нас: "…а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью" (Иуда 23). Если одежда Христа и Ап. Павла освящалась от их святых тел, делаясь источником исцеления болезней, то одежда нечестивого человека оскверняется от его скверного тела. И если через одежду святого распространяется и передается святость и благодать (даже исцеляющая), то через одежду нечестивого передается его скверна и "злодать". Потому Ап. Иуда, понимая, как и все православные, реальность этого закона, и заповедует нам гнушаться одеждой нечестивого человека, чтобы она не передала нам своей скверны. О том же говорил и Сам Христос, когда заповедовал отрясать с ног даже прах того города, который не примет евангельской проповеди (см. Мф. 10:14). И отрясать его нужно в частности потому, что земля этого города осквернена грехом его жителей, не принявших посланников Христовых.
Кроме того, сатана, в подражание и извращение Церкви, также имеет свои мерзкие "вещественные святыни", т.е. различные материальные вещи, которые были его слугами (ведьмами, колдунами и пр.) сознательно осквернены. На эти вещи (иглы, булавки, кусочки ниточки, мешочки с землей, воду и пр.) посредством заклинаний [Заклинания ведьм и колдунов - дьявольская противоположность и подражание молитвам Церкви] и ритуалов [Колдовские ритуалы - дьявольская противоположность и подражание священнодействиям церковным] было наведено проклятие. И мы хорошо знаем, что такие проклятые вещи не редко оказывают на людей, которым их подбрасывают, весьма негативное влияние, вплоть до болезни и смерти. Посредством этих заклятых предметов слуги дьявола наводят так называемую порчу. Все мы помним, как экстрасенс Кашпировский продавал свои фотографии, которые он наказывал прикладывать к больным местам для исцеления, в результате чего после краткого облегчения людям становилось еще хуже. Таких явлений настолько много, что отрицать реальность данного явления бессмысленно. И это еще раз очень ярко подтверждает тот факт, что материя способна как освящаться, так и оскверняться, и воздействовать на людей, с нею соприкасающихся, толи освящающе, толи оскверняюще. Ведь это так очевидно: Церковь освящает материальные предметы и использует их для добрых целей, для освящения и исцеления, а сатана наводит проклятие на материю и использует её для злых целей - для осквернения и болезней. И хотя мы, протестанты, отвергаем понятие о том, что одни материальные предметы могут быть святыми, а другие - проклятыми, тем не менее мы согласимся, что если у человека в доме есть сатанинские книги типа черной магии, гадательные карты и другие сатанинские предметы, то их с дому лучше вынести и выбросить. И не только по тем мотивам, чтобы никого не соблазнять или чтоб дети случайно не нашли, но и из понимания, что такие вещи не призывают Божьего благословения на дом, а наоборот.
На сходках сатанистов также используются различные материальные символы, знаки, изображения, такие как пентаграмма, перевернутый крест и др. Вопрос в том, кому в этом случае подражает сатана, и что он извращает? Извращает он Церковь и церковные святыни.
А кому и чему подражают атеисты-коммунисты, создав мавзолей с "мощами" Ленина? Очевидно, что подражают и извращают они не нас, баптистов, а Православную Церковь с её почитанием мощей святых. И то, что мы не видим разницы между почитанием трупа безбожника и антихриста Ленина атеистами, и почитанием мощей мучеников и угодников Христовых православными, одно и другое без различия называя идолопоклонством, есть великое богохульство протестантизма.
Итак, святыни - это совсем не то, что идолы. Святыни были у народа Божия Израиля. Их весьма почитали и поклонялись им, как святыням, и такое почтение и поклонение было тесно связано с Самим Богом, как бы относилось к Нему Самому и ни в коем случае не было идолопоклонством. Святыни были и есть также и у Новозаветной Церкви, и их у Неё еще больше, чем было у Ветхозаветной. Через святыни Бог творил чудеса и в Ветхом и в Новом Заветах, чему мы привели примеры. Немало чудес и сейчас творит Он в Церкви. Даже и сам дьявол указывает нам, что Церковь, которой он противостоит, имеет святыни. Почему же мы не признаем никаких святынь и богохульствуем, называя их идолами? Лично я в своем грехе, совершаемом по неведению, раскаиваюсь и впредь не желаю быть богохульником.
Итак, тот факт, что у протестантов вопреки Библии и жизни древней Церкви нет никаких святынь и самого такого понятия, а также тот факт, что почитание святынь они богохульно называют идолопоклонством, есть одна из веских причин, почему я уже не могу оставаться баптистом и вообще протестантом.
I. О почитании креста
Крест в Православии используется настолько широко и многоразлично, что трудно даже исчислить все случаи, когда православные находят нужным прибегать к силе и благодати этой великой святыни Церкви. На каждомправославном храме непременно водружается как минимум один крест [Интересно и важно знать, что количество куполов с крестами на православном храме никогда не бывает случайным, а каждое число имеет свой смысл. Один крест означает единого Бога, единую веру и единую Церковь. Два креста на храме устанавливаются в утверждение догмата о двух - божественной и человеческой - природах Христа. Три креста говорят верующим о Троице. Четыре креста с четырёх сторон обозначают четырёх евангелистов (а также четыре стороны света, что значит, что Церковь есть вселенская, для всего мира), а если посредине на храме находится пятый купол с крестом, то он обозначает Христа и четырёх евангелистов. Шесть крестов символизирует благодать священства, который совершает шесть таинств. Семь крестов устанавливается в честь семи таинств Церкви. Восемь крестов проповедуют людям о Царствии Божием, о будущем веке, ибо число 8 обозначает бесконечность. Девять крестов напоминают христианам о девяти ангельских чинах и девяти Христовых заповедях блаженства, а десять - о десяти заповедях Божиих. Одиннадцать куполов с крестами напоминают об одиннадцати верных Апостолах (без Иуды), а двенадцать - о двенадцати Апостолах (с Матфием). И наконец, тринадцать куполов обозначают Христа и Двенадцать Апостолов]; крестом священник благословляет прихожан во время богослужения, а уходя их храма православные целуют крест. Во святое святых православного храма на престоле находятся, естественно, самые не случайные предметы, такие как дарохранительница со Святыми Дарами, Евангелие и антиминс с мощами святых. И среди этих величайших святынь на престол полагаются два креста, что ясно показывает, какое высокое место занимает крест в сознании Церкви.
Нательный крест предписывается носить каждому крещённому православному христианину, а священники носят ещё и особый - иерейский крест. Православные верующие постоянно, тем более на службе, осеняют себя крестным знамением. Вообще, можно сказать, что совершение каждого таинства и службы не обходится без неоднократного использования символа креста в различной форме. При совершении, например, таинства крещения священник сначала рукой, а затем и святым елеем крестообразно благословляет воду, а при совершении таинств миро- и елеопомазания на частях тела участника таинства, таких как лоб, глаза, уши, грудь, руки и пр., иерей начертывает миром или елеем соответственно ни что иное, как крест.
При самом важном моменте литургии, когда хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, священнослужитель, произнося соответствующие слова, благословляет святые дары сначала по отдельности, а затем вместе не иначе, как крестообразно. При освящении воды в неё непременно погружается крест, которым, в воде также начертывается крест. И пищу православные всегда благословляют не иначе, как крестом, и т.д.
Протестанты же ни на своих богослужениях, ни в быту не используют крест подобным образом [Разве что в последнее время они стали устанавливать крест на своих домах молитвы, о чём ниже мы ещё будем говорить]. Основание тому следующее: "крест - орудие казни" [Именно этими словами Е. Пушков и начинает главу "О ношении крестика и осенении себя крестным знамением" в своей книге "Не смущайся". Дальнейшие цитаты из Е. Пушкова о кресте берутся из этой главы], на котором убили нашего любимого Господа, подобное гильотине или виселице. Чествовать крест, как делают это православные, и так благоговейно к нему относится не просто глупо, но и оскорбительно для Бога, ибо может ли сын, отца которого убили ножом, чтить, целовать и с такой любовью относится к этому ножу? Нет, конечно же. Для него это предмет, на который невозможно смотреть, орудие убийства родного отца, постоянное напоминание о трагедии. Он его выбросит подальше. Таким образом, крест для протестантов - символ позорной казни, орудие, посредством которого Спасителю не только причинили великую боль, но и убили Его. И разве можно почтительно относиться к орудию пытки и убийства Сына Божия? Решительно нет В Новом Завете мы также встречаем описание регулярного повторяющегося события, когда Ангел посредством возмущенной им воды (а значит - освятившейся от соприкосновения с ним) исцелял больных (Ин. 5:2-4). Самому Христу, могущему исцелять любой недуг одним Своим словом, было угодно прибегнуть к посредству воды, когда Он послал слепого умыться в купальне Силоам, соделав её воды чудодейственными (Ин. 9:6,7). Вот так и до сего дня Христос освящает воду для Своей Церкви, делая её !
Такие рассуждения я слышал с кафедры баптистского собрания г. Артемовска от наших обоих пасторов. И сравнивание креста с позорной виселицей не есть, конечно же, новое или частное мнение наших пасторов: такова суть обычного протестантского отношения ко кресту. В. Трубчик, например, мыслит о кресте таким же образом: "Можно представить себе еще одну картину. Вашего сына бандиты начинают пытать различными средствами. Наконец, его прибивают ко кресту, где он и умирает. А теперь, когда вы узнаете обо всем этом, когда идет судебный процесс над убийцами вашего сына и как вещественные доказательства собрали все эти средства издевательства и казни, в том числе и крест, станут ли для вас после этого священными все эти предметы? Думаю, что у здравомыслящего человека будет отвращение ко всему этому. Но вдруг кто-то из ваших родных начинает их чтить. Какова ваша реакция?" [Василий Трубчик, "Вера и традиция", глава 9 "Крест". Дальнейшие цитаты из В. Трубчика о кресте приводятся из этой же главы].
Именно такой взгляд на крест Христов - как на мерзкое орудие убийства - передаёт протестантское предание на протяжении всего своего существования. К примеру, авторам книги "Меч духовный", писанной ещё в дореволюционной России, было известно мнение протестантов о том, "что крест есть виселица, что, будучи орудием казни Христовой, он достоин отвращения и ненависти" ("Мечь духовный", изд. "Ковчег", Москва, 2003 г., стр. 457). Одним словом, всякое почтительное отношение православных ко кресту протестантами рассматривается как безумие, мерзость и "идолопоклонство" ["История евангельских христиан-баптистов в СССР", изд. ВСЕХБ, 1989 г., стр. 66].
Поклонение кресту называет идолопоклонством и В. Трубчик. Таким образом, в наших глазах православные вместо [В. Трубчик, например, ясным намеком обвиняет православных даже не в том, что они поклоняются кресту наряду со Христом, а именно в том, что они поклоняются кресту вместо Христа: "Что или Кого мы теперь будем восхвалять, позорное орудие казни, на котором претерпел смерть Иисус Христос, или самого Иисуса Христа, Который совершил наше искупление?"] поклонения живому Христу поклоняются кресту - бездушному предмету, который, к тому же, является страшным и отвратительным орудием казни!! И православное поклонение кресту протестанты хотят трактовать, конечно же, именно как божественное, а не почтительное поклонение [О разнице между поклонением божественным и почтительным мы подробнее будем говорить ниже в данной главе, а также в главе 4-й]. То есть, протестанты обвиняют православных в том, что они поклоняются кресту как Богу! Об этом в один голос говорят и В. Трубчик ("Следуя логике тех, кто боготворит крест…"), и Е. Пушков: ("Любящий Голгофского Страдальца будет ли обожествлять орудие казни..?").
Да, если преподносить Православие в таком свете, если так извращать его учение, то кому оно не покажется действительно безумной, крайне еретической и, более того, какой-то вышедшей из древности дикой и грубой языческой религией, заставляющей вместо поклонения Творцу и живому нетленному Богу поклоняться тленным бездушным предметам и мерзким идолам? Вот только на самом деле подобный взгляд на православное отношение ко кресту равно настолько далёк от истины, насколько велико развращение протестантов, смеющих изрыгать такую страшную хулу на Церковь Божию. Давайте попробуем узнать, как на самом деле относятся православные ко кресту, и почему, и в каком качестве они ему поклоняются.
Если послушать и вдуматься в протестантские рассуждения о кресте, то всякий без труда заметит, что один из наибольших для протестантов камней преткновения в принятии православного почтительного отношения ко кресту заключается именно в том, что мы не можем решить обозначенную выше дилемму - как можно, имея здравомыслие, почитать орудие казни, то есть тот предмет, который принёс Христу позор и мучительную смерть [Столь же большее затруднение для протестантов заключается и в том, чтобы понять, как вообще можно поклоняться не Богу, а вещи. Т.е., протестанты не понимают суть поклонения святыне, и не понимают разницу между божественным и почтительным поклонением]? В. Трубчик в первой из вышеприведенных цитате высказывает именно это недоумение, говоря, что у всякого здравомыслящего человека родится отвращение к орудиям пытки и казни сына, но никак не почтение. О том же говорит и Е. Пушков: "Любящий Голгофского Страдальца будет ли обожествлять орудие казни и целовать его? Здравомыслящий человек, конечно, скажет: "Нет!".
На самом же деле, протестанты, наглухо заключив себя в рамки такой логики, не могут понять, что к орудиям пытки и мучения не только православные, но именно обычные здравомыслящие люди с отвращением относятся только при определённых случаях, а в других случаях они хранят, ценят, берегут и гордятся теми вещами, которые причинили им или их близким страдание… Такое утверждение кажется безумным? Но разве мы не знаем, что многие участники войны бережно хранят пули или осколки бомбы, которыми они были ранены и которые причинили им немалую боль и мучение? Кроме того, коммунисты, например, до сих пор хранят пистолет, из которого стреляли в Ленина, и пулю, которая его ранила и, более того, привела его к преждевременной смерти. И относятся они к этим вещам не с отвращением, а наоборот - трепетно хранят их как реликвии. Почему же это так?
Всё дело в том, что эти два противоположные подхода (отвращение и почтение) к предметам, причинившим нам или нашим близким страдания, объясняются исходом дела. Если бандит зарезал ножом некоего человека, то этот нож действительно не будет вызывать у его матери ничего, кроме отвращения. Она действительно никогда не станет его хранить и тем более почитать, а если бы она стала это делать, то мы бы по справедливости могли заподозрить её в безумии и потери здравомыслия.
Но если солдат получил ранение на поле боя и не погиб, но выжил, то пуля, причинившая ему страдание, вызывает у него и его родных уже не отвращение, а радость и гордость. И чувства эти рождаются по вполне понятным причинам. Во-первых, солдат этот всё-таки выжил и в определенном смысле победил смерть - от того и радость. Во-вторых, тот осколок, который ранил и причинил страдание этому бойцу, есть видимое свидетельство и вещественное доказательство того, как жертвенно он сражался за свою родину, и сколько он за неё претерпел - от того и гордость. Точно так же и с пистолетом и пулей Ленина. Они вызывают у коммунистов не отвращение, а гордость, и именно потому, что, во-первых, Ленин после ранения всё же выжил и прожил после того ещё не один год, и, во-вторых, потому, что эти предметы есть материальное, видимое свидетельство того, ценою каких страданий их "великий вождь" добыл "измученному пролетариату" победу над врагами.
Таким образом, говорить об отвращении к орудиям казни можно было бы, если бы Христос не победил, если бы Он не воскрес, если бы дьявол на кресте действительно убил и навеки погубил бы Сына Божия. Но в том всё и дело, что Христос воскрес, а крест послужил, на самом деле, орудием убийства диавола, а не Христа!! И поэтому, крест есть не мерзкое орудие казни, а великое и славное средство нашего спасения. Посредством креста Христос не бесславно проиграл, а славно победил! Посредством креста Бог доказал и явил Свою великую любовь к погибающему человеку; посредством креста мы можем взойти на небо; посредством креста дьявол посрамлён и побеждён; посредством креста разрушен и лишен своей силы ад.
О значении креста говорит Ап. Павел: "Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем" (Еф. 2:15,16). Потому, крест это средство нашего спасения и знамение победы Христа над дьяволом. Это только у протестанта крест вызывает отвращение и память о трагедии; а у здравомыслящего человека, у христианина, не заражённого бесовско-протестантскими лжемудрствованиями, крест вызывает духовный восторг, торжество, счастье и радость спасения; и напоминает он не о трагедии, а о неизреченной, жертвенной Христовой к нам любви, и о великой и преславной победе Христа над дьяволом и адом. Очень замечательный древнехристианский рисунок на эту тему приводит в своей книге С.В. Санников ["Двадцать веков христианства", изд. Одесса, 2002 г., том. 1, стр. 158], где изображён крест с якорем в основании - обычное для древней Церкви изображение креста - на котором вниз головой повешен змей, голова которого проткнута крестом.
Здесь обязательно нужно отметить, что крест, конечно же, вызывает у православных не одно только ликование и прочие радостные эмоции. Православие, взирая на крест, как раз таки очень хорошо помнит, как дорого Спаситель купил спасение рода человеческого. И именно ради соучастия со Христом в Его крестных скорбях, Церковь изначала и на все века установила пост в среду и пятницу, то есть в те дни, которые Христос был предан и распят. Кроме того, самый важный, длительный и строгий православный пост, называемый Великим, - во время которого храмы переоблачаются в чёрный цвет и совершаются траурные службы в воспоминание страданий Христовых; во время которого верующие удаляются от всевозможных даже позволительных радостей жизни, каких как вкусная пища, хождение в гости, супружеское общение и т.п.; во время которого верующие совершают много поклонов и молитв, - посвящён именно страданиям Христовым [Подробнее о Великом Посте и постах в среду и пятницу читать в главе 9 настоящей книги "О постах"]. В праздник же крестовоздвижения Церковь также предписывает строгой пост. Таким образом, православные хорошо помнят, какие муки претерпел за нас на кресте Сын Божий, но это памятование никак не побуждает гнушаться крестом и считать его за мерзость.
Чтобы понять, что подобное двойное чувство (радости и печали), которое испытывают православные ко кресту, не есть явление ненормальное и противоречивое, можно представить себе, как бы мы относились к самим ранам и рубцам Христа? Эти раны есть наше спасение от вечной погибели, наш вход в небеса; они есть свидетельство великого подвига Христа и доказательство неизреченной Божьей любви к человеку; они есть вечная слава Христа, как написано: "на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством" (Ис. 53:11). Таким образом, раны Христа вызывают у Церкви радость спасения и духовный восторг. Но в тоже самое время, эти раны вызывают и некую печаль, сострадание и сочувствие Христу в Его страдании, которое Он претерпел. Но печаль эта никак не устраняет радости, и, тем более, никак не вызывает отвращения к ранам Христа. Вот так и крест: он вызывает у Церкви печаль и сострадание Христу, потому она и поститься и сопечалится с Ним, но печаль эта никоим образом не вызывает у неё презрения ко кресту.
Ещё нужно заметить, что почтительное отношение православных ко кресту не есть особое, исключительное явление. Скорее, это тенденция и обычный образ церковного мышления. Если бы в руки к православным попали бы, например, гвозди, которыми был распят Христос, или плеть, которой Его избивали, или меч, которым был усечён Ап. Павел, или крест, на котором был распят Ап. Пётр и т.д., то все эти и подобные им предметы стали бы для них святынями и реликвиями. Терновый венец Спасителя, к примеру, с великой честью храниться сейчас во Франции в Нотр-Даме католиками. И хотя венец этот и причинил боль Спасителю, но он для православных, - равно как и для католиков, которые не отошли от Православия в этом вопросе так, как протестанты, - есть не гнусная мерзость, а великая святыня, к которой съезжаются многие паломники. Почему нужно было бы чествовать, к примеру, меч, которым был усечён Ап. Павел? Почему он есть святыня, а не мерзкое орудие убийства? Именно потому, что как и всякая святыня этот меч был избран Богом для такого особого дела. В мире было и есть миллионы мечей, но именно посредством одного меча Ап. Павел стал у Бога мучеником и совершил окончательно свой подвиг любви. Этот меч есть святыня и потому, что он был обагрён святой кровью великого Апостола Христова. Потому и достоин он не презрения, а почитания. И причины такого почтительного отношения понятны решительно всем людям, даже не христианам, кроме нас, протестантов. Да и то, если бы этот меч, или терновый венец Спасителя попали бы нам в руки, то что бы мы стали с ними делать? Конечно, первая реакция протестанта - сомнение и отвержение их подлинности. Но если бы так случилось, что мы бы точно знали, что эти предметы действительно те самые, то что бы мы сделали с ними? Полная растерянность…
Почитать их не позволяет наше богословие, а выкинуть вместе с мусором или сжечь как мерзость не позволит совесть и остатки здравого смысла. Подобный вопрос мы уже ставили в предыдущей главе насчёт платков и опоясаний с тела Ап. Павла. Чтобы мы стали с ними делать, попади к нам все эти предметы в руки? Недоумение. И вот именно это недоумение и вскрывает всю непоследовательность и противоестественность протестантского отвращения от креста и прочих предметов, благодаря которым Христос и святые не просто претерпели мучение и смерть, но, самое главное, совершили великий подвиг любви.
Конечно, при всей разумности приведенных рассуждений о сути истинного здравомыслия, протестанту этого недостаточно: ему нужно иметь библейское подтверждение того, как нужно относится ко кресту. Поэтому, обратимся теперь к Библии, которая предоставляет нам много прообразов и пророчеств о кресте Христовом, которые протестанты просто не замечают и не желают понимать их смысла. Вот главные места Ветхого и Нового Заветов, свидетельствующие о важном и положительном значении креста. Рассмотрим эти стихи в порядке библейских книг.
1) В Быт. 47:31 мы читаем также, что Иаков "поклонился… на возглавие постели". По переводу 70-ти (Септуагинте) не "на возглавие постели", а "на верх жезла своего" [Это разночтение может быть объяснено тем, например, что жезл Иакова стоял у возглавия его постели, и таким образом, Иаков поклонился на свой жезл и на возглавие постели одновременно. Технически же происхождение этого разночтения объясняется тем, что древние евреи, как известно, писали в словах только согласные буквы. Слова же "постель" (мита) и жезл (матэ) имеют одни и те же согласные буквы, и соответственно писались одинаково - мт. Потому и прочесть это слово по-еврейски можно и как постель, и как жезл. Но важно то, что 72 образованных еврейских переводчика Септуагинты, представители благодатной и ещё не отвергнувшей Христа Ветхозаветной Церкви, а в дальнейшем и Ап. Павел (см. Евр. 11:21) растолковали это слово именно как жезл. Слово же постель использовали иудеи уже в 9-м веке, когда они делали огласовку текста и вставляли в текст гласные буквы. Из этих фактов должно быть понятно, что даже если признавать полную не случайность всех двусмысленных слов в Библии; если даже считать, что Сам Дух Святой желал, чтобы оба эти смысла присутствовали в Быт. 47:31 в указанном еврейском слове, тем не менее, слову "жезл" должно отдавать предпочтение]. Это событие вспоминает и Ап. Павел (подтверждая, кстати, правильность перевода Септуагины): "верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего" (Евр. 11:21). Как можно понять эти места, и чему (или кому) в действительности поклонился Иаков? Православное богословие объясняет эти места так, что жезл Иакова, как и большинство жезлов в то время, был сделан крестообразно; то есть, в верхней части жезла была небольшая перекладина, за которую легче было держаться, чем за голый шест. (Кстати, жезл такой формы до сего дня носят православные архиереи). И Иаков, провидя страдания Христовы, поклонился своему жезлу как прообразу креста Христова.
Другими словами, он поклонился распятому на кресте Христу. Потому-то Ап. Павел в Евр. 11:21 и поставляет поступок патриарха на ряду с великими и достойными подражания делами веры других праведников Ветхого Завета, так как своим поклонением на верх своего жезла Иаков явил твёрдую веру и грядущего и имеющего пострадать Христа. Потому и вспоминает об этом событии Ап. Павел именно в послании к Евреям, которым очень важно было показать, что Ветхий Завет пророчествует о страдающем и распятом Мессии, а не только о славном и победоносном.
Протестантам же, естественно, такое толкование будет не по душе (точнее, не по духу протестантизма). Но если так, то чему тогда поклонился Иаков? Не пробегайте этот вопрос, мои бывшие братья протестантсвующие, а остановитесь и попробуйте положительно на него ответить: если не кресту Христовому поклонился Иаков, то чему же тогда? Просто жезлу? Шесту? Или своей кровати? Значит, нужно признать, что Иаков был грубый идолопоклонник; значит, Иаков поклонялся не только Богу живому, но и бездушным "изделиям рук человеческих". Но если так, то почему же Ап. Павел не порицает поступок Иакова как согрешение, а хвалит его?..
На эти вопросы у нас нет, и не может быть разумного ответа. Мы можем либо самым наглым образом отказываться замечать данные места Библии и отвечать на поставленные вопросы [Многие протестанты, конечно же, чтобы не остаться в безответном постыжении, могут для видимости на это что-то говорить и колебать воздух звуками, но вот только по сути мы ничего не можем ответить на эти вопросы], либо согласиться с мудрым православным объяснением этих мест. Но тогда нам нужно будет признать, что если Иаков не только не согрешил, но и совершил подвиг веры, когда поклонился своему жезлу как прообразу креста, то и православные поклоняясь кресту не только не согрешают, но поступают весьма богоугодно, подражая праведному патриарху.
2) Быт. 48:13. Иаков прообразовал своими руками крест, когда по вдохновению, благословляя детей Иосифа, положил на них свои руки не прямо, а крестообразно.
3) Исх. 17:11: "И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик". Моисей, поднимая руки к небу, прообразовал собою Христа, висящего на кресте [Невозможно представить, чтобы Моисей держал свои руки строго вертикально (как школьники, делающие зарядку). Он держал их молитвенно, т.е. вверх и немного в стороны, точно так, как были расположены руки Христа на кресте]; благодаря этому прообразу креста Израиль и побеждал врагов. Воздевать руки подобным образом Ап. Павел повелевает и нам: "Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения" (1 Тим. 2:8). Протестантский толкователь Библии У. Баркли комментирует это место так: "Раннехристианская Церковь переняла иудейскую манеру молиться стоя с вытянутыми вперед ладонями вверх руками. Позже Тертуллиан скажет, что это отражало позу Христа на Распятии". И нужно заметить, что в молитве с поднятыми руками усматривал крест не только Тертуллиан, но и другой - ещё более древний апологет Церкви Марк Феликс, который писал: "…человек, когда он распростерши руки, чистым умом возносит молитву к Богу, представляет образ креста" (Октавий, 29). И нет сомнения в том, что вот такое крестообразное воздевание рук при молитве имеет свою великую значимость, знаменуя силу распятого Христа. Вот потому и Моисей, и ветхозаветные евреи, и древние христиане воздевали руки подобным образом. Потому и Ап. Павел и повелевает мужам так молиться. И здесь уместно указать, что православный священник и поныне неоднократно при совершении каждой литургии по заповеди Апостола воздевает в молитве руки, образуя при этом крест и указуя самим собою на распятого Христа [Использование такой возвышенной формы прообразования креста при совершении богослужения Церковь предписывает сейчас только епископам и священникам. Мирянам же и женщинам Православная Церковь утвердила использовать, по крайней мере, при общественной молитве, несколько иную форму прообразования креста - крестное знамение. Приступая же к причастию православные используют ещё одну форму воздевания рук, изображающую крест - сложение рук на груди в виде креста].
4) Числ. 21:8,9: "И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив". Мы, как правило, не придаём значения, какого вида было "знамя", на которое был выставлен змей. Было же оно именно в виде креста. И известно это православным не только из иудейского предания. Такое мнение обоснованно многими ясными причинами.
Во-первых, в тексте употреблено слово "знамя", а не "шест". Древние же знамена обычно состояли из шеста и перекладины, на которую и вешалось само знамя. Так, между прочим, носили свои знамёна римляне, о чём свидетельствует, например, Иустин Мученик (II в.) в своей первой Апологии (п. 55), адресованной римским правителям: "И ваши символы представляют силу крестообразной формы. Я разумею знамена и трофеи, с которыми повсюду вы совершаете свои торжественный шествия, являя в них знаки вашей власти и силы…".
Подобный аргумент приводит и Октавий (II-III вв.) в опровержение обвинения христиан язычником Цецилием в том, что почитать крест, позорное орудие казни, есть гнусность: "Но самые знамена ваши и разные знаки военные что иное, как не позлащенные и украшенные кресты? Ваши победные трофеи имеют вид не только креста, но и распятого человека. Естественное подобие креста мы находим в корабле, когда он несется распустивши паруса или подходит к берегу с простертыми веслами. Точно также ярем, когда его подвяжете, похож на крест… Итак, изображение креста находится и в природе, и в вашей религии" (Минуций Феликс, "Октавий", гл. 29).
Знамёна были и в Израильском народе: "сыны Израилевы должны каждый ставить свой стан при знамени своём" (Числ. 2:2). Такие знамёна (хоругви) до сих пор используют православные во время крестных ходов. Хоругвь же состоит именно из шеста с перекладиной, образующие крест, и прапора со святыми изображениями.
Во-вторых, сам Христос сравнивал вознесение Моисеева змея со своим распятием: "И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:14,15). Так как Христос был вознесён именно на крест, и так как Ветхий Завет был прообразом и тенью Нового Завета (ср. Евр. 10:1: "закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей"), то совершенно естественно не только предполагать, но и с уверенностью утверждать, что Моисей также вознёс змея не просто на шест, а на крестообразное знамя. К тому же, очевидна и другая параллель между знамением Моисея и крестом Христовым: как древние евреи, взирающие на змея, висящего на кресте, спасались от смерти, так и сейчас, всякий кто с истинной верою взирает на распятого на кресте Христа, спасается от вечной смерти; и как тогда на кресте змей был обезврежен (пойманная и повешенная на знамя змея не может причинить человеку вред), так и на кресте Христовом древний змей диавол был лишён своей власти.
Кстати, к данному разговору очень уместно привести Числ. 21:8 по расселистскому переводу "Нового мира": "Иегова сказал Моисею: "Сделай ядовитую змею и прикрепи её к сигнальному шесту". Протестанты и православные, слава Богу, единодушны в оценке данного перевода, и всем нам хорошо известно, что перевод этот совершенно искажён и подогнан "свидетелями Иеговы" под свою догматику. Они целенаправленно и планомерно изменили все места Библии, которые не согласуются с их учением.
Так вот, почему эти сектанты исказили Числ. 21:8, и слово "знамя" заменили неказистой фразой "сигнальный шест"? Чем это библейское место не угодило "свидетелям"? Ответ на этот вопрос очевиден совершенно: они сделали такое изменение именно потому, что считают, что Христос был распят на бревне, а не на кресте, и потому в Ветхом Завете у них должен быть не прообраз креста (знамя), а прообраз бревна (шест). Вот так, сам сатана через своих "свидетелей" выдаёт себя, и указывает (для имеющих ум Христов или просто здравый смысл) на то, что знамя Моисея, во-первых, действительно было крестообразным, и что, во-вторых, оно действительно служило прообразом креста Христова.
В-третьих, Церковь из древности признавала, что знамя Моисея было в форме креста. Так, св. Иустин Мученик (II в.) показывая, что почти всё, что есть у греческих философов, было взято из Библии, говорит: "И то, что у Платона в Тимее говорится в физиологическом отношении о Сыне Божием, когда говорится, что Он (Бог) поместил Его во вселенной наподобие буквы Х, он также заимствовал у Моисея. Ибо в Моисеевых писаниях рассказано, что в то время как израильтяне вышли из Египта и были в пустыне, напали на них ядовитые животные, ехидны и аспиды и всякого рода змеи и истребляли народ; и Моисей по вдохновению и действию Божию, взял медь и сделал образ креста и поставил его в святой скинии и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь через него. Вследствие того змеи, как написал Моисей, стали умирать, а народ через такое средство избежал смерти. Платон прочитал это, и, не зная точно, и не сообразивши, что то было образ креста, а видя только фигуру буквы Х, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была во вселенной на подобие буквы Х" (Иустин Мученик, Апология 1, п. 60).
В-четвёртых, удобнее всего закрепить змея не на вертикальном шесте, а на шесте с перекладиной.
Во-пятых, протестанты и сами часто изображают знамя Моисея в виде креста. Так, в самой популярной среди постсоветских протестантов детской Библии [Б. Араповича и В. Маттелмяки, хотя большинство знают эту Библию не по именам составителей, а по синей обложке с изображением Рождества] медный змей висит именно на кресте.
Итак, ещё в древности Моисей установил крест с повешенным на нём змием, прооразовав тем самим победу Христа над древним змием на кресте. Таким образом, крест есть средство поражения не Христа, а диавола; крест есть славное орудие победы Христа, а не победы над Христом. Поэтому, крест есть славное средство нашего спасения, а не отвратительная мерзость.
5) Псалмопевец Давид призывает: "Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно" (Пс. 98:5, а также: "Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его" (Пс. 131:7). Пророк здесь призывает поклониться храму Божию, который часто называется в Библии "подножием Божием" (в предыдущей главе мы об этом уже говорили); это - буквальное толкование данного стиха. Но у данных библейских слов есть ещё и другой смысл: Давид пророчески призывает поклониться кресту, который стал действительно и буквально подножием Бога, когда пречистые ноги Христа были к нему пригвождены; это - толкование намёком (евр. рэмэз).
В. Трубчик комментирует данный библейский аргумент, приводимый православными в пользу почитания креста, и пишет так: "Но как же сами православные объясняют поклонение кресту? Ясно, что прямого повеления поклоняться кресту или еще каким-то вещественным предметам в Библии не найдешь [Кстати, это утверждение, которое повторяют многие протестанты - наглая ложь, которую мы уже обличили в предыдущей главе], поэтому православным приходится защищать свое поклонение этим вещам, скажем так, неубедительными доводами. Вот один из них: "Пс. 131:7. 'Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его'. Объяснение. Под 'подножием' здесь должно разуметь не землю, которая для Господа и для нашего спасения ничего не сделала (ср. 'проклята земля': Быт. 3:17), а святой Крест Господень, и на основании сего места должно воздавать 'поклонение' и 'прославление' честному Кресту, послужившему орудием чести и величайшего добра для всего человечества: Еф. 2:16. Слово о Кресте есть сила Божия: 1 Кор. 1:18" [Данный православный аргумент В. Трубчик цитирует по книге "Мечь духовный", глава "О почитании святого Креста"]. Как видим, акцент делается на призыв в псалмах поклониться "подножию ног Божьих". Это якобы и является призывом поклоняться кресту.
Составители книги прибегают и к другим местам в Ветхом Завете, где упоминается подножие ног Господа. Это и есть основной аргумент в учении о поклонении кресту". Итак, В. Трубчик сам указывает на "основной аргумент" православных в пользу поклонения кресту, но если этот аргумент важнейший, то где же, уважаемый Василий, Ваш на него ответ? Его совершенно нет. Весь ответ заключается только в многозначительном слове "якобы"; этим словом В. Трубчик сообщил нам, что лично он не согласен с православным аргументом, но где, кроме этого субъективного якобы, богословский и библейский ответ на него? Его нет. Ведь я не оборвал мысль В. Трубчика, и не вырвал его слова из контекста.
Сразу после вышеприведенной цитаты он пишет: "Что же касается упомянутых мест из Нового Завета, так они ровно ничего не говорят о поклонении кресту"; то есть, разговор о Пс. 131:7, где говорится о поклонении подножию Божию, В. Трубчик закончил, и перешёл на обсуждение мест Нового Завета. Почему же он ничего по существу не сказал в опровержение "основного аргумента" православных в пользу почитания креста? Понимая, как бывший баптист, протестантское мышление, я могу указать очевидную тому причину. В. Трубчик, как и всякий защитник протестантских догматов, должен был начать опровержение данного аргумента прежде всего с непризнания того, что здесь Библия пророчествует о кресте, и сказать примерно следующее: "здесь идёт речь не о кресте". Затем В. Трубчику нужно было бы указать на положительный смысл данного призыва и указать, о чём же тогда идёт речь. То есть, дальше сказать нужно было примерно так: "Здесь говорится о Иерусалимском храме, и именно ему - но никак не кресту - и призывает псалмопевец поклониться". Это объяснение было бы хотя и не полное, но правильное и вполне обоснованное библейским контекстом, ведь храм действительно часто называется подножием Божиим, и, к тому же, в другом месте Давид говорит о поклонении храму уже прямо: "...поклонюсь святому храму Твоему" (Пс. 5:8); "Поклонюсь пред святым храмом Твоим..." (Пс. 137:2).
Так почему же В. Трубчик не привёл такой контраргумент в опровержение "основного аргумента" православных? Неужели не догадался? Нет, конечно, а причина такого скромного молчания протестантов очевидна как ясный Божий день. Ведь сказать, что кресту нельзя поклоняться, а храму можно, для протестантов поражение. Мы ведь не хотим признавать никакого поклонения никакой святыне, поэтому В. Трубчику и приходится врать, что "прямого повеления поклоняться кресту или еще каким-то вещественным предметам в Библии не найдешь". И раз в Пс. 98:5 и 131:7 мы встречаем ни что иное, как прямой призыв поклониться именно вещественному предмету, подразумевать ли под ним один только храм или ещё и крест, то протестантам ничего не остаётся, как только обходить такие места молчанием. Вот мы и видим, какая у протестантизма "правда"; вот мы и видим, как на самом деле протестанты чтят слово Божии - так "чтят", что не стыдятся нагло врать и попросту закрывать глаза на неудобные места Св. Писания.
6) Прем. Солом. 14:7: "Благословенно дерево, чрез которое бывает правда". Мы знаем, что дерево, через которое была явлена людям праведность [В еврейском, как и в греческом, языке слова "правда" и "праведность" - одно и то же слово] Божия, и через которое человек может сделаться праведным, есть крест Господень. И оно названо не проклятым и отвратительным, но благословенным.
7) Ис. 60:13: "Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я прославлю подножие ног моих". В этом стихе говорится, прежде всего (хронологически), о славе Иерусалимского храма, но пророчески (и этот смысл духовно важнее), о том подножии, к которому были пригвождены ноги Христа. По преданию именно из перечисленных пород деревьев и был составлен сигнальный шесткрест Христов. И раз Сам Бог не гнушается крестом, а прославляет подножие Своих ног, то и Церковь прославляет крест Христов.
На это протестанты могут сказать, что подобное толкование надумано и подогнано. Но на это возражение у православных есть законный вопрос: в судьи кто? Кто мы такие, чтобы указывать Церкви, как нужно ей толковать своё же Священное Писание? Другими словами, откуда мы знаем, что Дух Святой не имел в виду такого смысла при написании этого пророчества? Мы этого не знаем, и знать не можем, и мы не хотим принимать такого толкования только потому, что, во-первых, исходим из своей догматики, которая предписывает нам отвращаться от креста, и, во-вторых, из своих правил и принципов толкования Библии. Но здесь следующий законный вопрос: а откуда мы взяли свои принципы? Они даны и описаны в самой Библии? Если нет, если их придумали мы сами, то тогда мы основываемся на человеческом предании, а не на слове Божием…
Об этих наиважнейших и можно сказать самых ключевых вопросах мы подробно ещё будем говорить дальше III части книги "О Священном Писании и Священном Предании". Здесь же пока хочется сказать то, что Новозаветная Церковь, равно как и Ветхозаветная, использует 4 метода толкования Св. Писания:
1) буквальное (евр. пшат);
2) намёк (евр. рэмэз);
3) аллегорическое (евр. драш); и
4) тайна (евр. сод) [Кстати, первые буквы в указанных еврейских словах образуют согласные прдс еврейского слова пардэс, что значит рай. Древние евреи придавали этому обстоятельству большое значение и считали, что только используя все эти толкования можно достичь рая].
И в Ис. 60:13 Церковь видит именно ясный пророческий намёк на крест Христов, а если мы его не видим, то это не потому, что его там нет, а потому, что мы слепы.
8) Очень важное пророчество о крестном знамении произнёс Сам Христос, говоря, что перед Его славным Вторым Пришествием "явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою" (Мф. 24:30). Что это за знамение, которое явится на небе перед пришествием Христа и которое будет видно всем людям? Это знамение есть не что иное, как крест Господень! Ведь какое иное лучшее знамя может быть у Христа, если не крест? Увидев на небе крест, народы поймут, Кого обозначает это знамение, и потому и восплачут, а затем уже грядёт Сам Христос. То, что знамя Христа и всех христиан есть именно крест хорошо понятно и православным, и католикам, и даже буддистам и мусульманам. Всем, кроме нас, "самых умных" протестантов.
То, что крест есть важнейшее знамя христиан понятно хотя бы по аналогии Моисеева медного змея, служившего прообразом Христа: если крест, на который Моисей вознёс змея, назван знаменем, то и крест, на который был вознесён Христос, также есть знамя - знамя Христа и христовых. Кроме того, Церковь из начала называла крест именно знамением христиан - ниже, в цитатах Иринея Лионского и Иоанна Златоуста, можно увидеть тому подтверждение. Важно также, что под словами Христа о "знамении Сына Человеческого" отцы Церкви, такие, как, например, И. Златоуст, разумели именно крест (в чём также можно убедиться из нижеследующей цитаты).
Итак, знамение Христа есть крест, славное явление которого на небе будет предшествовать Второму Пришествию Христа. Только из одного этого факта каждый может понять, что крест никак не есть мерзость для истинных христиан, а великое, славное и победоносное знамение Христа, символ победы над диаволом и его всем его царством.
9) Гал. 6:14: "Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего...". Вновь мы видим, что Ап. Павел не гнушается, а хвалится крестом Христовым.
10) Еф. 2:16: "… и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём". Как видим, для Ап. Павла крест также есть не мерзость, а средство примирения Бога и человека.
11) Фил. 3:18: "Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова". То есть, грешники есть враги не просто Христа, но и креста, что указывает на тесную связь Христа и креста!
12) Кол. 1:20 содержит еще более удивительные слова о кресте Христовом. Ап. Павел пишет, что Отцу было благоугодно "посредством Его (Христа) примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное".
О последних четырёх стихах из апостольских посланий нужно заметить, они для нас, протестантов, не очень удобные, и нам как-то подсознательно хотелось бы, чтобы в данных стихах вместо слова "крест" стояло слово "Христос": "хвалиться Христом", примирение "посредством Христа", "враги Христовы", "кровию Христа". Так бы нам было бы понятнее и уютнее. Ведь действительно, какая у креста есть кровь? Почему Ап. Павел говорит о крови креста, а не о крови Христа? Для нас здесь какое-то затруднение. Но Писание использует именно слово крест, так как он после смерти Христа стал символом Самого распятого Христа! Именно так относится Православие ко кресту, и именно этим объясняется то, почему Ап. Павел использует слово "крест" вместо слово "Христос". В "Мече духовном", например, в объяснении Гал. 6:14 говорится: "Здесь вразумление для хулителей Креста. Если бы кто сказал, что апостол хвалится не Крестом, а Господом, который был на нём распят, тому ответим: в том-то и заключается слава Креста, что он называется у апостола вместо самого Христа, или служит знамением Самого Распятого, и кто поклоняется Кресту, тот через сие поклоняется Христу" (стр. 457).
Напоследок, ещё один библейский аргумент. Лучший способ убедиться, что крест должен занимать в христианстве именно положение великой и почитаемой святыни (как у православных), а не мерзкого, ненавистного и отвратительного орудия убийства (как у протестантов), состоит в том, чтобы провести параллель между ветхозаветным жертвенником и крестом, ибо крест поистине стал новозаветным жертвенником. Более того, жертвенник был только прообразом креста, ибо если ветхозаветные жертвы прообразовали Христа (что все протестанты хорошо знают), то жертвенник прообразовал ни что иное, как крест, на котором и был принесён в жертву пречистый Божий Агнец.
А какое было отношение к жертвеннику в Ветхом Завете? Как относились к нему евреи? Как к отвратительному орудию убийства множества неповинных животных (хотя он действительно служил средством убийства!), или как к великой святыне? Конечно же, как к святыне! В Исх. 29:37 сказано: "...будет жертвенник святыня великая: все прикасающееся к жертвеннику освятится". Христос словами "что больше: дар или жертвенник, освящающий дар" (Мф. 23:19) так же подтвердил великую святость, а не мерзость жертвенника. Итак, хотя на жертвеннике убивали множество неповинных животных, хотя он был, по сути, ни чем иным, как орудием убийства, к нему относились не с отвращением, а с великим почтением, считая его великой святыней.
Так и крест: хотя он и послужил орудием убийства Христа, но он является не мерзостью, а великой святыней, символом Христовой победы и знамением народа христианского. Хочу подчеркнуть, что сопоставление жертвенника и креста есть важнейший аргумент в решении того, как нужно относится ко кресту - с почтением или отвращением.
Православная Церковь прообразы, пророчества и намёки на крест мудро замечает и во многих других местах Библии, таких как Ис. 9:6 Ис. 65:2: и Еф. 3:18, но они более сложны для понимания. Нам будет вполне достаточно согласиться хотя бы с вышеприведенными свидетельствами Библии, которая говорит о кресте Христовом и относится к нему совсем не так, как мы. Исаия говорит о славе креста, а Соломон называет его благословенным древом; Моисей силою крестного знамения доставляет победу Израилю; с верою взирая на прообраз распятия, евреи исцеляются от смертельных укусов змей; Иаков по вдохновению крестообразно благословляет Манасию и Ефрема, и, провидя страдания Христовы, поклоняется кресту, а через пророчество псалмопевца Господь призывает и нас к такому же поклонению. Христос же возвестил нам, что перед Его Вторым Пришествием знамение креста явится на небе с великой славой. Поэтому, тот факт, что мы гнушаемся крестом, противимся ему, не почитаем его, не поклоняемся ему как святыне - более того, называем таковое поклонение идолопоклонством, есть крайнее безумие протестантизма. Не крест есть отвратительное орудие убийства и идол, а наше отношение ко кресту есть мерзость и богохульство пред Богом.
Теперь узнаем, как относилась ко кресту ранняя Церковь.
Факт: в римских катакомбах, где собирались, прячась от гонений, первые христиане, находят множество изображений и изделий креста (см. рис. 1-3) [С.В. Санников в своём фундаментальном труде "Двадцать веков христианства" приводит и другие древние изображения креста (см., например, стр. 55, 71, 122, 123)]. Также, найдена христианская гробница I-го века, на которой выбит крест (рис. 4)[Jerusalem Burial Cave Reveals: Names, Testimonies of First Christians. http://www.leaderu.com/theology/burialcave.html]



Рис.1 Рис.2 Рис.3


Рис.4 Рис.5
Самые же древние и неоспоримо достоверные сведения об этом мы имеем из раскопок древнего города Помпеи, полностью похороненного при извержении вулкана Везувия 24 августа 79 года I-го века. При раскопках обнаружены изображения креста (один из них см. на рис. 5)[О помпейском кресте см работы: MaiuriAmadeo. La Croce di Ercolano. // Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Vol. XV, 1939. P. 193–218; также: Sukenik E. L. The Earliest Records of Christianity. // American Journal of Archaeology. Vol. 51 (4), 1947. P. 364–365; Holladay W. L.]. С.В. Санников в своей книге «Двадцать веков христианства» приводит и другие древние изображения креста[См., например, сс. 55, 71, 122, 123]. Всё это свидетельствует о том, что христиане с самого начала, ещё при Апостолах не гнушались крестом, а чтили и использовали его на своих Богослужениях, в домах, при погребении.
Другой важный факт: древние христианские писатели II-III веков, такие как Тертулиан, Ориген и Феликс, свидетельствовали, что язычники даже укоряли христиан в боготворении креста [См. Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", т. II, c. 576]. Так, например Марк Минуций Феликс приводит такое обвинение на христиан от имени язычника Цецилия: "Говорят также, что они почитают человека, наказанного за злодеяние страшным наказанием, и бесславное древо креста…" (Октавий, гл. 9); и дальше: "Вот пред вами угрозы, пытки, казни и кресты, приготовленные уже не для того, чтобы вы им покланялись, а для вашего распятия..." (гл. 12).
Естественно, древние христиане не боготворили крест, и не поклонялись ему как Богу, а почитали крест как святыню. Язычники же, обожествлявшие всё вокруг - людей, животных и неодушевлённые предметы и стихии - видя почтительное отношение христиан ко кресту и, не умея классифицировать это почтение никак иначе, как обожествление, и посчитали, что христиане боготворят крест. И нужно ясно понять, что такие укоры от язычников могли явиться только потому, что первые христиане действительно почитали крест. Если бы они мыслили о кресте и относились к нему как протестанты, то со стороны язычников никогда бы не могли явиться подобные укоры. Как говорится, "дыма без огня не бывает". Язычники клеветали на христиан и извращали их учение, но в их обвинениях всегда был какой-то повод, нечто истинное, что они искажали.
Так, в древности на христиан возводили три главных обвинения: безбожие, каннибализм и разврат. Об этом говорят древние христианские апологеты, например Афинагор (II в.): "Нас обвиняют в трех преступлениях: в безбожии, в ядении человеческого мяса, подобно Фиесту, в гнусных кровосмешения Эдиповских" (Прошение о христианах, п. 3). В этих трёх пунктах обвиняет христиан и язычник Цецилий: "…не следует ли сожалеть о том, что дерзко (1) восстают против богов люди жалкой, запрещенной, презренной секты (т.е., христиане), …которые в ночных собраниях с своими торжественными постами и (2) бесчеловечными яствами сходятся не для священных обрядов, но для (3) скверностей" (Марк Феликс, "Октавий", гл. 8).
Эти вопросы затрагивают в своих сочинениях также Иустин Мученик и другие древние апологеты Церкви. И хотя названные языческие обвинения были лживы, тем не менее, взяты были они не "из воздуха", а из некоторой реальности, которую язычники, не поняв, извратили. Так, христиане действительно:
1) не почитали языческих богов и императора как бога - отсюда и явилось обвинение в безбожии;
2) христиане считали, что в причастии они вкушают тело и кровь Христовы - отсюда и явилось обвинение в каннибализме [Забегая наперёд хочется отметить, что данный факт есть важный аргумент в пользу реальности, а не символичности причастия];
3) христиане собирались на тайные ночные собрания, которые, к тому же, назывались агаппами (вечерями любви), приветствуя друг друга целованием - отсюда и явилось обвинение в распутстве.
С.В. Санников последние два обвинения оценивает именно таким образом: "Видя "поцелуи мира", которыми завершались христианские собрания, язычники обвиняли их в сексуальных извращениях, групповом разврате и инцесте. Слыша во время евхаристии слова: "Сие есть Тело Мое, Сие есть Кровь Моя", - они обвиняли христиан в ритуальных убийствах своих детей и канибализме" ["Двадцать веков христианства", том 1, стр. 118]. Вот так и в отношении креста: древние христиане почитали крест - отсюда и явилось обвинение в боготворении креста. Эту мысль нужно твёрдо уяснить: если бы первые христиане относились ко кресту так, как, например, советские баптисты, которые никоим образом не почитали крест, не совершали крестного знамения и запрещали его где либо изображать и как либо использовать, то подобное обвинение просто никогда не могло бы возникнуть. Итак, само существование со стороны язычников обвинения христиан в боготворении креста свидетельствует о том, что древние христиане чтили крест и использовали его изображения [Знакомый с жизнью древней Церкви может вспомнить, что язычники обвиняли христиан также в поклонении ослу. Это обвинение мы слышим, например, из уст того же язычника Цецилия: "Слыхано, что они, не знаю по какому нелепому убеждению, почитают голову самого низкого животного, голову осла" (Марк Феликс, "Октавий", гл. 9; в 28-й главе Октавий даёт ответ на это обвинение). И С.В. Санников при изложении истории древней Церкви ссылается на этот факт: "То, что христиане молятся распятому богу с ослиной головой, было самой распространённой молвой во II столетии. Римляне изобразили эту сцену в Палатинских катакомбах (данный рисунок в книге С. Санникова прилагается). Надпись гласит: "Алексамен молится своему богу"" ("Двадцать веков христианства", том. 1, стр. 113). Поэтому, протестант может спросить: "неужели и данное обвинение имеет какое-то основание? А если не имеет, то и обвинение в поклонении кресту также могло быть взято язычниками "из воздуха" и не иметь под собой никакого основания. Поэтому, вовсе не обязательно делать вывод, что древние христиане непременно почитали крест". Но если мы проанализируем вопрос об ослиной голове, то без труда заметим, что и данное суждение язычников имеет под собой почву, ибо христиане действительно поклонялись и молились Распятому на кресте: это и есть та правда, которая содержится в данной языческой клевете. А то, что римляне изобразили распятого с ослиной головой, как раз есть тот элемент клеветы, насмешки, извращения и надругательства, который добавили христианам их враги. Кстати, тот факт, что римляне изобразили ослиную, а не козлиную или другую голову, также не случаен, и в примечании к 9-й главе "Октавия" издатели дают тому объяснение: "Обвинение христиан в почитанин головы осла, по словам Тертуллиана, распространено Тацитом, который в своей истории говорил об иудеях, будто иудеи, истомленные жаждою во время странствования в пустынях Аравии, нашли источник по указанию ослов, и за то боготворили осла. Это мнение распространено и на христиан, по смешению их с иудеями. Тертул. Apolog. 16; ad nat. 1, п.". Таким образом, данное обвинение, как и те три, о которых мы выше говорили, имело свой повод; потому-то подобная клевета и была такой живучей, что содержала ложь не в чистом виде, а с примесью правды. Поэтому, очередное рассмотренное нами обвинение христиан (в поклонение ослу) ещё раз доказывает, что все языческие обвинения никогда не возникали на пустом месте, и не были чистой выдумкой, а содержали какую-то часть правды, хотя и искажённой; поэтому, факт обвинения христиан в поклонении кресту и его боготворении содержит ту правду, что древние христиане действительно почитали (но, естественно, не боготворили) крест. Можно вспомнить также ещё об одном известном обвинении христиан - в поджоге Рима. Это обвинение было ложным, но и оно не возникло из ничего, ведь христиане действительно веровали и веруют в уничтожение этого мира посредством огня].
Протестанты же до сих пор повторяют эту же языческую клевету на христиан в боготворении креста. Православный же ответ на это обвинение остаётся прежний: это ложь и клевета. Православные не боготворят крест (то есть, не делают его Богом и не поклоняются ему как Богу); они относятся ко кресту как к святыне. А то, что протестанты не умеют отличать святыню от Бога, это свидетельство нашего скудоумия и духовной ущербности. Повторяя клевету на христиан древних язычников, протестанты ясно показывают, к какому лагерю они духовно принадлежат. Если бы мы были из овец Христовых, а не из козлов дьявола, то мы, естественно, не бодали бы вместе с язычниками Церковь Христову за веру в таинство Плоти и Крови Христовых [Очень уместно здесь вспомнить, что когда я уходил из баптизма, то за мою веру в реальность причастия мои бывшие собратья обвинили меня в каннибализме - именно в том, в чём обвиняли язычники древних христиан! Вот как история повторяется, и действительно Соломон был прав, говоря: "что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем" (Екк. 1:9). Подумаем, братья мои протестанты: если мы продолжаем повторять на Церковь древнюю языческую клевету, причём слово в слово, то кто же мы тогда перед Богом? И что ждёт нас за это на Страшном Суде?] и почитание креста.
Иустин Мученик (ок. 100-165 гг.), - ученик св. Поликарпа Смирнского [Известно, что св. Иустин обратился ко Христу после того, как на берегу моря повстречался и имел беседу с почтенным старцем-христианином, которым и был, по преданию, Поликарп Смирнский, ученик Иоанна Богослова. По крайней мере, Евсевий и Мефодий свидетельствуют, что этим старцем был муж Апостольский. Мужами же Апостольскими называются ранние отцы Церкви, которые лично видели и слышали Апостолов, и оставили после себя письменные сочинения. К ним относятся: Климент Римский, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирнский, Папий Иерапольский, Ерм, Варнава, Кодрат Афинский], который в свою очередь был учеников самого Иоанна Богослова, - писал о кресте: "Крест, как предсказал пророк, есть величайший символ силы и власти Христовой" (Апология 1, п. 55). Крест, в глазах св. Иустина, не мерзкое орудие убийства, которое нужно откинуть подальше, не идол, а величайший символ силы и власти Христовой!
Мелитон Сардийский (II-III вв.) учил: "Господь… умер на кресте, чтобы оживить тебя крестом". В глазах Мелитона крест есть не мерзость, а важнейшее средство нашего духовного воскресения!
Далее он писал о кресте ещё так: "…люди непослушны закону, и иногда не верят живому кресту и Слову, распятому на нём, потому что Оно страдает" ["О душе и теле и страстях Господних", гл. 14, 21]. Интересно отметить, что слова Мелитона о "живом кресте" очень похожи на современное православное выражение "животворящий крест Господень".
Св. Ириней Лионский (ум. 202 г.) в своем труде "Доказательство апостольской проповеди" [Другие переводят название этого труда "Изложение апостольского учения"] (п. 56) пишет: "А слова: "Владычество на раменах Его", понимаемые аллегорически, означают крест, на котором пригвождена была Его спина. Ибо тот крест, который для Него был и есть поношением, равно как ради Него и для нас, означает Его владычество, т.е. знамение Его царства".
Дальше (п. 79) он опять повторяет свою мысль: "И опять о кресте Его Исаия говорит так: "Целый день Я простирал руки Мои к неразумному и непокорному народу" (Ис. 65:2). Ибо это - знамение креста" (п. 79).
Св. Иреней в первом из приведенных отрывков разрешает как раз то недоумение протестантов о кресте, которое мы обсуждали выше - как орудие казни может быть в почёте? Он говорит, что хотя крест был и есть для Христа и для христиан поношением, тем не менее, именно крест означает владычество Христа и есть знамение Его Царства. Крест знаменует собой именно то поношение, которое ради любви к нам добровольно претерпел Сын Божий, но которое сделалось величайшей славой Христа и явило Его жертвенную любовь к человеку. Вот каким образом поношение (крест) становится славой Христа и христиан! И если крест есть знамение (знамя) Христовой победы и нашего спасения, то как можно им гнушаться или презирать его?
Знаменем не гнушаются, а носят его с гордостью. Когда римские легионы, например, возвращались с боя с победой, то знамёна свои они несли впереди с великой честью и славой. Знамёна эти олицетворяли владычество Рима. И враги трепетали и впадали в ужас только от вида приближающихся римских знамён. Известно, что на войне потеря знамён считается большим позором, а водружение знамени на важном вражеском объекте есть символ победы над врагом. Когда фашизм был преодолён, то его знамёна были торжественно сжигаемы на площадях в знак его полного поражения и уничтожения. По этим примерам мы можем ясно судить, какую роль играет знамёна в людском сознании.
Вот так и в христианстве. Крест есть знамя Церкви, которым она не гнушается, а наоборот - высоко его поставляет и чтит. И от одного этого знамени, если оно используется с верою, бежит враг душ человеческих; от одного явления этого знамени Сына Человеческого при конце мира возрыдают и устрашатся все нечестивцы и слуги антихриста.
В древнейшей литургии Ап. Иакова, мы также находим подтверждение того, что первенствующая Церковь почтительно поклонялась кресту. Там есть такие слова: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко" [Приведенный аргумент был в моей книге и в предыдущих изданиях, и Е. Пушков в своей ответной книге "Не смущайся" даёт на него опровержение. Давайте процитируем и проанализируем его: "Заверение на восемнадцатой странице, что литургия служилась уже в I веке и там есть слова: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыка", неубедительно, так как не подтверждается Священным Писанием. Сам же автор книги будет потом приводить данные, что первые литургии составили Василий Великий и Иоанн Златоуст (середина и конец IV века). Иаков, брат Господень, написать литургии не мог. Согласно свидетельству историка Иосифа Флавия, он был убит за несколько лет до разрушения Иерусалима в 70-м году. Сын плотника вряд ли мог знать правила гармонии и композиции". Разделим этот текст на 4 утверждения и проанализируем их по отдельности.
1) "Заверение на 18-ой странице, что литургия служилась уже в I веке и там есть слова: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыка", неубедительно, так как не подтверждается Священным Писанием". Если такие требования мы, протестанты, будем предъявлять к самим себе, то сколько наших собственных заявлений можно по такому критерию отбросить как "неубедительные"? С таким же успехом тогда можно сказать: "Заявления баптистов о том, что И.С. Проханов сочинил много песнопений и ввёл в употребление среди евангельских христиан сборник "Гусли", в котором есть такие-то слова и песнопения, неубедительно, так как не подтверждается Священным Писанием"; или: "заявление баптистов о том, что "Е. Цимбал был приглашён в Любомирку, где он крестил Ивана Рябошапку" неубедительно, так как не подтверждается Священным Писанием", и т.д. до бесконечности. Если мы станем читать любую историю баптистов, то мы там обнаружим тысячи подобных фактов и утверждений, которые "не подтверждаются Священным Писанием". Почему же баптисты признают и Проханова и его гусли, если о них ничего не говорится в Библии? Протестантизм, нужно заметить, вообще очень плохо и неправильно понимает место и роль Священного Писания в жизни Церкви, часто приписывая и требуя от него того, для чего оно не предназначено (подробнее об этом мы будем ещё говорить в III части книги).
2) "Сам же автор книги будет потом приводить данные, что первые литургии составили Василий Великий и Иоанн Златоуст (середина и конец IV века)". Е. Пушков прибегает здесь просто к наглой лжи, совершенно сознательно вводя своего читателя в заблуждение. Место, которое имеет в виду Е. Пушков, находится в 5-й главе моей книги, и там я писал так: "…литургия служилась в Церкви с самого I-го века. Иерусалимская Церковь служила по чину Ап. Иакова; римская - по чину Ап. Петра. Известны и др. древние чины богослужения. В IV-м веке Василий Великий лишь укоротил службу Ап. Иакова и создал для удобства единый чин для всей Церкви. Несколько позже Златоуст еще немного укоротил службу Василия Великого, которая и по сей день служится в Церкви наиболее часто". То есть, я не только не говорю о том, что В. Великий и И. Златоуст составили первые литургии: я положительно утверждаю противоположное, что в Церкви издревле служились другие, более древние литургии, одну из которых (Ап. Иакова) указанные святые отцы сократили. Зачем же Е. Пушков сознательно лжесвидетельствует? Очевидно, ему, как и многим баптистам, истина (и даже своя честь) не нужна: им нужно только любой ценой доказать своё!
3) "Иаков, брат Господень, написать литургии не мог. Согласно свидетельству историка Иосифа Флавия, он был убит за несколько лет до разрушения Иерусалима в 70-м году". Е. Пушков утверждает, что Иаков не мог написать литургии потому, что рано умер (в 62 году). От сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы до 62 года прошло около 30 лет, и этого, по мнению Е. Пушкова, было недостаточно, чтобы написать литургию. Да, аргумент весьма "силён" и просто "неопровержим": ведь, действительно, как Ап. Иаков мог написать литургию за "каких нибудь" 30 лет? Всем же известно, что литургии пишутся не меньше, как 50 лет!!
Подскажем Е. Пушкову, что православное богословие до сих пор не имеет однозначного суждения о том, какой именно Иаков написал литургию - Апостол, брат Иоанна, или сын Иосифа и брат Господа, первый епископ Иерусалимский? Скорее всего, её написал именно второй Иаков, который был убит ещё раньше - в 40-х годах. Но и в этом случае 15 лет было более чем достаточно (если, к тому же, не забывать о особом действии Духа Святого в первые годы христианства) для того, чтобы составить литургию. С.В. Санников говорит, например, что свою большую двухтомную историю, причём со многими иллюстрациями, он писал 12 лет. Почему за такое же время и Иаков не мог написать литургию, для написания которой не нужно было перечитывать массу литературы и совершать огромную исследовательскую работу, как при написании истории, а необходимо в основном только божественное вдохновение?
4) "Сын плотника вряд ли мог знать правила гармонии и композиции". Здесь Е. Пушков просто не владеет предметом. Он думает, что под литургией подразумевается всё богослужение со всеми песнопениями и нотными партиями, и, имея музыкальное образование и понимая, как не просто написать музыку и расписать все нотные партии, Е. Пушков и сомневается в том, что Иаков мог это сделать. На самом же деле, в литургии даются только тексты молитв и песнопений. Мелодии же для этих песнопений могли быть сочинены другими людьми, и мелодии эти менялись с течением времени, и изобретались новые, так что некоторые песнопения литургии можно исполнять на разные мотивы. И неужели Иаков, известный в Церкви именно как великий молитвенник, не мог написать молитвы для литургии? И какое место даёт Е. Пушков действию Духа Святого? Ап. Пётр и Стефан также были людьми простыми, но как первый удивлял силой своей речи людей книжных (см. Деян. 4:13), более того - написал такие мудрые и великолепные даже с литературной точки зрения послания, так и "мудрости и Духу" второго эти же книжники и учёные "не могли противостоять" (Деян. 6:10). Поэтому, стоит ли до неверия удивляться тому, что сын плотника Иаков мог написать литургию?
Итак, контраргументы, приводимые баптистами в лице Е. Пушкова, удивляют не просто своей лживостью и безосновательностью, но более всего - концентрацией стольких глупостей в таком маленьком отрывке].
В каком же смысле поклоняются кресту православные, и как нужно , неубедительно, так как не подтверждается Священным Писанием. Сам же автор книги будет потом приводить данные, что первые литургии составили Василий Великий и Иоанн Златоуст (середина и конец IV века). Иаков, брат Господень, написать литургии не мог. Согласно свидетельству историка Иосифа Флавия, он был убит за несколько лет до разрушения Иерусалима в 70-м году. Сын плотника вряд ли мог знать правила гармонии и композициипонимать эти слова? Для нас словосочетание "поклонение кресту" звучит кощунственно, так как мы знаем, что поклоняться нужно только Богу. Потому-то протестанты и считают поклонение кресту идолопоклонством. На самом же деле, никакого кощунства и идолопоклонства в поклонении кресту нет, ибо православные, во-первых, поклоняются кресту не как Богу, а как святыне. О возможности поклонения святыням мы пространно говорили в 1-й главе данной книги. Поэтому, если Давид и прочие праведники Ветхого Завета не были идолопоклонниками, поклоняясь Богу посредством материальных святынь, таких как храм и ковчег завета, то не являются идолопоклонниками и православные, когда поклоняются кресту.
Во-вторых, православные поклоняются, по сути, не дереву или металлу, из которых сооружён крест, а самому распятому Христу, ибо на кресте православные часто изображают распятие [Кресты без распятия водружаются чаще всего на куполах, кладбищах и при дорогах]. О возможности же поклоняться Христу посредством образа мы подробно поговорим в следующей главе.
В-третьих, "кресту Твоему поклоняемся, Владыко" значит прежде всего: "крестным страданиям Твоим поклоняемся, Владыко". Таким образом, поклоняясь кресту, православные поклоняются Самому распятому Христу.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) также писал о кресте, и мысли его о сем предмете так глубоки и многосторонни, что отражают все основные грани православного отношения ко кресту. Хотя каждое слово великого учителя Церкви имеет великий смысл и ценность, наиболее важные слова и выражения именно для протестанта я не только подчёркиваю, но и снабжаю комментариями. Вот как мыслил этот святой о кресте: "Никто не стыдись достопоклоняемых знаков [Заметим, что этой фразой И. Златоуст даёт понять, что кресту достойно оказывать поклонение (естественно, как святыне, а не как Богу)] нашего спасения, коими мы живем, и (IV в.) также писал о кресте, и мысли его о сем предмете так глубоки и многосторонни, что отражают все основные грани православного отношения ко кресту. Хотя каждое слово великого учителя Церкви имеет великий смысл и ценность, наиболее важные слова и выражения именно для протестанта я не только подчёркиваю, но и снабжаю комментариями. Вот как мыслил этот святой о кресте: начала всех благ, коими существуем. Но как венец будем носить крест Христов, ибо чрез него совершается все, что для нас нужно: нужно ли родиться - предлагается нам крест: хотим ли напитаться таинственною сею пищею, нужно ли принять рукоположение, или другое что сделать [Как во время И. Златоуста при всяких службах - крещении, хлебопреломлении, рукоположении и пр. употреблялся крест, так и сейчас это происходит в Православии, что очередной раз показывает, что православные, а не мы сохраняем верность устройству древней Церкви] - везде предстоит нам сей знак победы [Заметим, победы, а не позора]. Потому-то мы со всяким тщанием начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе [Указание на крестное знамение, а также на миропомазание], и на сердце. Ибо крест есть знамение [Подтверждение того, что древние относились ко кресту как к славному знамени христиан, а не как к мерзости, которую нужно выкинуть подальше] нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки, который как овца веден был на заклание (Ис. 53, 7). Посему когда знаменуешься крестом [Очередное подтверждение того, что древние христиане совершали крестное знамение], то представляй всю знаменательность креста, погашай гнев и все прочие страсти.
Когда знаменуешься крестом, пусть на челе твоем выражается живое упование, а душа твоя делается свободною. Без сомнения вам известно, что доставляет нам свободу. Посему Апостол Павел, склоняя нас к сему, я разумею свободу нам приличную, упомянув о кресте и крови Господней, убеждает сими словами: "Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков" (1 Кор. 7, 23). Помышляй, говорит, о дорогой цене, какая заплачена за тебя, и не будешь рабом ни одного человека, а под дорогою ценою он разумеет крест. Ибо не просто перстом должно его изображать [Ещё более ясное указание на крестное знамение], но должны сему предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь его на лице твоем, то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану [Крест до сих пор представляется в Православии именно мечём и оружием против диавола. В одной из самых известных песнопений о кресте Церковь поёт (привожу по церковнославянски): "Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам, трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его"]. Ибо если и мы с трепетом взираем на те места, где казнят преступников, то представь, как ужасаются диавол и демоны, видя оружие, которым Христос разрушил всю силу их и отсек главу змия [Крест, в понимании И. Златоуста, есть на самом деле орудие убийства не Христа, а диавола (о чём выше уже было сказано); в руках же Христа крест это меч, которым он отсёк главу диавола].
Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе Своей, и когда сие знамение явится пред Ним светлейшим самых лучей солнечных. Тогда крест сей самим явлением своим как бы скажет в оправдание Господа пред целою вселенною [И. Златоуст, как видим, понимал под "знамением Сына Человеческого", который со славой явится на небе перед Вторым Пришествием Христовым, именно крест!], и во свидетельство, что с Его стороны все сделано, что только было нужно. Сие знамение и в прежние и в нынешние времена отверзало двери запертые, отнимало силу у вредоносных веществ, делало недействительным яд, и врачевало смертоносные угрызения зверей [Указание на то, что посредством креста в Церкви происходили чудеса, как происходили они в Ветхом Завете от вещественных святынь. Упоминая об "угрызениях зверей" И. Златоуст, конечно же, напоминает и о том, что в древние времена ещё прообраз креста - знамение Моисея - избавляло от смертоносных укусов змей]. Ибо, если отверзло врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло вход в рай и сокрушило крепость диавола: то что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых веществ, зверей и всего тому подобного?
Итак, напечатлей крест в уме твоем, и объими [С любовью обними крест, а не с отвращением отбрось подальше, как учат протестанты] спасительное знамение душ наших. Ибо сей самый крест и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей соделал Ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже нестрашны и неопасны; смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низложено и попрано. Посему, если кто скажет тебе - ты покланяешься Распятому [Заметим, что в контексте речи И. Златоуста, поклонение Распятому и поклонение кресту - одно и то же. Это ещё раз подтверждает то, что православные поклоняясь кресту, поклоняются не идолу какому, а самому Распятому], отвечай ему радостным гласом и с веселым лицом: покланяюсь и не перестану покланяться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие… Но мы, хотя бы предстали все язычники, мы тем с большим дерзновением, громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим; а когда предстанут все язычники, еще с большим дерзновением вопием, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновение и все наше украшение [Заметим: "похвала", "начало всех благ", "дерзновение" и "все наше украшение", а не мерзкое и отвратительное орудие убийства, которым нужно гнушаться и выкинуть подальше]!" (Беседа 54, на Евангелие от Матфея).
Итак, древняя Церковь относилась ко кресту вполне православно, и вовсе не так как протестанты. И можно ли после вышеприведенных свидетельств верить Павлу Рогозину, который заявляет, что "поклонение кресту начали поощрять" только в 688-787 гг! (Рогозин, "Откуда всё это появилось", раздел "Хроноголия"). Разве св. Иаков словами "кресту Твоему поклоняемся, Владыко", и св. И. Златоуст выражением "достопоклоняемых знаков" не поощряют поклонения кресту?
Теперь, чтобы ещё лучше понять истинное отношение православных ко кресту, прочтем текст одной из молитв [Хочу заметить, что когда я стал знакомится с православными молитвами, их глубокий смысл, серьёзность, красота и особенно величие и сила меня совершенно поражали!], которую читает священник на освящение нового креста: "Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, крестом Его диавола победивший и смерть умертвивший, род человеческий от лжи и мучительства его освободивший; призри ныне на молитву нашу и на знамение сие крестное, во славу Тебе, Бога Отца и единосущного Твоего Сына и соестественного Твоего Духа, и в воспоминание оной бывшей преславной над дьяволом, смертью и адом победы, и нашего избавления сооруженное, Духом Твоим Святым, при окроплении воды сей священной, благослови и освяти. И излей на него благословение Твое святое и силу, которую окроплением крови и пригвождением тела возлюбленного Сына Твоего сие преблагословенное древо приобрело. И дай ему быть для верных людей Твоих стеной, и покровом, и крепкой башней от лица врагов, и отгнанием всякого зла сопротивного, и исцелением душевных и телесных недугов, и для услышания мольб и молений всех искренно пред сим знамением молящих Тебя. Ибо Ты Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем с единородным Твоим Сыном, и с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь".
А вот прекрасная молитва на освящение креста "к ношению на груди", то есть - нательного крестика: "Господи Иисусе Христе Боже наш, на древе крестном добровольно спасения нашего ради пригвоздиться пожелавший, и пречестною Своею кровью сие освятить благоизволивший, и крестом Своим от служения сатане мир искупивший, и древнее рукописание врага нашего дьявола крестом разорвавший, и род человеческий от мучительства его тем самым избавивший, Тебя смиренно молим: призри милостиво на знамение сие крестное и ниспошли Божественное Твое благословение и благодать, и надели его силой и крепостью, дабы всякий, кто в воспоминание спасительных Твоих страданий и животворной Твоей смерти, и в хранение, и в защищение души и тела на себе носить его будет, помощь удостоился бы от него принять. И как Ты благословил жезл Ааронов, на отражение вражеского неверия и упразднение обольщений волшебствами, так и сие знамение крестное благослови, и на противление всем козням дьявольским влей в него помощь Твоего заступничества, дабы всякому на себе его носящему оно было бы спасительной защитой и сохранением от всякого зла души и тела, и для умножение в нём Твоею благодатию духовных Твоих дарований и христианских добродетелей. Ибо Ты есть всё благословляющий и освящающий, Христе Боже наш, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем, со безначальным Твоим Отцём, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь".
Итак, как видим, крест почитается в Православии не сам по себе, а только в связи с (1) благодатью, сообщаемой кресту крестными страданиями Христа и (2) молитвой Церкви, что делает его великой христианской святыней.
Теперь покажем, насколько протестанты не последовательны в своём отношении ко кресту.
Баптисты, например, всё время своего существования сначала в царской, а потом и в советской России, категорически и принципиально не помещали крест на своих домах молитвы. Библии издавали без креста, и если кто-либо захотел бы стать членом баптистской церкви, но отказывался бы снять с груди нательный крестик, то ему в большинстве случаев не преподали бы крещение (подумать только: человек с распятием на груди не мог, по баптистским понятиям, стать членом Церкви Христовой)! То есть, раньше баптисты в отношении ко кресту были попросту последовательны и действительно относились к нему согласно своему учению - как к отвратительному орудию казни, которым нужно гнушаться. Сейчас же всё изменилось, и уже трудно найти дом молитвы баптистов, равно как и многих других протестантов, снаружи или внутри которого не было бы изображения креста. Почему же это так? Неужели 20 лет назад истина изменилась? Значит, до начала 90-х годов крест был у нас мерзким орудием казни и идолом, который ни в коем случае нельзя было нигде изображать, а теперь он перестал быть мерзостью и стал и нашим символом [То, что протестанты до конца никак не могут определиться в своём отношении ко кресту и имеют противоречивые суждения об этом предмете признаёт, хотя и весьма аккуратно, В. Трубчик: "Подавляющее большинство христиан считает крест символом христианства. Правда, есть определенные люди (т.е., часть протестантов), которые воюют против всякого изображения креста в храмах"]?
Именно в последние годы протестанты сдали свои позиции в отношении креста и стали широко его использовать. Появились не только Библии, но и другие протестантские книги и сайты с изображением креста [Я помню, что когда некоторые баптисты стали впервые прикреплять к пиджаку крестик, это было неоднозначным и бурно обсуждаемым явлением в жизни нашей общины]. Некоторые протестанты, хотя и очень немногие, стали позволять себе носить значок в виде крестика на одежде [Я помню, что когда некоторые баптисты стали впервые прикреплять к пиджаку крестик, это было неоднозначным и бурно обсуждаемым явлением в жизни нашей общины] и даже на груди, но только без распятия [Кстати, почитая таким образом крест (без распятия), протестанты больше православных подпадают под своё же обвинение в почитании мерзкого орудия казни, ибо православные чтут крест с распятым Христом, а протестанты - сам крест, принципиально без Распятия]. Таким образом, как бы мы богословски не противились изображению и почитанию креста, но и нам стало наконец понятно, что крест есть самый простой, ясный и общеизвестный символ христианства, и для того, чтобы всем было сразу ясно, что книга, листовка, сайт или здание имеет отношение ко Христовой вере и Церкви, то лучшего знака и символа, чем крест, не существует. И хотя протестанты считают крест мерзким орудием убийства и сравнивают его с позорной виселицей, но ради обольщения и привлечения людей православной культуры (а на Западе - католической) мы стали всё чаще его использовать, вопреки своим же богословским понятиям. Просто протестанты осознали, что если мы будем широко трубить о своём истинном взгляде на крест как на мерзость, то многие люди будут попросту шарахаться от нас как от богохульников. Вот потому и приходится нам посильнее натягивать на себя овечью шкурку и не показывать сразу свои волчьи зубки.
Да, протестанты хорошо умеют приспосабливаться к окружающей среде, но где же истина? Если крест есть мерзость, то нужно продолжать относится к нему по прежнему. "Свидетели Иеговы", например, в своей борьбе с крестом более последовательны и стойки. А если протестанты признали, что крест всё же действительно есть символ и знамение христиан, то нам нужно покаяться в своей бывшей хуле на крест. Но мы и не отрекаемся от своих взглядов на крест как на мерзость, и в тоже время всё шире его используем как свой знак и символ. В этом противоречие и неправда наша.
Понимая данный конфликт, и желая его сгладить, В. Трубчик даёт такое объяснение тому, почему крест стал признаваться протестантами за символ христианства: "С тех пор, как в первых веках нашей эры многих людей казнили на крестах, прошло уже много времени. В наше время даже самые пожилые люди не смогут припомнить чего-то подобного. Часто с течением времени меняется значение и смысл слов, значение каких-то символов и событий. Так, например, русское слово "спасибо" - это сокращенный вариант от "спаси Бог". В настоящее время некоторые молодые люди по своей простоте говорят в своей молитве Богу это слово "спасибо". В их сознании это ничего другого не значит, как только благодарность, но некоторые принципиальные лингвисты критикуют их за это, потому что получается, что они Богу говорят, чтобы Он спас Сам Себя. Станем ли мы судить молодых людей за это? Я бы не стал это делать.
Что мы можем сказать сегодня о кресте, как люди воспринимают его? Безусловно, современный человек понимает, что крест является символом христианства. Принимают ли евангельские церкви такое понимание? По большому счету, да, потому что и на домах молитвы, и на библиях, и на кафедрах, и во многих других местах они изображают крест".
Итак, В. Трубчик утверждает, что крест в современном обществе не имеет уже своего значения как орудия казни, так как уже давно никого на крестах не распинают. Поэтому, протестанты и используют крест как свой символ - то есть, вне всякой связи с распятием, точно так же, как многие говорящие сегодня "спасибо" использует это слово в отрыве от его действительного значения (спаси Бог), и просто как синоним "благодарю". Давать подобные объяснения протестантам нужно именно для того, чтобы оправдать два противоречивых положения в их учении: 1) крест есть мерзкое орудие казни, которым нужно гнушаться и выбросить подальше; и 2) крест есть символ христиан, что уже и мы стали признавать. Выход, предлагаемый В. Трубчиком ясен: можно и даже нужно считать крест нашим символом, но в отрыве от понимания его как орудия казни.
Вот такие решения и показывают всю глупость, несостоятельность и неспособность протестантизма "свести концы с концами" в своём учении. Ведь разве найдется человек, который не понимает или забыл, что крест есть орудие казни? Гильотину и виселицу тоже уже давно не используют, но разве есть люди, которые не знают, что они означают? И как люди могут забыть о том, что такое крест, если сами протестанты постоянно "проповедуют Христа распятого" и раздают по всему миру Евангелие, где написано о том, как на кресте казнили Христа? Спросите у любого человека, который никогда не ходил ни в какую церковь и не читал ни Евангелия, ни иной духовной книги, почему символ христиан есть крест, и он ответит, что это потому, что Христа распяли на кресте. (А если и найдутся такие люди, которые не знают, что крест есть орудие убийства, то разве можно на них ориентироваться? Притом, если человек не знает, что крест есть орудие казни, то он не будет знать и того, что крест есть символ христиан).
Получается, что, в XIX веке и в XX веке вплоть до 80-х годов люди ещё помнили, что крест есть орудие казни, и потому баптисты его не использовали как свой символ, а вот с наступлением 90-х годов все люди быстро забыли, что значит крест, и потому баптисты решили его использовать. Значит, сейчас уже самые пожилые люди не могут припомнить того, чтобы кого-то распинали на кресте, а в царское и советское время видимо ещё были старики, которые что-то такое припоминали! Это же полный бред, ведь на крестах не распинают никого уже много столетий. Е. Пушков, как упоминалось, поместил на своей книге изображение Голгофы и три креста. Так что же, В. Трубчик хочет сказать, что глядя на обложку данной книги люди поймут, что раз здесь изображены кресты, то эта книга христианская, но о том, что эти кресты есть орудия казни, на которых были замучены Христос и два разбойника, уже никто не помнит и не знает? А если понятно, что у Е. Пушкова изображена Голгофа, и что средний крест обозначает крест Христа, то для чего же баптисты изображают на своих книгах это "мерзкое и отвратительное орудие казни"? Для чего они его таким чтят и напоминают о нём? Это же явная непоследовательность.
Поэтому, подобные попытки объяснить изменение своего отношения ко кресту только выявляют противоречия протестантизма, ибо нет никакой другой причины, по которой протестанты стали в последнее время использовать вопреки своим же понятиям крест, кроме как стремления подделаться под православных, и чтобы их дома молитвы люди лучше замечали и не смущались тем, что у "храма" нет креста. Другая важная причина использования креста протестантами - утверждение себя как христиан. Мы хотим, чтобы видя крест на нашем доме молитвы люди знали, что мы - христиане. Но это показывает, что в нашем же понятии крест есть наш символ, достойный почётного места. Зачем же мы тогда продолжаем противится кресту и называть его мерзким и отвратительным орудием казни, достойным презрения, а не чести? Противоречие на лицо. При этом, очень жаль тех не лишённых таланта людей, которые становятся на защиту протестантизма. Вот тот же Василий Трубчик. Его книга обнаруживает эрудицию автора и, главное, способность к аналитической работе. Тем не менее, в его книге постоянно встречаются глупости и нелепые объяснения, подобные вышеприведенному - таких примеров мы приведём ещё не один. И всё это только потому, что человек принял на веру много противоречивых протестантских положений, и пытается мыслить и всё объяснять исходя из этих положений. Но так как многие предпосылки протестантизма не истинны, то он никогда не избежит нестыковок, противоречий и глупых выводов. Прекрасно согласуется сама с собой только истина, которая в протестантизме сильно искажена.
В доме молитвы макеевской церкви "Свет Евангелия" ["Свет Евангелия" - одна из многочисленных протестантских деноминаций, разновидность баптизма], например, в главном зале на переднем плане расположен огромный деревянный крест [Подобные кресты есть, конечно же, и в других домах молитвы баптистов] - на всю стену, от потолка до пола. И все собравшиеся, естественно, на протяжении всего богослужения прежде всего видят перед собою этот крест. Если спросить членов этой общины или руководство "Свет Евангелия": "для чего Вы поместили на всю фронтальную стену такой большой крест?", то что они ответят? Объяснения могут быть разные, но все они будут сводится к одному: крест мы установили для того, чтобы мы могли деятельно, живо и образно вспоминать о страданиях Христа; для того, чтобы почаще взирать на средство нашего спасения; для того, чтобы лучше помнить о том, какой ценой Христос спас нас; для того, чтобы всякому входящему свидетельствовать, что мы - христиане. И это - правильно; это - по православному.
Но как же тогда с этим согласуются наши же собственные утверждения, что крест есть отвратительное орудие убийство любимого Господа; что крест это есть мерзкая виселица и гильотина; что его нужно выкинуть подальше; что почитать крест, орудие казни, может только человек, лишённый здравомыслия; что чтить нужно Христа, а не крест? Или мы устанавливаем кресты не для того, чтобы их почитать? А для чего же тогда? Для того, чтобы плевать на них и с отвращением от них отворачиваться? Нет, конечно. Если в кабинете чиновника вешают портрет президента, то это расценивается никак иначе, как знак почтения к президенту. Поэтому, и мы устанавливаем на всю стену крест не для того, чтобы его презирать, а для того, чтобы почитать.
Зачем же, ещё раз спрашиваю, мы почитаем то, что сами называем "мерзкое орудие казни"? Или, по В. Трубчику, протестанты уже не помнят, что крест есть орудие казни и, смотря на крест, они уже не вспоминают о том, что для Спасителя он послужил орудием страдания и смерти? Противоречие между учением протестантов и их делами в этом, по крайней мере, вопросе, очевидно.
Интересно, что противоречивое отношение протестантов ко кресту проявляется не только в том, что последние годы они стали признавать крест своим символом и делать его изображения и изделия на домах молитвы, Библиях и пр., хотя раньше, всю свою историю - я повторю - они категорически запрещали любое изображение и использование креста, и до сих пор осталось не мало таких протестантов, о которых и упоминает В. Трубчик. Противоречие это проявляется также в том, что в проповедях своих и богословских трактатах они говорят о кресте как об отвратительном орудии казни, а поклонение кресту называют мерзким идолопоклонством, но в своих песнопениях они выказывают совершенно противоположное отношение ко кресту.
Чтобы убедится в этом, проанализируем некоторые наши песнопения.
У баптистов есть хорошо известная песня "старый крест", и артёмовская баптистская молодёжь, частью которой я был несколько лет, очень любила петь эту песнь, в которой есть такие слова:
"1. На далёком холме, средь деревьев и скал
Сквозь седые века старый крест простоял
Миллионы людей у подножья креста
Своё счастье нашли, там однажды был я"
Припев: Старый крест, старый крест
Неброский, но лишь в нём
Сила есть, сила есть сегодня может он
Исцелять разбитые больные сердца
Каждому пришедшему открыть небеса.
2. …Крест единственный мост от земли в небеса".
Как видим, эта песня с любовью воспевает крест, и утверждает в частности, что в кресте Христовом есть сила исцелять больные сердца людей, и открыть им вход в небеса.
Теперь, возьмём ещё несколько цитат из сборника "Песнь возрождения".
Под № 434 мы находим такие слова: "Твой крест - моё спасенье".
№ 432: "Идите, грешники, к Христу и пред крестом склоняйтесь".
№ 433: "Когда душой страдаю, то на святую кровь, на крест Твой я взираю, и исцеляюсь вновь".
Опять мы видим, что сами баптисты признают, что крест есть наше спасенье, призывая склониться пред крестом (т.е. поклониться кресту) и взирать на крест Христа для исцеления души.
№ 426 процитирую полностью:
"1. На далёком холме
Старый крест виден мне,
Знак позора, страданий и мук.
О кресте мы поем
Потому, что на нем
Был распят лучший грешников Друг.
Припев: Старый крест осудил суету,
Дал покой для усталых сердец.
Я душою прильнул ко кресту,
Чрез него обрету я венец.
2. Старый крест позабыт.
Мир в погибель спешит.
Крест Христов - наша сила и честь.
Вечный с неба сходил,
На земле в теле жил,
Чтоб его на Голгофу отнесть.
3. Старый крест обагрен,
Но не страшен мне он,
В нем открылась нам Божья любовь.
Кровь Иисуса Христа
Пролилась со креста,
Чтоб меня искупить от грехов.
4. Старый крест возвещать
И к Христу призывать,
Вот на что я себя отдаю.
По скитаньи земном
Перейду в вечный дом,
Он меня примет в славу свою".
Проанализировав слова этой песни, которую я хорошо помню - мы часто на собраниях её пели - я подумал, что вот, в этой песне правильное отношение ко кресту. Крест Христов хотя и является "знаком позора, страданий и мук", но он достоин не отвращения, а того, чтобы его воспевать и о нём возвещать; он "наша сила и честь", а не позор, идол и мерзость. В припеве же крест вообще олицетворяется: крест осуждает суету, даёт "покой для усталых сердец", чрез него обретается небесный венец и к нему, главное, даётся право "прильнуть душою", то есть, обнять крест: пусть баптисту не позволяется как православным прильнуть ко кресту телесно, и поцеловать его, но хоть душой можно, и то хорошо. Одним словом, в этой песне довольно по православному говорится о кресте и хорошо понимается символизм и положительное значение креста.
Как же баптисты могут объяснить свои же песнопения о кресте, которые никак не соответствуют нашей догматике? Хорошо помня мышление баптистов, я могу сказать, что по этому вопросу может быть только две разумные позиции.
Первая: мы можем сказать, что эти слова ошибочны; авторы этих песен в своём вдохновении перешли допустимую границу, а издатели данных ошибок не заметили. Поэтому, нужно подобные места просто исправить. И позиция такая вовсе мною не надуманна, и доказательство тому есть тот факт, что баптистское руководство уже начало исправлять "Песнь возрождения"... Дело в том, что песнь под №426 я процитировал по старому сборнику, изданному в 1998 году, который остался у меня после моего выхода из баптизма. Но когда я сравнил этот псалом с новой редакцией 2004 г., то увидел, что его слова уже изменены - именно выражения, воспевающие крест. Так, во втором куплете уже нет слов "крест Христов - наша сила и честь". Вместо них стоят слова "Во Христе - наша сила и честь". В 4-м же куплете уже нет слов "о кресте возвещать", а написано: "о Христе возвещать". В припеве вместо "я душою прильнул ко кресту" стоит "и душою прильну ко Христу". Припев, кстати, изменен больше всего - крест там уже не олицетворяется - и звучит так:
"Ближе я подойду ко кресту,
Там покой для усталых сердец,
И душою прильну ко Христу,
Чрез Него обрету я венец".
В общем, можно пойти (и баптисты, как видим, уже идут) путём исправления текстов песен, и изъять из них сомнительные для баптистов выражения о кресте. Но тогда нужно будет признать, что много лет мы пели на богослужениях ересь и воспевали не Христа, а мерзкое орудие казни.
Вторая позиция: ничего не исправлять, а объяснять, что в этих песнях используется образно-мистический язык, и что под крестом подразумевается не просто крест, а крест в тесной связи с распятым на нём Христом. Так, не в самом по себе кресте, а в распятом Христе есть сила "исцелять разбитые сердца" и "каждому пришедшему открыть небеса"; крест есть "единственный мост от земли в небеса" не сам по себе, а только потому, что на нём был распят Христос; крест есть "моё спасенье" не сам по себе, а только в неразрывной связи с распятым Христом, висящим на нём; и "склоняться" нужно не просто перед крестом, а перед крестом с Распятым на нём; и "на крест Твой я взираю" только в связи с тем, что на нём была совершена Христом великая победа; "о кресте мы поём" не потому, что оно мерзкое орудие казни, а потому, что через него было совершено спасение; крест не сам по себе "осудил суету" и "дал покой для усталых сердец", а только силой Распятого на нём; "я душою прильнул" не просто ко кресту, а ко кресту с Распятым на нём; через крест "обрету я венец" только потому, что на нём совершил спасение Христос; крест не сам по себе есть "наша сила и честь" - он только потому таков, что ему сообщена сила и честь Распятого на нём; и "я себя отдаю" на возвещение не просто о "старом кресте", а о кресте в теснейшей связи с распятом на нём Христе.
Действительно, такие объяснения вполне разумные, и не нужно баптистам исправлять все подобные места, ведь так достигается только обратный эффект: вместо сглаживания неудобных мест, они только выпячиваются. Ведь когда собрание запоёт эти песни, то имеющие новые сборники станут петь одно, а имеющие старые - другое. Таким образом, все исправления станут известны всем, и все обратят на эти места внимание, начав размышлять о том, почему слова были изменены. Но пусть руководство баптистов делает, что им угодно. Главное, что в первом подходе (признании ошибок и исправлении текстов) нет смысла, так как все эти места о кресте баптисты могут без труда объяснить так, как было объяснено выше.
Но тогда нужно задать главный вопрос: если мы все понимаем, что во всех вышеприведенных песнопениях мы чтим, воспеваем, преклоняемся, взираем, прилинаем ко кресту не самому по себе; и не ему самому по себе приписываем силу спасать, исцелять и возводить в небеса, а всё это относим мы ко кресту только в связи с тем, что на нём был распят Христос - то почему же мы православных обвиняем в идолопоклонстве, когда они воспевают, чтят и преклоняются пред крестом? Почему мы не думаем, что они относятся ко кресту так же, как описано, например, в наших песнях, и чтят крест только в связи с Распятым на нём Христом, а уверяем себя и всех вокруг, что православные не могут так относится ко кресту, а относятся они к нему именно как к идолу, и чтят его не как святыню, а как самостоятельного и отдельного бога? Значит, мы такие духовно и интеллектуально развитые, что можем делать перенос значений с распятого Христа на крест и понимать, что всё сказанное о кресте относится не просто ко кресту, а только ко кресту в неразрывной связи с распятым на нём Христом, а православные, по-нашему, никак на такое не способны - они слишком для такого примитивны; и поэтому, когда они целуют крест, то целуют они не распятого Христа, а само по себе дерево; и когда они поклоняются кресту, то они поклоняются, конечно же, не распятому Христу, а бездушному изделию рук человеческих; и когда они носят распятие на груди, то не на Христа они возлагают надежду, а, непременно, на метал сам по себе, и не страдания Христовы они чествуют, а безумно прославляют орудие казни, вновь ругаясь над Христом; и когда православные украшают и всячески чествуют крест, то они, естественно, чествуют не распятого Христа, а идола и какого-то языческого бога!
А с чего мы это взяли? А спросили мы о том православных? Почему мы "без суда и следствия" посчитали, что православные не могут как мы переносить своё отношение ко кресту на Самого распятого Христа, а непременно почитают крест отдельно от Христа, как иного бога и идола? И это при том, что сами православные объясняют, в каком смысле они поклоняются кресту и чтят его. И если бы мы потрудились узнать, как на самом деле относятся православные ко кресту, то они бы нам повторили уже сказанное выше, что, во-первых, они считают крест не Богом, а святыней, и поклоняются ему не как Богу, а именно как святыне, как новозаветному жертвеннику; во-вторых, что все их слова о кресте, и всё почтение к нему имеет прямую связь с распятым Христом: другими словами, они почитают не сам по себе крест, а страдания Христовы и Самого распятого на нём Христа! И то, что мы называем почитание креста православными идолопоклонством - хотя сами в своих песнопениях воспеваем и всячески величаем крест, понимая при этом, что не сам по себе крест, и не чуждого идола мы славим - есть страшное богохульство протестантизма; ведь если был бы богохульником тот, кто назвал бы Давида идолопоклонником за то, что он поклонялся храму, а не просто Богу, то и мы богохульствуем, когда православное поклонение кресту называем идолопоклонством [Делая анализ баптистских песнопений о кресте, весьма интересно по ходу упомянуть ещё об одной известной среди баптистов песне Евгения Гудухина, где есть такие слова: "я прошу вас, люди, люди, не носите крестик". Призыв протестантского поэта с удивительной точностью перекликается со словами песни православного священника Олега Скобли, который призывает людей ровно к противоположному: "не снимайте крест нательный"! Слова этих песен не случайны, и очень хорошо выражают дух веры каждой деноминации: если протестанты призывают человека не носить крест, то православные - не снимать его! А то, что в протестантской песне после призыва не носить крестик добавлено слово "зря", то это лишний раз ярко свидетельствует о лицемерии и противоречии протестантизма. Ведь из этих слов может показаться, что протестанты не призывают вообще не носить крестик, а только не носить его зря. И так как есть много людей, которые действительно носят крестик можно сказать зря, то есть просто для украшения, делая при этом крайне злые дела и не имея никакой веры во Христа, тем более не крещённые в Церкви, то этот призыв может показаться даже многим православным вполне справедливым и благим. (Правда, если баптисту покажется, что носящий крест не живёт по евангельски, то он будет призывать его снять крест, а если то же самое заметит православный, то он будет призывать такого человека не снять крест, а начать жить достойно креста. Разница в подходах принципиально разная!) Тем более, в самой песне как раз таки поётся о таком человеке, у которого "залиты глаза пустотой… на ремне пистолет; пусто в душе, но на шее из золота цепь, а на цепи, а на цепи крестик Божий висит". Таким образом, слушатель этой песни думает, что протестанты, призывая не носить крестик зря, просто ревнуют о чести Христа, не желая, чтобы Имя Его поносилось, но они не призывают вообще не носить крестик даже тем, кто старается жить по заповедям Божиим. На самом же деле, не носить крестик мы призываем не только бандитов и неверующих, но и самых искренних верующих! То есть, правда состоит в том, что протестанты призывают не носить крестик не просто зря, а не носить его вообще. В этом и состоит лукавство этой песни. Итак, в отношении ко кресту у протестантов одни противоречия].
Теперь разберём другие [Главное протестантское возражение против почитания креста, которое можно сформулировать так: "крест нельзя почитать, так как он есть мерзкое орудие казни" мы уже разобрали] возражения протестантов против почитания креста.
Возражение 1: Ни ношение крестика, ни крестное знамение не может человека спасти, а только Христос и живая вера в Него; и поклоняться нужно Христу, а не кресту.
Перед тем, как дать ответ на данное возражение, хочу заметить, что подобное глупейшее построение аргументов очень свойственно протестантизму, когда для опровержения одной истины, которая нам не нравится, мы просто противопоставляем другую истину, и ставим вопрос так, как будто бы совмещение обоих этих истин совершенно невозможно! И в каких только случаях протестанты не применяют такую извращённую логику?! Не нравятся нам иконы? Мы тут же можем сказать: "для спасания нужно иметь Христа не на иконе, а в сердце" - как будто иметь Христа в сердце и на иконе ну никак нельзя: нужно только выбирать, или Христос в сердце, или на иконе! Не нравятся храмы? Мы тут же говорим: "Бог должен жить в нашем сердце, а не в рукотворном храме" - как будто Бог не может пребывать и в нашем сердце, и в храме [Зачем же мы тогда называем свои дома молитвы "дом Божий"? И живёт ли Бог в Своём доме, или нет?]. Не нравятся нам телесные поклоны? Мы тут же говорим: "Богу нужно поклоняться не так, а в духе и истине" [В данной книге мы ещё не раз вернёмся к излюбленному протестантами и неправильно толкуемому библейскому стиху о поклонении Богу в духе и истине] - как будто если человек телесно поклоняется, то дух его вместе с телом уже никак не может поклониться Богу, и т.д.
Посмотрим, сколько раз в главе "Крест" В. Трубчик использует против креста этот излюбленный приём протестантов (который формально часто выражается именно в нелепом противопоставлении частиц "не" и "а").
1) "Спасает не крест, а Тот, Кто совершил спасение, страдая на этом кресте"; "Спасает не крест, а Тот, Кто совершил спасение".
А кто из православных думает или утверждает, что крест спасает сам по себе без всякой связи с Тем, Кто совершил спасение? И если крест не спасает, то зачем тогда баптисты поют "Твой крест - моё спасенье"?
2) "И если у человека нет веры в Иисуса Христа, а есть на груди просто крест, то этот крест не спасет его ни от беды, ни от греха, ни от дьявола, ни от вечной погибели. Это делает только Живой и Святой Господь Иисус Христос".
Опять же, кто из православных учит, что ношение на груди креста спасёт человека даже в том случае, когда он не верит во Христа? Православие знает, что даже многие православные епископы и священники пойдут в ад, и им не помогут не только два креста на груди; им не помогут ни крестное знамение, ни крещение, ни многократное причащение, ни частые службы в храме, ни многие возносимые о них молитвы, ни святые - никто и ничто не поможет тем, кто не верил во Христа от души, кто не любил Его, кто не творил дел веры, кто сознательно грешил. Так как же можно, зная только об одном этом веровании православных, утверждать или даже думать о том, что Православие учит, что само по себе ношение крестика спасает?
Православие говорит, что человек спасается сердечной и правой верой во Христа, но этой вере ношение на груди распятия не только не вредит, а напротив - о вере напоминает, веру укрепляет и веру выражает! То есть, опять мы видим, что протестант ставит вопрос так, что нужно только выбирать - или вера во Христа, или крест на груди; совместить же сердечную веру во Христа и ношение крестика на шее он никак не может - это для нас слишком трудная задача. И разве после этого напрасно я говорю о глупости протестантских аргументов и выводов? Протестантам православные могут ответить так: да, без веры ношение крестика никак не спасёт, но а искренно верующим почему Вы запрещаете (или настоятельно не рекомендуете) носить крестик?
3) Следующий подобный перл В. Трубчика: "Если человек хочет настоящей победы над лукавым, то Христос должен быть у него не в крестном знамении, а в сердце".
Опять же, в баптистском понимании совместить Христа в сердце с крестным знамением совершенно невозможно: нужно только выбирать, или одно, или другое. "Выбирай, говорит баптист, или Христос у тебя в сердце, или твори крестное знамение, ибо имеющий в сердце Христа не может совершать крестное знамение"! Да, "сила" баптистских аргументов поражает!
И снова тот же вопрос: где Православие учит, что для победы над лукавым нужно одно крестное знамение без веры? Иоанн Златоуст, один из отцов и великих святых Православной Церкви, решает этот вопрос однозначно: "Ибо не просто перстом должно его (крест) изображать, но должны сему предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так (т.е., с сердечным расположением и полной верой!) изобразишь его на лице твоем, то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе". То есть, Православие говорит, что лукавого можно победить крестным знамением тесно совмещённым с верой, а не одним крестным знамением без веры!
4) "…освящение происходит от Иисуса Христа, а не от креста или крестного знамения". Опять же, для баптиста освящение может быть или от Христа, или от креста. Связать же эти два понятия и уразуметь, что Христос может освящать человека весьма многоразличными способами, в том числе и посредством святыни (в частности креста) и с верой совершаемого крестного знамения, баптист не способен: он может только выбирать, только отсекать одну истину от другой.
Сравним логику В. Трубчика с примером, более нам понятным. Бог создал наш мир, через который человек черпает различную Божью благодать. И по логике В. Трубчика нужно говорить: "жизнь нам дал Бог, а не родители; кормит и взращивает нас Бог, а не произведения земли; жажду нашу утоляет Бог, а не вода; и силы даёт Бог, а не мышцы; зрение и слух также даёт нам Бог, а не глаза и уши", и т.д. Разве не очевидно всё безумие таких рассуждений? Разве правильно вообще противопоставлять Бога и средства, через которые Он сообщает нам Свою благодать? Разве правда не в том, что всё перечисленное действительно даёт Бог, но никак не без посредства того, что выше противопоставлено Богу? Поэтому, полнота истины заключается в том, что всё - и жизнь, и зрение, и освящение и многое другое подаёт человеку только Бог! Но Он подаёт всё это не непосредственно, а используя многие средства. Поэтому, как всё, что мы имеем, мы получаем от Бога посредством многих путей, вещей и людей, так и освящение мы получаем благодаря многим средствам, например Библии, других духовных книг и учителей веры.
Почему же В. Трубчик никогда не додумается сказать: "освящение происходит от Иисуса Христа, а не от чтения Библии, и не от слышания проповеди пастора"? Неужели и он понимает, что Христос для нашего освящения использует какое-то посредство? И если В. Трубчик и другие протестанты знают о многих средствах освящения, а о том, как Христос освящает своих верных посредством креста и крестного знамения не знают, так давайте лучше вернёмся в Церковь и познаем силу креста, и не будем показывать на весь мир своё скудоумие.
5) "…освящение происходит через Духа Святого и веру истине. Это не просто наложить на себя крестное знамение, а принять Духа Святого в свою жизнь, довериться Богу, Его истине".
Опять же: а кто из православных учит, что для освящения нужно "просто наложить на себя крестное знамение", а "принять Духа Святого в свою жизнь, довериться Богу, Его истине" не нужно, поскольку уже совершено крестное знамение? Да, протестант не способен делать столько дел сразу! Мы можем только одно - или доверится Богу, или наложить на себя крестное знамение. А если мы вдруг попробуем с верою перекреститься, то ничего у нас не получится. Так и хочется спросить В. Трубчика: так если я принял Духа Святого в свою жизнь, доверился Богу и Его истине, то хоть в таком случае мне можно наложить на себя крестное знамение, или в этом случае вся моя вера сразу улетучится?
6) "И на самом деле важен не крест, а Тот, Кто на нем принял мученическую смерть во искупление наших грехов".
А где православные говорят, что крест важен сам по себе, или что он более важен, чем Христос, или что Христос не важен? Ведь, опять же, в рамках данной логики можно сказать: "важен не Ап. Павел, а Христос"; "важен не дом молитвы, а сердечная вера во Христа"; "важно не чтение Библии, а исполнение заповедей Христовых"; "важно не слово человеческое (проповеди, духовные книги), а слово Божие"; "почитать нужно не земного отца, а небесного"; "важно исповедовать Христа в сердце, а не на устах", и т.д. до бесконечности. Всё сказанное только в каком-то смысле правда, но, опять же, разве нужно эти вещи вообще противопоставлять и выбирать между ними? Разве нужно противопоставлять Христа и Павла? Разве не может дом молитвы иметь своё значение, как имеет своё значение вера? Разве чтение Библии не может гармонично сочетаться с исполнением заповедей Божиих? Разве если у нас есть Библия, то уже не нужны духовные книги и проповеди? Разве если мы чтим небесного Отца, то неужели не можем чтить и земного? Разве исповедание Христа сердцем мешает исповеданию Его и словом?
7) "Не крест освящен, и не гвозди, и не молоток, на который брызгала кровь Иисуса, а наши сердца освящены кровью Христовой, если мы уверовали в Него".
Вновь и вновь протестант оказывается неспособным к восприятию полноты Истины, и являет свою сектантскую сущность, предлагает выбрать только одно, а другое отсечь. Если кровь Христа освятила и поныне продолжает освящать сердца всех истинно верующих, то она ну уже никак не может, в глазах протестанта, освятить и крест, и гвозди, и молоток, и копьё, и всю гору Голгофу. Почему же тогда наш пастор свидетельствовал о себе, что ему хотелось целовать камни, когда он был на Голгофе [Подробнее об этом написано в предыдущей главе]? Не потому ли, что он осознавал, что эта гора стала святой, прежде всего, из-за пролитой на неё крови Христовой? Поэтому, тот факт, что кровь Христа способна освящать сердца людей никак не устраняет того, что она способна была освятить и материю - крест, гвозди и пр.
Итак, ответ на приведенное выше возражение очевиден: православные не учат, что крест или крестное знамение спасают и освящают человека сами по себе. Спасает человека, конечно же, Христос и правая вера в Него, но почитание креста, ношение его на груди, крестное знамение и всё прочее есть именно часть этой веры. Крест является одним из средств, через которое Христос спасает и освящает верных, и он никак не мешает и, главное, никак не противопоставляется вере.
Поэтому, все подобные аргументы протестантов не просто крайне глупы, но и смрадно-богомерзки, и содержат гнусную клевету на учение Православия, за которую они на Страшном Суде не найдут себе места, когда грозный Судия в ярости будет судить их за подобную хулу на Свою возлюбленную Церковь. Кроме того, протестанты такими высказываниями являют себя именно сектантами, ибо тогда как Церковь содержит полноту истины, то мы постоянно хотим отсечь какую-то часть от этой полноты. Потому, название "сектанты", которым нас именует Церковь, вполне уместно и справедливо, и потому не должно даже нас оскорблять.
Возражение 2: Крест Христов один, а православные сделали миллионы его копий. Если крест и свят, то свят только сам крест Христов (оригинал), а не его копии.
Ответить на это возражение не трудно, ведь оригинальное Евангелие тоже одно, но это не мешает протестантам делать миллионы его копий, причём в различных переводах, и почитать эти копии. Кроме того, каждый человек тоже "оригинал", но это не мешает нам делать его фотографии и, указуя на изображение, говорить, например: "это - Николай". То есть, и в этом случае мы понимаем ясную связь между оригиналом и копией. Также флаги и знамёна страны вполне поддаются копированию, и нельзя сказать, что действительное знамя есть только первое, разработанное и утвержденное руководством страны, а его копии уже не являются настоящими знамёнами. Крест же есть, в понимании Церкви, о чём мы уже говорили, именно знамя Христа и Церкви. Поэтому, как копия Евангелия, фотография человека и новая копия знамени имеет ясную связь со своим оригиналом и прототипом, так и копии креста, тем более освящённые молитвой Церкви, имеет ясную связь со своим оригиналом.
Е. Пушков, например, данное (2-е) возражение формулирует так: "С. Кобзарь хочет убедить читателя, что крест стал жертвенником и святынею. Но святыней будет сам жертвенник, а не его символ, не его изображение. Израильтянам запрещалось составлять вне скинии такое же миро помазания и такое же курение. Тем более нельзя было изготовлять подобие жертвенника. Он был единственный. Иначе многие бы наделали символов и наосвящали для себя полюбившиеся предметы. Когда сыны Рувима, Гада и Манассий соорудили памятный жертвенник, то весь Израиль чуть ли не пошел войной на них".
В словах Е. Пушкова есть несколько ошибок.
Во-первых, отнюдь неправильно требовать, чтобы все подробности прообраза были переносимы на образ. К примеру, если знамя Моисея прообразовало крест Христа, то нельзя отвергать справедливость сего прообраза только потому, что некоторые детали прообраза и самого образа отличны. То есть, нельзя сказать, что знамя Моисея не было прообразом креста Христова потому, что на нём висел змей, а не человек; или потому, что оно было меньше по размеру, чем крест Христов; или потому, что оно было установлено не на горе, как крест Христа; или потому, что рядом со знамением не было других, а рядом с крестом Христовым были ещё два креста, и т.д.
Во-вторых, одно из ярких отличий Ветхого Завета от Нового заключается именно в том, что первый предполагал многие вещи только в одном так сказать экземпляре: один храм, один жертвенник, одно святое святых, один ковчег завета, и т.д. Этим Бог научал Израиль тому, что Бог один и для одного народа, что было крайне важно евреям понять в мире, где царило многобожие. В Новом же Завете уже много храмов, много жертвенников, много алтарей. Этим Бог нас научает уже тому, что Бог и Его Церковь в Новом Завете - одна, но уже не для одного, а для многих народов.
В-третьих, когда сыны Рувима сделали второй жертвенник, то они выдавали его за равноценный с тем, который был в Иерусалиме. На нём они собирались приносить действительные жертвы. Православные же никогда не говорят, что каждый крест есть по значимости такой же, как и сам крест Христа, и, естественно, они не приносят на этих крестах вновь Христа в жертву. Они делают кресты только в воспоминание о единожды принесенной Жертве, и о единственном перво-жертвеннике. Таким образом, есть существенная разница между тем, чтобы сделать новый жертвенник и приносить на нём реальные жертвы, и между тем, чтобы сделать образ жертвенника в воспоминание единого жертвенника.
В-четвёртых, если крест один и не нужно делать его копии, то почему же мы сами делаем множество различных его копий, помещая их на наших домах молитвы и в прочих местах? Как вообще можно обвинять православных в том, что мы сами делаем?
Возражение 3: "…не уничижаем ли мы Христа, заслоняя Его страдающий лик серебряным или золотым крестом?" (В. Трубчик).
Ответ: не только не уничижаем и не заслоняем; напротив, делая кресты мы только возвышаем и негласно проповедуем крестный подвиг Христа. Как, например, стоящий у дороги крест уничижает Христа? Наоборот, он живо напоминает всякому проезжающему мимо о Христе распятом; о том, какой ценой приобрёл Христос нам возможность спасения; о том, как возлюбил Бог мир.
Или как уничижает или заслоняет Христа стоящий на храме позолоченный крест? Напротив, он всякому напоминает о подвиге Христа и Его страданиях. А позолочен (если именно это смущает В. Трубчика) и сияет он потому, чтобы показать нам, что крест Христов есть слава и честь Христа! Как волхвы принесли Христу в дар золото, так и православные до сих пор приносят Христу самое дорогое, в том числе серебро и золото. Или протестанты предлагают не золотить крест, а делать его из ржавого металла или гнилого дерева? Почему же тогда мы сами делаем кресты если не позолоченные, то, часто совсем не дешёвые, например, из нержавеющей стали или из ценных пород дерева, которые тоже блестят и красиво выглядят. Мы же не считаем, что такие наши кресты заслоняют страдающего Христа. И если наши кресты не такие испещренные и красивые, как у православных, то это вовсе не свидетельство нашей правоты, а может наоборот - духовной убогости. Да и если протестанты утверждают, что всё своё учение основывают на Библии, то пусть докажут из Библии, что кресты нельзя делать серебренными или золотыми.
Или как уничижает и заслоняет Христа крест, который прихожане в храме лобызают? Во-первых, такой крест буквально никак не заслоняет Христа, ибо образ Христа изображен на переднем плане креста. Если бы крест священники переворачивали тыльной стороной, то тогда можно было бы говорить о каком-то заслонении Христа. Во-вторых, по самой сути крест никак не заслоняет Христа: наоборот, всякий, целующий ноги Христа, распятого на кресте, выказывает этим только своё почтение к Распятому за него. Поэтому, Церковь, предлагая своим чадам целовать на службе крест с Распятием, только возвышает, проповедует и постоянно деятельно и видимо напоминает им о великом и преславном подвиге Спасителя. И только извращённый протестантизмом ум может подумать, что подобное использование креста затмевает или уничижает Христа.
Если крест уничижает и заслоняет Христа, то почему же протестанты сами постоянно его используют? Давайте такой же вопрос зададим себе: не заслоняет ли крест, помещенный на нашем доме молитвы, на кафедре, на Библии, на наших книгах, листовках и сайтах страдающий лик Христа? Не проповедуем ли мы тем самим о кресте, мерзком орудии казни, вместо того, чтобы проповедовать о Христе? Если наш ответ "нет"; если мы считаем, что все изображения крестов, которые мы используем, только помогают, а не мешают и не противопоставляются проповеди о Христе; если подобная постановка вопросов кажется нам вообще неуместной и глупой, то мы уже оценили вопрос В. Трубчика и ответили на него [Протестанты, отказавшись от почитания креста и пытаясь придумывать аргументы и возражения против церковного почитания креста, постоянно, как уже было замечено, впадают в противоречия и не могут связать концы с концами в своём богословии о кресте. Вот ещё некоторые из таких явно противоречивых аргументов, которые выставляют ненавистники Правой Веры против почитания креста. Е. Пушков, например, пишет: "Тертуллиан и Ориген в III веке, когда постепенно крест стал предметом поклонения, свидетельствуют, что даже язычники укоряли христиан в идолопоклонстве, в обожествлении креста". Но на следующей же странице Е. Пушков утверждает: "Согласно данным П.И. Рогозина, поклоняться кресту стали с 688 года. Эти сведения взяты им из постановлений Соборов, именно поэтому С. Кобзарю не следовало бы так нещадно критиковать этого мужа Божьего". Мне всё же непонятно, дражайший Е. Пушков, когда всё-таки, по-Вашему, начали поклоняться кресту? Ему поклонялись уже в III-м веке, или стали (т.е. начали, а до этого не делали) поклоняться только с 688 года после постановления Собора? Противоречие между двумя приведенными утверждениями Е. Пушкова настолько очевидно, что невольно возникает вопрос: а как оно могло быть допущено? Говорят, что даже у великого гения Льва Толстого в его романе "Война и мир" обретаются некоторые противоречия. Но это понятно, так как при написании такого многотомника можно забыть некоторые нюансы, писанные год назад и на 1000 страниц раньше. Но у Е. Пушкова вся глава-то о кресте расположена на 5-ти страницах, и одно противоречие находится от другого совсем рядом. Неужели дело в настолько скромных интеллектуальных способностях автора или простой невнимательности и небрежности? Нет, конечно же. Главная причина допущения такого очевидного и прямого противоречия заключается в самом протестантском духе, которым водится и упивается Е. Пушков. И дух этот, как и всякий сектантский дух, требует одного: с одной стороны всячески поносить Церковь Христову, а с другой - пропагандировать и защищать себя. Ведь всякая секта есть анти Церковь. Греческая же приставка "анти" имеет два значения: 1) против и 2) вместо. Отсюда главная задача секты: 1) противится Церкви; 2) выдавать себя вместо неё. Вот так, строго в этом духе, и действует Е. Пушков. Есть у него в первом случае повод похулить Церковь и обвинить её в идолопоклонстве? Он, не задумываясь, делает это и заявляет, что в Церкви уже в III-м веке настолько было развито поклонение кресту, что даже язычники её в этом укоряли, а значит (эту мысль хочет навязать Е. Пушков), даже язычники были более здравомысленными, чем эта ненавистная протестантскому духу Церковь Христова! И хотя язычники, конечно же, клеветали на Церковь, - о чём выше мы уже говорили (ведь если верить одному свидетельству язычников, то нужно верить и другим, что первые христиане были безбожниками, каннибалами и развратниками), Е. Пушков не берёт всё это во внимание: его дух побуждает его высказать против Церкви языческую хулу. Когда же, страницей ниже, нужно защитить своего коллегу и собрата по духу П. Рогозина, то есть удовлетворить вторую потребность своей антицерковной сущности (выдавать себя вместо истинной Церкви), то Е. Пушков тут же и это делает, и со спокойной совестью заявляет, что поклоняться кресту стали (т.е. начали, а до этого не делали!!) только с 688 года. (Если ответить по существу на ссылку П. Рогозина и Е. Пушкова на постановление Собора, то хорошо известно, что на Соборах ничего не изобреталось в догматике нового, во что тут же повелевалось всем христианам веровать. Соборы всегда только выявляли, утверждали и подтверждали веру, которая и была присуща Церкви). И не так приятно протестанту удовлетворить требование его разума избегать противоречий, причём таких грубых и заметных, как требование его духа любой ценой похулить Церковь и выгородить себя.
Вот ещё одно явное противоречие, которое допускает Е. Пушков на тех же пяти страницах. Сначала он пишет: "Местом Священного Писания: "будет жертвенник святыня великая: все, прикасающееся к жертвеннику, освятится" (Исх. 29, 37) - С. Кобзарь хочет убедить читателя, что крест стал жертвенником и святынею. Но святыней будет сам жертвенник, а не его символ, не его изображение…" (выше, в "возражении 2", мы приводили данную цитату полнее). Итак, как Е. Пушков отвечает на православный аргумент о том, что крест потому есть святыня, что он является новозаветным жертвенником? Суть его ответа такова: да, крест есть святой жертвенник, но святыня есть только "оригинал", то есть сам крест Христов, а не "копии" и изображения этого креста. Таким образом, Е. Пушков, говоря против "копий" креста, признаёт святость "оригинала". Но дальше, когда он пишет о кресте Христовом, который разыскала царица Елена, он говорит, что потому и нужно было его искать, что первые христиане, в том числе и Апостолы, не чтили крест и гнушались им как мерзким орудием казни: "Ведь каждый мало-мальски мыслящий человек может сделать вывод, что для Апостолов и учеников Иисуса Христа он ("оригинальный" крест) так и остался орудием казни любимого Учителя". И снова налицо противоречие: чем считает Е. Пушков (оригинальный) крест Христа - святыней, жертвенником, или же отвратительным орудием казни, о котором даже Апостолы не хотели ничего знать?
Итак, все возражения протестантов против почитания креста крайне несостоятельны, и, более того, противоречат собственной нашей практике использования и своеобразного почитания креста. (Повторю, что мы помещаем крест внутри и снаружи своих домов молитвы, на Библиях, книгах и пр. не для того, конечно же, чтобы гнушаться и отвращаться от креста, а для того, чтобы его почитать)].
Теперь несколько слов о видах креста.
Протестанты если и используют крест, то только четырехконечный. Православные же, чаще всего - восьмиконечный. Какой же крест правильный? Вопрос этот, возможно, покажется некоторым не имеющим первостепенной богословской важности, но им задаются многие люди, когда видят разницу между крестом православным и протестантским. Об этом вопросе упоминает и В. Трубчик: "Есть также разногласия о том, какой крест "правильный"".
Дело в том, что любой (четырех, шести и восьмиконечный) крест - правильный. Ведь сначала, когда к основанию креста прибили верхнюю главную перекладину, крест был четырехконечный. Затем, когда прибили вторую перекладину для ног, крест стал шестиконечным. Когда же Пилат прибил табличку с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский", то крест стал восьмиконечным. И в Православии изображаются все виды креста. На воротах храма, на облачениях священников и в других местах часто можно видеть четырёхконечные кресты. Священнические и нательные кресты также бывают четырехчастными. Используют православные и шестиконечный крест, но чаще всего - восьмиконечный, как наиболее завершенный.
В связи с данным разговором интересно заметить, что нижняя перекладина для ног всегда изображается в Православии наискось. Православные знают, что эта перекладина покосилась после того, как разбойники, висящие на крестах с левой и правой стороны от Христа, определились в своём отношении к Нему: распятый справа благоразумный разбойник исповедал Христа и вошёл в рай (см. Лк. 23:40-43), а другой не раскаялся в своём злословии на Христа (см. Мф. 27:44; Лк. 23:39) и наследовал ад. Об этом и сообщает покосившаяся перекладина на кресте Христовом, указую одному разбойнику путь в рай, наверх, а другому - вниз. Признаюсь, что эта многозначительная подробность, не описанная в Библии, но известная из православного предания [Протестант спросит: откуда известна эта подробность насчёт перекладины? Как известно, у креста Христова стояли Мария и Иоанн, которые и заметили, что перекладина покосилась, и затем сообразили смысл этого события и рассказали об этом другим верующим], в своё время меня очень впечатлила.
II. О крестном знамении
Известно, что православные постоянно совершают крестное знамение, считая это действо весьма благочестивым делом, выражающим православную веру во Христа и служащим для отражения различных вражеских наветов. Каково же основание для осенения себя образом креста [Или же, как едко назвал это действо один баптист, "рукомашный крест" (Д.И. Боголюбов, "Миссионерские беседы с сектантами", изд. св. Успенская Почаевская Лавра, 2007 г., стр. 373)]? Этот обычай имеет под собоpю два основания - Св. Писание и Св. Предание. Начнём с Библии.
Как в Ветхом, так и в Новом Завете, есть несколько мест, где говорится о крестном знамении. Вот главные из них.
1) Пророку Иезекиилю в видении Бог говорит: "...пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак" (Иез. 9:4). "Знак" по еврейски тав. Такое название имеет последняя буква еврейского алфавита, которая по древнееврейскому написанию [Иначе - палеоеврейскому, которое существовало у евреев до вавилонского плена] пишется как крест. В данном стихе также стоит глагол, производный от этого слова - "отавти", ознаменуй, окрести, то есть поставь крест (букву тав) на челах праведных. Как пророк Иезекииль исполнил это Божье повеление, и исполнил ли он его в действительности или только в видении, нам доподлинно не известно: мы верим только, что он обязательно каким-то образом сделал то, что ему было повелено. И так как Ветхий Завет является только прообразом Нового, и детоводителем ко Христу, то в Новом Завете Иез. 9:4 обретает полный и главный свой смысл, который Церковь уже давно выявила. Слова эти говорят пророчески о, во-первых, миропомазании, при котором священник со словами "печать дара Духа Святаго, аминь" крестообразно буквально помазывает миром чело крещённого, запечатлевая его Духом Святым [Подробнее о таинстве миропомазания и его величайшем значении для спасения можно прочесть в 14-й главе настоящей книги]. Во-вторых, это пророчество о крестном знамении, которое все верные от начала [Свидетельства тому уже приводились выше; ниже будут приведены и другие подтверждения древности крестного знамения] существования Церкви полагают на своё чело.
2) Схожее место находится в Ис. 66:18-19: "...и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение..." (ср. Пс. 59:6; Ис. 11:12). Явно, что это пророчество о Церкви, но о каком знамении идет речь? В Церкви - повторим очередной раз - именно крест стал знаменем христиан. Каким же образом полагается это крестное знамение на Почему же В. Трубчик никогда не додумается сказать: людей Божьих? Многими способами, важнейший из которых, как мы уже сказали, есть запечатление крещённого миром, при котором он получает Духа Святого. Но в стихах этих непременно есть указание и на крестное знамение, которое буквально полагают на себя все верные. Пророческий намёк содержат эти слова и о нательном крестике, который носят на себе (т.е., буквально полагают на себя) все право верующие во Христа.
3) "Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения" (1 Тим. 2:8). Это место говорит о различном воздевании рук, и в том числе, непременно, и о воздевании рук, совершаемом при крестном знамении. Если учесть предание Церкви, что крестное знамение было совершаемо верующими из начала, ещё при Апостолах; говоря ещё конкретнее, если учесть, что сам Ап. Павел совершал крестное знамение, то такое толкование отнюдь не будет казаться натянутым. Если же мы не хотим признавать того, что Ап. Павел совершал крестное знамение, и при написании 1 Тим. 2:8 имел в виду и его, то мы должны согласиться хотя бы с тем, что "толкование отличается от применения" - так звучит 7-й принцип протестантской широко используемой герменевтики [Бернарда Рема (1916-1992 гг.), американского баптистского богослова и апологета. Например, мы, студенты ДХУ, изучали именно эту герменевтику].
Что значит этот принцип? Например, нам заповедано любить Бога и почитать родителей. Заповедь одна, но применения и формы исполнения её могут быть очень многообразны и различны. Таким же образом обстоят дела и с вышеприведенной апостольской заповедью о воздевании рук: применение и исполнение этой заповеди может быть различным. И Церковь соборным разумом издревле утвердила две главнейшие формы воздевания рук:
1) священству Она заповедует в определённые моменты службы воздевать обе руки к небу, изображая собою крест и распятого Христа;
2) мирянам же Церковь определила на службе воздевать руки в виде совершения крестного знамения.
На это протестанты говорят, что Ап. Павел заповедал воздевать руки, а не одну только правую руку, как при крестном знамении, на что православные отвечают, что Апостол предписывает воздевать руки не одному человеку, а многим, буквально мужам. И хотя каждый стоящий в храме поднимает только одну руку, то если смотреть на всех молящихся вместе, то мы должны будем сказать, что православные прихожане воздевают в молитве не руку, а руки.
О всех трёх приведенных местах Св. Писания нужно сказать, что здесь говориться о крестном знамении, конечно же, прежде всего намёком (рэмэз). Церковь же объясняет и растолковывает нам смысл этих намёков, и у нас нет никаких оснований отвергать такое толкование данных мест. Ибо мы уже говорили о том, что такое отвержение будет основано не на Библии, а
1) на нашем человеческом протестантском предании;
2) на произвольном не желании принимать такого толкования;
3) на духе противления и противоречия Церкви, которым заражён протестантизм от головы до пят.
Теперь обратимся к вере древней Церкви, и посмотрим, практиковала ли ранняя Церковь крестное знамение?
Для начала приведём вывод ведущего современного богослова (русскоязычного) баптизма С.В. Санникова. Хотя сам он и не совершает, очевидно, крестного знамения, но как историк он не может отрицать того, что крестное знамение появилось в Церкви издревле: "Во II веке… появились первые символические церемонии: знамение креста, которым епископы осеняли крещённых в память о страданиях и смерти Иисуса…" ["Двадцать веков христианства", том. 1, стр. 146]. Конечно, С. Санников, как баптист, в подобных вопросах всегда будет тяготеть к указанию более позднего срока появления тех явлений, которые не практикуют протестанты. Так есть хоть какое-то оправдание тому, почему протестанты не совершают крестного знамения - ведь его не Апостолы ввели. Но на самом деле, предание Церкви говорит о том, что крестное знамение было введено в употребление самими Апостолами, а во II-м и последующих веках Церковь только продолжала эту апостольскую традицию. И, конечно, если к нам не дошли прямые сведения о том, что крестное знамение практиковалось христианами I-го века, то это не значит, что оно на самом деле не ими совершалось. Ведь намного логичнее и легче предположить, что епископы II-го века только продолжили апостольскую практику, чем то, что они вдруг после смерти Апостолов ввели нечто новое и чуждое церковному благочестию. Ведь у нас нет также прямых свидетельств и о том, что крестное знамение во II-м именно появилось: у нас есть только свидетельства о том, что во II-м веке оно уже точно практиковалось. К тому же, великие святые Церкви IV-го века, такие как Василий Великий, свидетельствуют, что крестное знамение было введено Апостолами.
Вот что писал о крестном знамении св. Василий Великий (IV в.). Изучая эту цитату, заметим параллельно, сколько всего другого перечисляет св. Василий, что практиковалось не только христианами его времени, но и, по его же словам, древними христианами с апостольского времени, и что доныне практикуется Православной Церковью, но неизвестно и отвергнуто протестантами: "Из соблюденных в Церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания, по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия, и сему не станет противоречить никто, хотя мало сведущий в установлениях церковных. Ибо если отважимся отвергать неписаные обычаи, как будто не великую важность имеющие, то неприметно повредим Евангелию в самом главном или, паче, от проповеди апостольской оставим пустое имя. Например, упомянем прежде всего о первом и самом общем: чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста, кто учил писанием? К востоку обращаться в молитве какое послание нас научило? Слова призывания в преложении Хлеба Евхаристии и Чаши Благословения кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы не довольствуемся теми словами, которые Апостол [Имеются в виду апостольские новозаветные послания] или Евангелие упоминает, но и прежде их, и после произносим и другие, как имеющие великую силу для Таинства, приняв оныя от неписаного учения. По какому также писанию благословляем и воду Крещения, и елей Помазания, еще же и самого крещаемого? Не по умолчанному ли и тайному преданию? Что еще? Самому помазыванию елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение человека, и прочее, относящееся к Крещению; отрицаться сатаны и ангелов его из какого взято писания? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, будучи основательно научены молчанием охранять святыню Таинств? Ибо какое было бы приличие писанием оглашать учение о том, на что не крещенным и воззреть не позволительно?" [Правило 97. О Святом Духе, гл. 27].
Итак, св. Василий Великий уверяет, что крестное знамение есть первое, самое общее и всем известное апостольское предание, то есть, что его вели в употребление сами Апостолы. И не верить Василию Великому, святость и величие которого не оспаривают даже многие, по крайней мере, образованные протестанты, нет никаких причин.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) также многократно и со всей ясностью говорит о крестном знамении, научая достойному его применению: "Потому-то мы со всяким тщанием начертываем его (крест) и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце… Посему когда знаменуешься крестом, то представляй всю знаменательность креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда знаменуешься крестом, пусть на челе твоем выражается живое упование, а душа твоя делается свободною... Ибо не просто перстом должно его изображать, но должны сему предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь его на лице твоем, то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану…".
А его слова: "Сие знамение и в прежние и в нынешние времена отверзало двери запертые, отнимало силу у вредоносных веществ, делало недействительным яд, и врачевало смертоносные угрызения зверей" [Полную цитату смотреть выше в настоящей главе] также косвенно указывают на то, что крестное знамение было в Церкви из древности.
Св. Амвросий Медиоланский [Тот самый Амвросий, который обратил к вере и крестил блаженного Августина, и о котором последний не раз упоминает в своей "Исповеди"] (IV в.): "В крест Господа Иисуса верует и оглашенный, которым и сам знаменуется", - то есть, крестное знамение во время св. Амвросия совершали все христиане, даже ещё не крещённые (Макарий, т. 2, 337).
Баптистский же пастор П. Рогозин и здесь совершенно бессовестно врет, говоря, что только в 900 г. начали "творить крестное знамение" [П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", раздел "Хронология"]! И тот факт, что этот "писатель-фантаст" в баптизме столь популярный свидетельствует о том, что баптизму, по сути, правда и истина не нужна - в этом я многократно убеждался. Ему нужно выполнить свою миссию, для которой дьявол и создаёт всякую секту -
1) поносить Церковь и противиться ей,
2) выдавая себя вместо неё.
Итак, о том, что христиане будут совершать крестное знамение было предсказано ещё в Ветхом Завете, и верные Христовы со времён апостольских и поныне полагает на себя это спасительное знамение Христовой победы над диаволом. И у действа сего есть вполне понятное положительное значение. Вот суть главнейшие значения крестного знамения:
1. Это кратчайший символ веры. Три вместе сложенных перста (пальца) символизируют собой три Лица Пресвятой Троицы, Которых три, но они суть едино. Два пальца, прижатых к ладони, обозначают Христа в двух природах (Бог и человек), пришедшего на землю, которую символизирует ладонь. Осенение себя крестом означает, что я исповедую Его своим Господом. Образ креста означает, что Христос умер на кресте, а то, что я полагаю его на себя, являет мою веру в то, что Христос умер и за меня.
2. Это краткая молитва, просьба Бога освятить и употребить всего меня для служения Ему: мой ум (пальцы прикасаются ко лбу), жизнь (живот) и силы физические (плечи).
3. Это символическое действие, говорящее о том, что я распинаю себя со Христом и предаю свою волю в послушание Его воле, и что я готов нести свой крест.
4. Это один из способов исполнения заповеди Ап. Павла, данной Тимофею: "Помни Господа Иисуса Христа..." (2 Тим. 2:8). Постоянное осенение себя крестом, как и ношение крестика, деятельно помогает человеку постоянно помнить о распятом Христе.
5. Это знак согласия и одобрения, которым верующие пользуются на богослужениях во время произношения молитв и прошений: когда те или иные слова молитвы особенно дороги и близки сердцу молящихся, а также когда во время богослужения диакон или священник произносит прошения (ектеньи), - христиане осеняют себя крестным знамением, присоединяясь тем самим видимым образом к молитве и произносимым прошениям. Можно заметить, что протестанты, особенно харизматического толка, часто на своих собраниях говорят "аминь" именно тогда, когда им какие-то слова проповеди или молитвы особенно близки. Так вот, крестное знамение в Православии часто выполняет роль именно немого (во избежание лишнего шума на богослужении) "аминь".
Протестанты же, несмотря на очевидную пользу и важность крестного знамения, несмотря даже на то, что эта практика в христианстве древнейшая, не только сами не совершают крестного знамения, но и, как правило, активно ему противятся, осуждая православных за знаменование крестом. Главное же основание таковому противлению мы находим для себя в Деян. 17:24-25, где сказано, что "Бог… не требует служения рук человеческих". Цитируя эти слова, протестанты, как правило, остаются очень довольны тем, как точно это библейское выражение подходит для опровержения крестного знамения, которое совершают православные. На самом же деле, приведенные стихи ничего не говорят против крестного знамения, и наше применение их к данному вопросу совершенно неуместно.
Каждый стих Библии нужно всегда рассматривать в его контексте [Т.е., в его непосредственной связи со всем ходом мысли, рядом находящимися стихами и со всем остальным учением Библии]: в ДХУ на курсе герменевтики нас этому учили как самому важнейшему принципу при чтении и толковании Св. Писания, и православное богословие, естественно, соглашается с этим взглядом. Давайте и сейчас посмотрим, каков контекст приведенных стихов. Ап. Павел обращает свою речь к язычникам, желая объяснить, что Бог не такой, каким они себе Его представляют. Истинный Бог не нуждается в том, чтобы Ему построили дом для жилья, как те строили капища для своих идолов. Он не нуждается, чтобы человек для Него что-то сделал, от чего Ему стало бы лучше. Он не нуждается в этом, потому что Сам является источником всякого блага; Он дал жизнь всему и все от Него, и в таком смысле Бог не требует служения рук человеческих "как имеющий в чем-либо нужду" (25 ст.). Бог не нуждается ни в чем - вот смысл этих стихов. Но разве в этом отрывке Ап. Павел запрещает служить Богу при помощи рук? Библия дает немало примеров, когда в служении Богу участвуют руки (см. 1 Тим. 2:8; Пс. 27:2; 140:2; 3 Цар. 8:38).
Да и сами протестанты, что делают, когда при помощи рук благословляют детей, крестят, молятся с воздетыми руками на особо торжественных собраниях; когда регент дирижирует, а музыкант играет на каком либо инструменте; когда мы строим руками дом молитвы или печатаем Библии - разве это не служение рук человеческих? Почему же мы так поступаем? Очевидно потому, что считаем, что служить Богу руками - хорошо. Ведь правда и то, что Бог не нуждается в служении не только рук, но и ног человеческих (или мы скажем, что в служении рук человеческих Бог не нуждается, а в служении ног человеческих нуждается)? Но, тем не менее, мы ходим проповедовать. Бог не требует служения ног человеческих, но тем не менее, "как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!" (Рим. 10:15). Он не нуждается в служении и языка человеческого - зачем мы тогда поем Ему и проповедуем о Нем? Итак, Бог ни в чём не нуждается Сам по Себе, но ему очень угодно, когда человек служит Ему всей своей душой и телом, как написано: "представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего" (Рим. 12:1). Итак, если хотя бы немного задуматься над всеми следствиями нашего аргумента, то станет очевиден весь его абсурд.
Другой протестантский аргумент против крестного знамения, звучит так: осенять себя крестом это все равно, что вновь распинать и наносить раны Христу. Причём, этим словам мы находим даже библейское подтверждение: православные, совершающие крестное знамение, отождествляются многими баптистами с теми, которые "снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему" (Евр. 6:6).
Конечно же, так мыслить мог научить человека ни кто иной, как только враг креста Господня - сатана! Ведь когда мы "проповедуем Христа распятого" (1 Кор. 1:23), вспоминаем и размышляем о страданиях Христовых, снова и снова воспеваем их в песнопениях, то мы тем самим, конечно же, не раны вновь Христу наносим, а чтим и прославляем Его страдания. Таким же образом, когда православные совершают крестное знамение, то они не вновь распинают Христа, а вспоминают, исповедуют и деятельно проповедуют распятого Христа, прославляя Его крестный подвиг!
III. Доказательства от противного
Теперь подумаем о том, кто еще кроме нас, протестантов, отвращается от креста и, более того, - сквернит его и глумится над ним? Ни иные кто, как сатанисты! Они носят его перевернутым, топчутся по нему, плюют на него, кощунствуют над ним. В местах своих сходок некоторые сатанинские секты на полу вымащивают крест, чтобы каждый входящий попирал его ногами. Как было уже замечено, то, что делает сатана, он делает в подражание Богу и Церкви, только в извращенном виде, с точностью до наоборот.
Таким образом, по его отношению ко кресту можно понять, кому он подражает и что искажает. Своим презрением и осквернением креста сатана извращает именно почитание креста Церковью.
Чтят же крест православные (и католики), но не протестанты. И раз дьявол борется именно с Церковью, и извращает её учение, то значит, не мы являемся Церковью, ибо своим презрением ко кресту сатана не нам противостоит. Скорее, своими проповедями о том, что крест и почитание его есть мерзость и идолослужение, мы делаем с дьяволом одно и тоже, а не противоположное дело.
Можно ещё так рассудить. Если бы крест в духовном мире действительно был бы мерзким орудием казни Христа-Спасителя, посредством которого дьявол убил Сына Божия, то чтили бы крест именно сатанисты. Именно дьяволопоклонники и ненавистники Христа, по нашей протестантской логике, должны были бы ликовать при виде креста, и всячески почитать его как средство убийства ненавистного им Христа, будь крест действительно отвратительным средством убийства Сына Божьего; Церковь же должна была бы в этом случае действительно отвращаться от креста как о напоминании о горе и трагедии.
Но на самом деле, именно Церковь изначала чтит крест Христов, видя в нём орудие убийства и полного поражения не Христа, а именно сатаны; дети же дьявола, напротив, не чтят, а гнушаются, святотатствуют и всячески хулят крест Христов. Отсюда совершенно ясно, что крест для Христа есть средство спасения человека и символ победы над диаволом, а для врага - символ и средство его поражения и вечной смерти; потому он так и ненавидит крест и всякое его изображение. Таким образом, если мы хотим быть на стороне Христа и христовых, а не дьявола и сатанистов, то должны почитать, а не поносить крест.
Ещё один пример. В советское время атеисты запрещали носить крестик с образом распятого Христа, а заставляли носить значок с образом антихриста-Ленина. И разве не понятно, что носить крестик было, особенно в то время, ясным исповедничеством и свидетельством веры и верности Христу, а не повторным нанесением ран Христу, как хотят объяснять ношение крестика протестанты? Разве не понятно, что снять с себя образ распятого Христа и прицепить на себя образ безбожника-Ленина было ни что иное, как предательство Христа и веры христианской? И атеисты, как известно, боролись со всеми видами крестов: снимали их с храмов, даже если храм не уничтожали, а просто отбирали для своих нужд; убирали кресты с кладбищ, заменяя кресты своими пятиконечными сатанинскими звёздами, и т.п. Все эти действия ясно показывают, что ненавистен и мерзок крест не для Церкви, не для истинного и здравомыслящего христианина, а для врагов Христа.
Итак, если сатанисты и атеисты так противятся образу креста, кощунствуют над ним и подменяют его своими символами, то значит, знамение креста Христова есть мерзость для них, а для христиан - святыня. И если мы противимся кресту и хулим его, то на чьей же мы тогда стороне? Вопрос мне представляется весьма серьёзным.
IV. Итог
Итак, Священное Писание с большим почтением относится ко кресту, о славе и силе которого во многих местах пророчествовал ещё Ветхий Завет. Иаков, предвидя страдания Христовы, поклонился кресту, а Давид пророчески призывает и нас к такому же поклонению. Моисей вознёс змея на крест, чем предсказал победу Христа на кресте над древним змием. Крест есть новозаветный жертвенник, на котором Бог принёс в жертву Своего Единородного Сына ради спасения людей.
Потому, крест есть великая христианская святыня. Крест есть то орудие, которым Христос нанёс дьяволу сокрушительную победу, поразив его в голову, и вырвав всех Своих святых из власти шеола. Крест есть знамение Сына Человеческого, которое явится перед Вторым Пришествием Христовым в великой славе, от видения которого восплачут все племена земные. И раз крест есть знамение Христа, то он есть и знамение христиан. Знаменем же не гнушаются, не отвращаются от него, а хвалятся и гордятся, и почитают его.
Христиане с I-го века почитали крест Христа, делая его изображения, а совершать крестное знамение научили верных сами Апостолы. О крестном знамении Бог предрекал ещё в Ветхом Завете, говоря о том, что на челах Его избранных будет поставлен знак в виде креста. Таким образом, страданиями и победой Христа кресту сообщена сила и благодать, так что всякий, кто с верою использует крест и крестное знамение, получает помощь и благодать на борьбу с диаволом и грехом. Крест мы должны любить и почитать, а не призирать, так как ругаются над ним, и ненавидят крест только сатанисты и атеисты.
К тому же, наше отношение ко кресту крайне противоречиво. С одной стороны мы говорим, что крест есть мерзкое орудие убийства Христа, наподобие отвратительных гильотины и виселицы; что крест нужно выкинуть подальше, как мать выкинет нож, которым был убит её сын. Но, тем не менее, мы сами в последние десятилетия стали широко использовать крест как свой символ, не гнушаясь им, а оказывая ему своеобразное почтение. К тому же, в наших книгах мы отвергаем крест и гнушаемся им, а в песнопениях мы всячески воспеваем его; изображать крест на Библиях и книгах позволяем, а совершать крестное знамение - нет.
Таким образом, православное учение о кресте очень библейски и логически обоснованно, гармонично и истинно, и оно во всей полноте отображает отношение ко кресту древней Церкви. Наши же нападки на крест лживы, глупы, безосновательны и крайне противоречивы, а самое страшное - богохульны.
Когда я в достаточной мере изучил и осмыслил взгляды православных и протестантов на крест, то ясно понял, что не принимать православное учение о кресте и продолжать ему противиться впредь просто недопустимо. Следовательно, это есть одна из важных причин, по которой я не могу больше называться баптистом и вообще протестантом.
1. Позволительно ли делать изображения?
2. Можно ли изображать самого Бога?
3. О почтительном отношении православных к иконам.
4. Когда появились иконы?
5. Каково назначение икон в Церкви?
6. О разности икон.
7. О неправильном иконопочитании.
Иконы являются для нас, пожалуй, наибольшим камнем преткновения в Православии, по крайней мере - самым известным. Протестантский профессор богословия Д. Ферберн отмечает, что "в православном богословии евангельских христиан более всего смущает почитание святых и использование икон в богослужении…" ["Иными глазами", глава 7, стр. 149]. В связи с иконопочитанием мы обвиняем православных в нарушении прямого библейского запрета: "не делай себе… никакого изображения"[Конечно, именно этот стих П. Рогозин сделал эпиграфом к своей главе "иконопочитание"] (Исх. 20:4, 5; ср. Втор. 4:16). Таким образом, иконы мы отождествляем с идолами и кумирами; иконопочитание - с мерзким грехом идолопоклонства, а православных - с невежественными ветхозаветными идолопоклонниками, которых часто и гневно обличал Бог через своих пророков такими, например, словами: "делающие идолов все ничтожны…" (Ис. 44:9-20; ср. Ис. 2:8; 40:19, 20; 45:16).
Как православное богословие может объяснить такое для протестантов очевидное отступление от Слова Божьего? Так как вопрос об иконах многосоставный, то мы разделим его на несколько под вопросов.
I. Позволительно ли делать изображения?
На этот вопрос протестанты отвечают, что Бог прямо запретил делать всякое изображение: "Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой либо рыбы, которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им..." (Вт. 4:15-19). Православные же, делая иконы и помещая их в своих Храмах, в нашем понимании нарушают вполне ясную и конкретную заповедь Божию.
Но если это так, тогда и мы вместе с православными подпадаем под свое же обвинение - ведь мы тоже делаем изображения! Во многих протестантских домах молитвы есть изображения. Например, в артемовском доме молитвы ЕХБ, где собирается община, в которой я вырос, в подвальном помещении на стенах находятся росписи, иллюстрирующие евангельские притчи и события. Картины эти сделаны в рост человека, и во многом по форме похожи на росписи в православных храмах. Подобные изображения есть и в других протестантских домах молитвы. Делая это, мы противоречим сами себе и завещаниям наших же основателей-реформаторов, которые на основании второй заповеди запрещали что либо изображать в домах молитвы. Томас Ватсон, например, писал: "Изображения Бога, Спасителя, Девы Марии являются самыми опасными из всех. Поэтому, мы должны быть очень осторожными и следить, чтобы они не устанавливались в храмах и церквях"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 100, 101]. У нас же в доме молитвы на картине тайной вечери изображён Спаситель. И этими изображениями мы отнюдь не ограничиваемся. Ведь протестанты:
1) издают различные богато иллюстрированные детские Библии;
2) снимают фильмы о жизни Христа и других библейских персонажах;
3) выпускают христианские мультфильмы[Нужно не забывать, что каждый фильм и мультфильм состоит из тысяч кадров, т.е. - изображений];
4) делают выставки картин на библейскую тематику[Нужно отметить, что здесь постсоветские баптисты не последовательны. Все перечисленное появилось у нас только в конце 80-х годов XX-го века, с началом близкого общения с западным протестантизмом. До этого баптисты старались не допускать никаких духовных изображений, как не допускают их до сих пор некоторые протестанты], и т.п. Хотя Т. Ватсон писал: "Эта заповедь ("Не делай себе кумира")… запрещает устанавливать кумиры для религиозных целей или поклонения"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 99]. Пусть мы не поклоняемся этим изображениям, но ведь мы их используем не иначе, как для религиозных целей, нарушая тем самым основные положения реформации, и более того - заповедь самого Бога (как мы её понимаем), ведь Он строго запретил делать любой образ - и мужчины и женщины в том числе: "дабы вы не… сделали себе изваяний… представляющих мужчину или женщину". Как же мы постоянно указываем православным на запрет делать изображения, а сами делаем их бесконечное количество? Как мы вообще смеем фотографироваться, ведь фотографии это и есть изображения, и чаще всего именно мужчины или женщины! Значит мы такие же нарушители Божьей заповеди и не лучше православных!
Или - подсказывает нам здравый смысл - все таки можно делать какие-то изображения, но как же тогда толковать библейский запрет? Неужели Бог действительно запрещает нам изображать что бы то ни было? Ответ не так сложен. Нужно просто вникнуть в историко-религиозный контекст, в котором произносились эти слова. Выше приводимую заповедь Бог давал евреям, жившим в мире язычников, имевших множество богов и их изваяний, которым они поклонялись. В то время не было, по-видимому, ни одного народа, который не имел бы своих идолов. За этими же идолами, по объяснению Ап. Павла, стояли бесы (1 Кор. 10:20; ср. Пс. 105:37; Вт. 32:16,17).
Древнехристианский апологет Марк Феликс утверждал то же самое: "Итак, эти нечистые духи, демоны, о которых знали маги, философы и сам Платон, скрываются в статуях и идолах, которые по их внушению приобретают такое уважение, как будто в них присутствовало божество"[Октавий, гл. 27].
В числе народов, самых развитых в идолопоклонстве, был Египет, который более чем за 400 лет совместной жизни с избранным народом оставил, бесспорно, глубокий след в сознании и религиозном мировоззрении евреев. Для искоренения такого языческого сознания Господь и запрещает делать изображения идолов, как делали их все народы с целью боготворить и поклоняться им. И именно этот запрет израильтяне вскоре нарушили, когда, во время долгого отсутствия Моисея, сделали себе золотого тельца и стали ему поклоняться как богу, говоря: "вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской" (Исх. 32:4). Этот запрет нарушали евреи и позже, когда царь Иеровоам сделал двух тельцов и предложил их своему народу в качестве богов, говоря: "вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской" (3 Цар. 12:28).
Итак, вот какие изображения запрещает делать Господь - идольские, языческие, бесовские, богопротивные. Сам Бог и объяснил цель данного запрета: "дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им..." (Вт. 4:19), то есть, не служил как богам. Но в этой заповеди Бог не ставит табу вообще на изобразительное искусство, если оно не несет бесовского характера.
Более того, - и это многие протестанты наотрез отказываются замечать в Библии (!), - Бог не только не запрещает делать другие, не идольские изображения, но Сам повелевает их сделать! Бог прямо повелел Моисею на крышке ковчега сделать 2-х херувимов: "...сделай из золота двух херувимов" (Исх. 25:18-22). Кроме этого, на завесе, отделяющей святое святых в скинии, также были по Божьему указанию вышиты херувимы: "И сделай завесу... искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы" (Исх. 26:31). Позднее царь Соломон сделал для храма двух огромных пятиметровых херувимов: "И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей. Одно крыло херувима было в пять локтей и другое крыло херувима в пять локтей; десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его" (3 Цар. 6:23,24; 2 Пар. 3:10-13). Царь Соломон к тому же "на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов, внутри и вне" (3 Цар. 6:29; ср. 2 Пар. 3:7). Таким образом, в Иерусалимском храме были как плоские, двухмерные, так и объемные, трёхмерные изображения. И когда "вошел Иисус в Иерусалим и в храм[Христос входил не в Храм Соломона, разрушенный Навуходоносором в VI-м веке до Р.Х., а в воссозданный Иродом Храм, но этот Храм был подобен Соломонову]", то "осмотрев всё" Он воспротивился только тому, что в святом храме торговали и разменивали деньги (Мк. 11:11, 15-17). Против находившихся в храме изображений Он не сказал ни слова!
Также и пророк Иезекииль, описывая храм, показанный ему "в видениях Божиих" (Иез. 40:2), упоминает о множестве изображений: "От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения, сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме - лице львиное; так сделано во всём храме кругом… и сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам…" (Иез. 41:17-19, 25). Заметим, что эти святые изображения были расположены "по всей стене кругом" и окружали молящихся со всех сторон точно так же, как окружают они до сего дня молящихся в православном храме.
Также, Моисею Бог повелел сделать медного змея[Змей, висящий на кресте, был прообразом Христа (см. Ин. 3:14, 15), ибо на Кресте Христос умертвил древнего змия (подробнее об этом было сказано в предыдущей главе). Когда же сменилось много поколений и израильтяне отступили от Бога и впали в идолопоклонство, они забыли причину, по которой был сделан медный змей, сохранявшийся все это время в Израильском народе, и его действительное назначение (быть проводником исцеляющей Божьей благодати для тех согрешивших и ужаленных змеями, которые с верою взирали на него), и стали кадить ему и чтить его как языческого бога Нехуштана. По этой причине благочестивый царь Езекия и уничтожил его (см. 4 Цар. 18:4), чего бы не случилось, если бы израильтяне относились к нему по-прежнему - как к Божьей святыне] (Числ. 21:8), хотя в вышеприведенном отрывке из ВторозаконСв. Амвросий Медиоланскиpйия Он Сам запретил делать "изображения какого-либо гада, ползающего по земле". По нашей логике нужно признать, что Сам Бог неоднократно нарушил Свой же запрет, повелев сделать все эти изображения. И протестанты не желают признавать принципиальной разницы между святыми и языческими изображениями. Т. Ватсон, по крайней мере, никакой разницы между первым и вторым не видит. Вот что он пишет: "Поклонение изображениям противоречит практике святых древних времён. Иосия, став царём, разрушил дубравы и уничтожил идолов (4 Цар. 23:6, 24). Константин отказался от изображений, установленных в храмах. (…) Когда римские императоры хотели навязать им (христианам) идолопоклонство, то Божьи люди предпочли умереть, нежели осквернить своё девственное исповедание. (…) Когда Серапион поклонился идолу, христиане исключили его из общины и предали сатане"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 101].
Но все 4 приведенных Т. Ватсоном примера говорят об идольских, а не святых изображениях! Но Т. Ватсон полностью игнорирует этот факт, так как для него христианские и языческие изображения - одно и то же. Получается, для протестанта нет разницы - поклонится изображению Зевса, или Ап. Павла; образу Христа, или образу антихриста, идолу или святыне. Разве можно не делать такого различия? Или все таки нам следует признать, что, кроме идольских, есть и святые изображения, которые Бог не то что не запрещал, но Сам повелел сделать?
Таким образом, сотворить кумира Бог запретил, но сотворить истинные изображения - Сам повелел. Этот факт, повторю, при всей его полнейшей очевидности, мы не хотим ни замечать, ни знать, ни понимать, ни помнить. Отождествлять же православные образы Христа, Девы Марии, Апостолов, пророков, святых епископов и пресвитеров, мучеников за Христа и Божьих Ангелов с языческими идолами, а не со святыми образами, и сравнивать иконы с идолами Ваала и золотого тельца, а не с херувимами, как постоянно делают это протестанты, является просто великим кощунством и богохульством протестантизма!
II. Можно ли изображать Самого Бога?
Отдельно теперь нужно ответить на вопрос: можно ли изображать Самого Бога? Нам на память сразу же приходят слова из Евангелия (которые наши богословы и пасторы научили нас применять к данному вопросу): "Бога не видел никто никогда" (Ин. 1:18). Кроме того, в выше рассмотренном отрывке Господь говорит: "Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь" (Вт. 4:15). Т. Ватсон выразил этот аргумент так: "Создать истинное изображение Бога невозможно. Сущность Бога духовна, и Он, являясь Духом, невидим (Ин. 4:24). "…Вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь на горе Хориве из среды огня…" (Втор. 4:15).
Как человек может нарисовать Божество? Разве сможет он изобразить то, чего не видел? …мы не можем нарисовать изображение Бога, Который является бесконечным несотворённым Духом"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 100]. Если Ангелов и Апостолов люди видели и о возможности их изображения ещё можно как-то говорить, но как же, протестуют протестанты, изображать Бога, которого никто не видел, и видеть не может?
П. Рогозин тоже высказывается по этому поводу: "Нам известны некоторые земные формы Его проявлений, как-то: Три странника, Неопалимая купина, Столп облачный и огненный, ангел Завета, Вождь воинства Господня и др., но по Своей Божественной сущности Он "Царь царствующих, единый, имеющий бессмертие…" (1 Тим. 6:15-16). Бога с такими атрибутами изобразить невозможно. (…) Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова и вы увидите, что изобразить Христа во всей Его небесной славе также немыслимо, как немыслимо изобразить Самого Бога, нетленного, непостижимого…"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось", стр. 23,24].
Нужно заметить, что силясь доказать невозможность изображения Христа, П. Рогозин не понимает, что приводит совершенно не соответствующие примеры. Для описания Божественной сущности нужно было бы сказать, что "Бог есть Дух", Который нельзя изобразить, как говорит о том более сообразительный Т. Ватсон. Царь же есть как раз таки земной и вполне изобразимый образ. Также и в Откровении Христос явился Иоанну в образе "Сына Человеческого", внешность Которого тайнозритель и описал: "облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи… Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей" (Откр. 1:13-16). Если Ап. Иоанн смог увидеть и описать внешность Христа, то Его можно и изобразить.
Но не будем слишком придираться к П. Рогозину. Его мысль, как и мысль Т. Ватсона, мы поняли: Бога "по Своей Божественной сущности" видеть невозможно, а следовательно и изобразить, с чем православные полностью согласны. В одном из своих песнопений, например, Церковь воспевает такие слова: "Бога человекам невозможно видеть, на Него не смеют и чины ангельские взирать". Увидеть Бога таким, как Он есть, сможет Церковь только на небесах после "брака Агнца" (см. Откр. 19:7), когда она станет всецело один дух со Христом. О такой величайшей благодати, которой сподобятся все верные, говорит нам Апостол Иоанн: "Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть" (1 Ин. 3:2). То есть, Церковь увидит Бога в Царствии Небесном, а пока никто не видит Бога таким, "как Он есть".
Но почему же, понимая это, православные делают изображения Бога? Ответ совершенно прост: православные изображают Бога не в Его духовной сущности, а таким, каким Он Сам Себя изволил явить людям. То, что "Бога не видел никто никогда" есть только одна часть истины. Не будем вырывать эти слова из контекста. У данного библейского стиха есть продолжение: "Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил"[Подобное по смыслу продолжение есть и у вышеприведенного православного песнопения: "Бога человекам невозможно видеть, на Него не смеют и чины ангельские взирать, ибо Тобою, Всечистая, явилось человекам Слово воплощенное: Его величая, с небесными воинствами Тебя ублажаем"]. И в этой же главе Апостол Иоанн пишет: "И Слово стало плотью и обитало с нами... и мы видели славу Его..." (Ин. 1:14). В своем же послании возлюбленный ученик Христа еще раз напоминает нам о той величайшей любви и смирении, которые явил Бог-Слово, пожив видимым образом на земле среди людей: "О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни..." (1 Ин. 1:1).
Что случилось при воплощении? Бог стал человеком, "принял образ раба" (Фил. 2:7). Люди видели Бога воочию: "видевший Меня видел Отца" (Ин. 14:9). В Евангелии И. Христос прямо называется "образом[В греческом оригинале в этих местах стоит слово ![]() - икон, что значит: икона, образ. Поэтому, иконы православные называют и по-русски - образами, и по-гречески - иконами. Нужно заметить, что слово "икона" нам сильно режет слух, и звучит для нас почти так же ужасно, как слово "идол". Но это слово нужно любить, ведь оно - евангельское] Божиим" (2 Кор. 4:4; Фил. 2:6; Кол. 1:15). В Ветхом Завете Бог запретил делать Свой образ по единственной причине: Его еще никто не видел, время воплощения еще не наступило. На эту причину указывает Сам Господь: "...глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас... Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь..." (Втор. 4:12, 15). Но в Новом Завете Бог открыл Себя уже иначе, чем в Ветхом. В Иисусе Христе люди слышали не только глас Божий, но и видели Его образ. Сам Христос говорил ученикам о Себе: "ваши же блаженны очи, что видят… ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели…" (Мф. 13:17)! Св. Мелитон Сардийский, христианский епископ и писатель II-го века, говорил о Христе: "Судья был судим, и Невидимый стал видим, и Бесстрастный страдал, Бессмертный умер и Небесный погребён на земле"["О теле и душе и страстях Господних", п. 13].
- икон, что значит: икона, образ. Поэтому, иконы православные называют и по-русски - образами, и по-гречески - иконами. Нужно заметить, что слово "икона" нам сильно режет слух, и звучит для нас почти так же ужасно, как слово "идол". Но это слово нужно любить, ведь оно - евангельское] Божиим" (2 Кор. 4:4; Фил. 2:6; Кол. 1:15). В Ветхом Завете Бог запретил делать Свой образ по единственной причине: Его еще никто не видел, время воплощения еще не наступило. На эту причину указывает Сам Господь: "...глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас... Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь..." (Втор. 4:12, 15). Но в Новом Завете Бог открыл Себя уже иначе, чем в Ветхом. В Иисусе Христе люди слышали не только глас Божий, но и видели Его образ. Сам Христос говорил ученикам о Себе: "ваши же блаженны очи, что видят… ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели…" (Мф. 13:17)! Св. Мелитон Сардийский, христианский епископ и писатель II-го века, говорил о Христе: "Судья был судим, и Невидимый стал видим, и Бесстрастный страдал, Бессмертный умер и Небесный погребён на земле"["О теле и душе и страстях Господних", п. 13].
Т. Ватсон же, как и прочие протестанты, по своей глупости, движимые духом противления учению Церкви, помнят только Ветхий Завет, когда люди "не видели никакого образа". Ясного же учения Нового Завета о том, что люди "видели" Бога, мы в своём иконоборчестве знать не хотим.
По сути, мы практически не понимаем и не задумываемся о том, что христианство есть откровение не только слова, но и образа Божия! Священник Александр Мень[А. Мень, бесспорно, талантливый и одаренный церковный мыслитель и писатель, хотя Церковью его труды не принимаются в полноте из-за наличия в них еретических воззрений (он, в частности, отвергал многие ветхозаветные чудеса, искажал учения о сотворении мира, происхождении зла и загробной участи человека). Но так как многие протестанты уважают труды этого православного священника (например, книга его "Сын Человеческий" была в своё время довольно популярна в нашей среде), то в своей книге я несколько раз привожу высказывания А. Меня, которые никак не противоречат учению Православной Церкви] совершенно справедливо отмечает, что запрещение на изображение Бога "было до Христа, но в новозаветное время Бог уже не только - Сокровенный и Неисповедимый. Он явлен людям в таинстве Воплощения. Сама реальность Иисуса Христа как Богочеловека оправдывает Его изображение. Образ того, кто жил на земле, Кого видели и слышали люди, Кто был не только Богом, но и Человеком, несомненно, может быть изображен и средствами искусства"[А. Мень "Православное богослужение: таинство, слово и образ". - Москва, 1991 г., с. 149].
Итак, Бога по Своей природе, таким "как Он есть", никто из людей ещё не видел, но Бога воплотившегося многие видели. И Церковь изображает Бога не в Его природе и сущности (это совершенно невозможно), а в тех образах, в которых Он открылся людям. Так, Бога Отца изображают в виде старца, "ветхого днями", каким видел Его Даниил (Дан. 7:9, 13, 22). Бога Сына Церковь изображает в таком образе, в каком Он был явлен миру, вочеловечившись, то есть в образе человека Иисуса Христа. Бог Дух Святой изображается в образе голубя, в том самом образе, в котором Он пожелал явить Себя, когда Христос крестился от Иоанна (Мф. 3:16). В православной традиции Святой Дух изображается также в виде огненных языков - опять же, именно таким образом, каким Он Сам Себя видимо явил при Своем сошествии на учеников в день Пятидесятницы (Деян. 2:3). Вся Троица вместе так и изображается Церковью: Бог-Отец в образе старца, Бог-Сын в образе Иисуса Христа и Бог-Дух Святой в образе голубя. То есть Бог изображается не в своей сущности, а в том образе, в котором каждое лицо Троицы Себя открыло. И этой традиции в основных чертах следуют и протестанты при издательстве своих детских Библий.
Кроме того, Бога изображают еще в виде трех Ангелов (так изображён Бог на известной иконе Андрея Рублёва) - так, как Он открылся Аврааму (см. Быт. 18:1-3 и далее). В виде Ангела Бог-Иегова являлся и Моисею (см. Исх. 3:1-6). То, что это был Бог в виде Ангела ясно из самого текста, где вначале сказано, что "явился ему Ангел Господень", а далее говориться "воззвал к нему Бог", и Явившийся Сам назвал себя Богом: "Я - Бог отца твоего". Таким образом, Церковь изображает Бога только так, как Он Сам Себя являл людям. И протестанты изображают Бога таким же образом - обратим на это особое внимание!! И это всё при том, что мы постоянно повторяем: изображать Бога - грех! В. Трубчик пишет: "Однако Бог не оставляет сомнения в том, что Его нельзя ни в каких случаях изображать: "Твердо держите в душах ваших…" (Втор. 4:15-16). Как видим, Бог подчеркивает, что Его нельзя изображать в виде мужчины или женщины. Всякое такое действие называется развращением. Приходится недоумевать по поводу того, что в некоторых храмах находятся изображения Бога-Отца как дедушки с длинной бородкой… Это развращение!"[Глава 7 "Молитва и поклонение", раздел В].
 |
| Рис. 1. Бог с Адамом и Евой в раю |
Нет, уважаемый Василий, приходится недоумевать от другого: как это баптисты строго запрещают изображать Бога, называя это развращением, и постоянно обвиняют в этом православных, а сами делают то же самое[Замечу, что протестанты, многоразлично изображая Христа, изображая и Духа Святого в виде голубя и огненных языков, реже изображают или используют изображения Бога-Отца в виде старца. Хотя постсоветские протестанты, например, широко используют и продают "Библию в иллюстрациях" Юлиуса Карольсфельда, где на первых страницах 7 раз изображён Бог Творец в виде седовласого старца (см. одно из этих изображений на рис. 1). Пастор артёмовской общины баптистов, Кобзарь Иван Михайлович, известный далеко за пределами нашего города и области как один из "дубов" баптизма, дарил эти Библии людям. Так если, согласно В. Трубчика, "изображения Бога-Отца как дедушки с длинной бородкой" есть "развращение", то зачем же баптисты развращают людей?]! То есть, противоречие протестантов самим себе налицо!
Здесь нужно теперь подробнее остановиться и обсудить вопрос сущности (природы) Бога, и образа Божия. Основная причина отторжения протестантами икон и иконопочитания заключается именно в том, что мы не понимаем разницу между сущностью и образом Божиим. Мы думаем, что для того, чтобы изобразить Бога неискажённо, Его нужно изобразить во всей Его сущности. Но поскольку "Господь есть Дух" (2 Кор. 3:17), "Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может" (1 Тим. 6:16); поскольку Он великий, непостижимый, не исследимый, Которого не вмещает всё мироздание, то Его совершено невозможно изобразить. Т. Ватсон неоднократно повторяет эту мысль: "Невозможно нарисовать душу или ангелов, так как они имеют духовную природу. Тем более мы не можем нарисовать изображение Бога, Который является бесконечным несотворённым Духом"[Т. Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 г., стр. 100]. "Создать истинное изображение Бога невозможно. Сущность Бога духовна, и Он, являясь Духом, невидим (Ин. 4:24)". "Именно Божественность Христа, объединённая с Его человеческой природой, сделала Его Христом. Поэтому изображение Его человеческой природы, не имея возможности изобразить Его Божественность, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает Его Христом"[Т. Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 г., стр. 104].
Этот аргумент (о невозможности изобразить Бога) реформаторов и современных протестантов был главным и у древних иконоборцев. Поэтому, все попытки Его изображения кажутся иконоборцам кощунством и унижением Бога (хотя, повторюсь, большинство протестантов вопреки всякой логике осуждают православных за иконы, и в то же самое время сами изображают Бога и духовную реальность). Но кроме противоречия самим себе, протестантизм в лице Т. Ватсона и все вообще иконоборцы допускает две грубейшие богословские, философские и логические ошибки.
Во-первых, совершенно глупо считать, что на иконе изображена человеческая природа Христа. Природу (сущность) не только Божественную, но и человеческую изобразить совершенно невозможно, ибо что есть человеческая природа? Это, прежде всего, дух, душа, ум, воля, чувства, совесть, память. Как можно что-либо из этого изобразить? Никак. Мы можем изобразить только лик, икону (образ), внешность человека; то есть, только малую часть его природы. Тем не менее, изображая обычного человека мы вовсе не требуем, чтобы на картине было изображена вся природа человека, его душа и прочее. Изобразить можно только внешний образ человека, за которым стоит его невидимая сущность.
По логике Т. Ватсона, не только Христа, но и никакого человека нельзя изображать. Ведь запрещая изображать Христа на основании не изобразимости Его духовной природы, Т. Ватсон, и с ним все протестанты, должны запретить изображение всякого человека на том же основании, и сказать, что "изображение человеческой природы человека, не имея возможности изобразить его душу и духовную сущность является грехом, так как тем самым мы делаем человека наполовину человеком, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает его целостным человеком". По той же логике даже смотреть на человека нельзя, ибо мы не видим духовной природы человека, а значит, по Т. Ватсону, "разделяем соединённое Богом".
Во-вторых, если даже мы признаем, что Т. Ватсон просто не правильно выразился, и его аргумент лучше было бы сформулировать так: "изображение Его человеческого образа, не имея возможности изобразить образа Божества, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом", то и здесь также обнаружится грубейшая ересь. Ведь если изображение человеческого образа Христа есть грех, то и Сам Бог согрешил, когда явил Себя людям в человеческом образе, не явив образа Божественного. Если грех изображать (и взирать) на человеческий образ Христа, то грех было взирать и на живого Христа, ведь люди, видящие Христа, за Его человечностью не видели Его Божественности, а значит, согласно Т. Ватсону, грешили и делали "Иисуса наполовину Христом". Если неспособность изобразить и видеть Божество Христа есть грех и разделение Христа, то грешили все те, кто поклонялись Христу в Его земной жизни. Ведь они, поклоняясь Христу, не видели Его ни Божественной природы, ни Божественного образа. Но Христос тем не менее говорил, что "видевший Меня (т.е., Мой образ, лик), видел Отца".
Для того, чтобы сильнее прочувствовать нелепость протестантского запрещения изображать Христа, давайте попросту допустим, что у нас кроме икон Христа были бы ещё и Его фотографии. И они у нас действительно были бы, если бы Христос жил в наше время. Так вот, для протестанта сфотографировать Христа был бы грех! Если заменить слово "изображение" словом "фотография" в цитате Т. Ватсона, то вот что он утверждает: "фотографирование Его человеческой природы, не имея возможности сфотографировать Его Божественность, является грехом, так как тем самым мы делаем Иисуса наполовину Христом, разделяя соединённое Богом и отбрасывая то, что делает Его Христом". Как видим, нелепость протестантского богословствования на лицо.
Итак, истина заключается в том, что в лице Иисусе Христе Божественная и человеческая сущность соединились "неслиянно и нераздельно, неразлучно и неизменно"[Христологическая формулировка, объясняющая образ соединения Божества и человечества во Христе, данная на IV-м Вселенском Соборе]. Поэтому всякий, кто видел Христа в земной жизни, видел истинного Бога. Таким образом, изображая на иконе Христа, мы изображаем не отделённого от Бога человека-Иисуса, а одного Богочеловека, в лице Которого Бог явил Себя.
При этом, Церковь вовсе не учит, что образ Христа есть истинный образ Бога во всей Его славе. Феофил Антиохийский (II в.) писал об образе Бога во славе так: "Послушай, друг мой: вид Бога не описуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость не исследима, благость неподражаема, благодеяния неизреченны"[К Автолику, книга 1, п. 3].
Повторю, что Бога, таким как Он есть, Церковь увидит и познает только после брака Агнца. Но это не значит, что мы не можем и не должны знать и видеть образ Бога, явленный во Христе, в уничижении.
В конце концов: если протестанты учат, что "изображение Его человеческой природы, не имея возможности изобразить Его Божественность, является грехом", то для чего же мы сами изображаем Христа (см. рис. 2 и 3), Его "человеческую природу"? Для чего мы сами делаем то, за что так яростно обвиняем православных? Если мы скажем, что мы не поклоняемся и не целуем эти изображения, то это совершенно другой вопрос, о котором ниже будет сказано подробно. Сейчас же мы пока говорим о самой возможности изображать Христа. Поэтому, давайте спросим себя: если мы так ратуем против изображений Христа, то почему же мы сами Его изображаем? Можем ли мы ответить на этот вопрос?
 |
 |
| Рис. 2. Одно из изображений Христа в протестантской детской Библии | Рис. 3. Христос молится в гефсиманском саду |
Ещё одна причина, по которой, по мнению протестантов, нельзя изображать Христа, является та, что мы точно не знаем, как Он выглядел[О том, насколько справедливо данное утверждение, будет сказано ниже]. Но при этом протестанты всё же изображают Христа - на свой лад и по своей фантазии. Особенно примечательно то, как изображают Христа в своих книгах расселисты (см. рис 4). Смотря на их картинки ясно видно, что изображён здесь отнюдь не Христос, а бруклинский "свидетель Иеговы", одетый в одежду древности. Даже с исторической точки зрения изображение искажено: у Христа модельная голливудская причёска и коротко стриженые усы и борода. Какой иудей стриг так бороду? Очевидно, что Христос у "свидетелей" создан по их собственному "образу и подобию".
И протестантские изображения Христа не намного лучше: они также искажены и крайне бездуховны. Во многих детских Библиях Христос изображён вообще в виде комиксов. В мультфильмах он также, естественно, не реальный.
Православной же Церкви как раз таки совершенно чуждо такое легкомысленное отношение к изображению Христа (и иной духовной реальности). Иконы Христа пишутся по строго определённым канонам. Писать их предписано людям посвящённым, преимущественно монахам, с молитвой и постом. Иконы эти освящаются, и только после этого они становятся настоящими иконами. Протестанты же, понося величественные, духовные православные иконы Христа, вместо них сделали свои часто никчемные рисуночки (см. рис. 5-7). Поэтому, в вопросе возможности изображать Христа протестанты занимают весьма противоречивую позицию: строго запрещая изображать Христа и называя это грехом, мы сами изображаем Его; отвергая православные величественные духовные образы Христа, мы заменили их своими изображениями не только искажёнными и более низкого качества, но подчас просто комиксами. Как же можно держаться таких позиций?
 |
 |
| Рис. 4. Христос расселистов | Рис. 5. Христос в одной протестантской детской Библии |
 |
 |
| Рис. 6. Ангел у гроба Христа | Рис. 7. Дева Мария у Креста |
Представляется уместным здесь сказать о видах атеизма. Самый страшный атеизм это когда человек знает, что есть Бог, но ненавидит Его и сознательно с Ним борется. Другой, более мягкий вид атеизма, это когда человек не ненавидит Бога сознательно, а просто не верит в Его существование. Третий вид атеизма, это когда человек признает существование Бога, но на практике он не исполняет Божьих заповедей и живет так, как будто Бога нет, и ему не нужно будет отвечать за свои дела на Страшном Суде. Можно выделить еще один вид атеизма, частичный, когда человек и верит в Бога, и старается исполнять Его заповеди, но отрицает некоторые важнейшие понятия о Боге. К таким атеистам относятся, например, расселисты, которые верят в Бога, но отрицают важнейшее учение о Троице. И к такому виду атеистов нужно отнести и протестантов, которые своим иконоборством частично отрицают важнейший догмат воплощения Богочеловека.
На Седьмом Вселенском Соборе Церковь заявила, что иконы служат "нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова". При воплощении Бог открыл людям Свой образ в лице Иисуса Христа, и даже чудесным способом оставил его нам на плащанице (об этом будет сказано ниже), а мы продолжаем говорить, что Бога изобразить невозможно, как будто бы после откровения Бога Моисею на Синае, когда люди не видели образа Божия, ничего не произошло. Поэтому, повторю, своим иконоборчеством мы в определённом смысле противимся догмату Боговоплощения, его полному смыслу.
Чтобы убедиться в справедливости такого серьёзного обвинения, вспомним приводимую выше цитату Т. Ватсона: "Как человек может нарисовать Божество? Разве сможет он изобразить то, чего не видел?...". Именно в подобных протестантских заявлениях, которые часто можно встретить и у других авторов, кроется в некотором смысле отрицание Боговоплощения. Ведь Т. Ватсон вопреки свидетельству Евангелия заявляет, что Бога по прежнему, как и до воплощения Христа, никто не видел, хотя во Христе люди именно видели Бога: "видевший Меня, видел Отца".
Т. Ватсон, увлёкаясь идеей величия и не изобразимости Божьей природы, пишет также: "Если кто-либо изобразит змей или пауков, объясняя, что это представляет его правителя, то разве последний не воспринял бы это как пренебрежение? Что больше может оскорбить бесконечного Бога, чем представление Его посредством того, что конечно?"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 100]. Риторические вопрошания Т. Ватсона весьма не далёки; в них он допускает две серьёзнейшие богословские ошибки.
Первая: совершенно не разумно и не справедливо сравнивать изображения Христа с изображениями змей и пауков. Если правителя, к примеру, президента страны, изобразит кто-либо в виде паука, то это будет оскорблением, но если чиновник вешает изображение президента в своём кабинете, то это только прославляет и приносит честь, а не оскорбление президенту. Таким образом, если бы Церковь изображала Христа в виде паука, то это действительно было бы оскорбtd valign=ление Бога, ибо Бог не подобен пауку, но Церковь изображает Христа в образе человека Иисуса Христа, в Котором Бог Сам Себя явил миру. И человек, в противоположность змее и пауку, подобен Богу, ибо сотворен "по образу и подобию" Божию (Быт. 1:26).
Вторая ошибка в том, что бесконечный Бог оскорбляется "представлением Его тем, что конечно". Все наши слова о Боге, вся проповедь Церкви о Христе состоит из земных и конечных понятий! Любое слово о Боге, любое определение Его сущности и характера, - даже такие возвышенные, как "Бог есть любовь"; "Бог есть Дух"; "Бог милосерд, справедлив и многомилостив"; "Бог всемогущ, бессмертен, велик" и т.д., - есть определения конечные, человеческие. Они не описывают действительную сущность Бога, ибо Бог совершенно неописуем в своей духовной сущности. Как изобразить, так и сказать о Нём нельзя ничего правильного, так как у человека нет слов для описания Бога. Здесь мы затрагиваем богословски непростую тему так называемого апофатического (отрицательного) и катафатического (положительного) богословия.
Суть в том, что апофатическое богословие ничего не может сказать о Боге положительного, а катафатическое говорит - и здесь нет никакого противоречия, ибо первое говорит о природе Бога самой по себе, а второе - о том, каким Сам Бог открыл Себя человеку. И на этих понятиях спекулирует Т. Ватсон. Да, Бога действительно нельзя ни изобразить, и описать словами, в Его сущности, ибо и изображения и слова есть средства человеческие, конечные. Но с другой стороны, о Боге можно многое сказать, так как Он Сам Себя открыл человеку в его конечных категориях. Бог, не будучи голубем, явил Себя в его образе; не будучи ангелом, являл Себя в образе ангела; будучи Духом, стал человеком. И Церковь изображает Бога только в тех образах, в которых Бог Сам Себя явил человеку, а не в духовной Его сущности, как грезится Т. Ватсону и прочим иконоборцам.
Ещё одно возражение протестантов против изображения Христа заключается в следующем: точный образ Христа не сохранился, а поэтому, раз нам неизвестно как Христос выглядел в действительности, Его и не нужно изображать. На самом деле, это у нас, протестантов, не сохранился образ Христа, а Церковь его сохранила. Первые христиане, видевшие Христа, запечатлели Его образ. В римских катакомбах, где они собирались, остались и до сих пор изображения Иисуса Христа, хотя они более символичны, чем реальны. Кроме этого, из древней христианской истории известен случай, когда Христос чудесно оставил свой образ на полотне пришедшим к нему посланцам царя Авгаря. Также, Церковь сохранила память о том, что евангелист Лука был не только врачом, но и художником, и стал первым церковным иконописцем[О нерукотворном образе Христа и иконописце Луке говорится "Библейской энциклопедии", Арх. Никифор - Москва, 1891 г., с. 764-765. Более подробно о "нерукотворном Спасе" можно прочесть в книге Л. Успенского "Богословие иконы". - Изд. Западно-европево всей Его славейского экзарbr /хата, Московский патриархат, 2001 г., с. 31].
Если же мы не хотим верить Церкви, - так как всё это было давно и мы не можем достоверно узнать, оставлял ли Христос Свой образ царю Авгарю и писал ли Лука иконы, - то давайте порассуждаем о всем известной туринской плащанице. Это та самая плащаница, в которую Иосиф Аримафейский обернул тело Христа при погребении (см. Мф. 27:59; Мк. 15:46; Лк. 23:53). Промыслом Божиим она сохранилась до наших дней и находится сейчас в Италии, в городе Турине (оттого она и называется туринской). На ней чудесным и непостижимым образом изображен Спаситель Христос.
О том, что на плащанице находится изображение именно Христа, свидетельствует множество фактов. Кровавые пятна находятся как раз там, где они должны быть, если следовать евангельскому описанию смерти Христа: на руках и ногах - сквозные раны от гвоздей; в боку - рана от копья; на голове - от шипов тернового венца; на всём теле - раны от бичеваний. Эта плащаница не может принадлежать кому-либо ещё из распятых подобно Христу по той причине, что ни на кого более из распинаемых не возлагали тернового венца, никого до распятия не бичевали, и никому обычно не протыкали бок, а перебивали голени. То есть, никакой другой человек не мог иметь всех тех ран, которые мы видим на плащанице.
О своей истинности свидетельствует сама плащаница.
Во-первых, изображение сделано не краской, а каким-то чудесным образом. Изменен сам химический состав волокна, из-за чего материя поменяла цвет, что и создает изображение. Предполагают, что изображение появилось в момент воскресения Христова, когда от Него просиял свет сильнее солнечного, прямо изнутри Его Тела, отчего произошло сильное облучение, что и оставило изображение на плащанице. Есть такие места на полотне, где одна и та же тончайшая нить волокна в одном месте имеет одну окраску, а через микроскопический промежуток - уже другую окраску, что свидетельствует о том, что полотно сделано не человеческими руками.
Во-вторых, изображение сделано негативно! Уже с XIV в. о туринской плащанице было широко известно, и даже самые скептически настроенные и не верующие ученые, не желающие признавать того, что плащаница принадлежала Христу, датируют её не позже чем XIV веком, полагая, что тогда она и была кем-то сделана[На самом же деле, в XIV в. она стала общественным достоянием, а до этого сохранялась в частных руках]. Но человечество узнало об эффекте негатива только в XIX веке. Если плащаница была сделана в XIV веке, то кто мог сделать негативное изображение тогда, когда о нем не имели никакого представления?
На одном из интернет сайтов о туринской плащанице мы читаем: "Но получается, что образ на Туринской плащанице - самая древняя "нерукотворная фотография", появившаяся на 19 веков ранее, чем кто либо из людей смог догадаться о возможности получения "рукотворных фотографий"?! (…) Хронологически достоверную историю Туринской плащаницы без всякого перерыва можно проследить начиная с середины XIV столетия. Ввиду того, что изображение на ней обладает всеми свойствами фотографического негатива, эта дата имеет огромное значение! Простое сопоставление говорит нам - мы имеем на ткани эквивалент фотографического негатива, который доказуемо существовал более чем за 450 лет до того, как человечество узнало, что такое фотографический негатив и как им пользоваться. Перед нами осязаемое научное доказательство - изображение не было сделано людьми! Отпечатки на плащанице не являются творением человеческих рук! А такое известие не могло не привлечь к плащанице внимания множества экспертов и специалистов"[Azbyka.ru/tserkov/chudo/turinskaya_plaschanitsa_17-all.shtml].
В-третьих, на плащанице просматривается скелет человека. Можно рассмотреть даже корни зубов. Опять же, если плащаница подделка и изделие рук человеческих, то кто мог так точно изобразить скелет человека, если о рентгене узнали только в 1895г.?
Отмечают еще целый ряд чудес и загадок туринской плащаницы, так что целые группы ученых трудятся над ее изучением. О ней было написано и продолжает писаться много исследований. Возникла даже такая наука - синдонология (от греч. ![]() - синдон, что значит "плащаница") - наука о туринской плащанице. Все исследования убедительно доказывают тот факт (тем более верующему сердцу), что на плащанице изображен Сам Христос, а также - что изображение сделано не человеком, а Самим Господом, Который позаботился о том, чтобы чудесным образом оставить нам Свой образ.
- синдон, что значит "плащаница") - наука о туринской плащанице. Все исследования убедительно доказывают тот факт (тем более верующему сердцу), что на плащанице изображен Сам Христос, а также - что изображение сделано не человеком, а Самим Господом, Который позаботился о том, чтобы чудесным образом оставить нам Свой образ.
Этот факт имеет не малое значение для нашей веры и, в частности, для решения поставленного нами вопроса: знаем ли мы, как в действительности выглядел Христос? Туринская плащаница это, во-первых, доказательство существования Христа и Его воскресения, а также живое свидетельство того, какие ужасные муки понес Сын Божий за род человеческий. Во-вторых, это свидетельство того, как выглядел Христос в действительности. В-третьих, это доказательство тому, что Христос не иконоборец, как мы, протестанты, так как Сам чудесным образом оставил нам Свой образ, Свою икону, и сохранил её до наших дней. Итак, Сам наш Господь является первым чудесным иконописцем.
Но в своем слепом противлении истине протестанты идут еще дальше. Некоторые баптистские пресвитеры, с которыми я говорил о туринской плащанице, не желали, благодарение Богу, отвергать[Более того, я помню, как еще в 90-е годы один проповедник нашей церкви, Николай Царевский, приносил и показывал некоторым из нас фотографию, сделанную с Туринской плащаницы, говоря о том, что так в действительности выглядел Христос. Помню, что лик Христа впечатлил мое детское сердце, и я был удивлен таким поведением дяди Коли, интуитивно понимая, что оно не характерно для баптистов] её и говорить, что она от дьявола (хотя в протестантской среде находятся и такие хулители). Но они приводили другой аргумент. Они утверждали, что даже если на туринской плащанице осталось изображение Самого Христа и нам известно доподлинно, как Христос выглядел, живя на земле, то все равно это не имеет значения и это не повод делать копировать и распространять Его образы, так как после Его вознесения нам уже принципиально не нужно знать, как выглядел Иисус. Для подтверждения своего мнения они приводили слова Апостола Павла: "если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем" (2 Кор. 5:16). П. Рогозин по этому поводу пишет так: "Изображать Христа в Его земном уничижении - неразумно. Мы никогда не увидим уже Христа в Его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию, но воскрес, вознесся и грядёт во славе, чтобы судить живых и мертвых. Слушайте, что говорит об этом апостол Павел: "если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось", стр. 23, 24].
Данный ход мысли - один из примеров того, как не впопад пользуются протестанты Библией, на которую они так смело ссылаются, с уверенностью, что она противоречит Православию, и как их рассуждения логически противоречивы.
Во-первых, если выводить из приведенной цитаты запрет на изображение Христа, тогда нужно будет запретить изображать (и фотографировать) любого человека, потому что в том же стихе выше Ап. Павел пишет, что не только Христа мы не знаем по плоти, но "отныне никого не знаем по плоти"! Смысл этого стиха не в том, что не нужно знать как выглядел Христос и как выглядят христиане во плоти, а в том, что мы знаем Христа не по плоти, как простого человека, еврея, жившего в Израиле в такие-то года, а мы знаем Его как "сущего над всеми Бога" (Рим. 9:5), Спасителя мира и Господа всей вселенной. Также и всех верующих мы не знаем по плоти в том смысле, что во Христе мы уже "новая тварь" (2 Кор. 5:17) и одно тело, где "нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; обо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал. 3:28). Во Христе мы не должны "судить по плоти" (Ин. 8:15) и оценивать, кто в этом мире по плоти богатый и бедный, знатный и простой, имеющий власть и не имеющий, так как во Христе мы все братья. И в Церкви простой человек может быть знатным пастырем и пророком, а знатный в этом мире, по плоти - простым христианином. Потому в Церкви мы знаем наших братьев не по плоти, а по духу. Таков смысл данного библейского стиха, и здесь никаким образом не затрагивается вопрос о возможности или ненужности изображения Христа и христиан.
Во-вторых, одной простой дилетантской фразой, одним пустым и ничем не обоснованным заявлением ("изображать Христа в Его земном уничижении - неразумно") "великий" пророк баптизма П. Рогозин наложил табу на все изображения Христа. А почему изображать Христа в уничижении неразумно? Только потому, что Христос сейчас уже не в уничижении, а во славе? Но это не причина не помнить Христа уничиженного! Именно добровольное уничижение Христа и принесло Ему такую славу; именно через уничижение Христово было спасено человечество. Зачем же тогда мы "проповедуем Христа распятого", то есть постоянно говорим и напоминаем о самой крайней точке Христова уничижения? Зачем мы тогда каждый раз перед хлебопреломлением поём: "Взойдём на Голгофу, мой брат! Посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасенье купил! Падем перед Ним!", призывая тем самым мысленно воззреть на распятого Христа, на Его уничижение. Так получается, что постоянно читать об уничиженном Христе в Евангелии, мысленно представляя Его и размышляя о Нем; проповедовать об уничиженном и распятом Христе; воспевать уничиженного Христа есть дело святое и праведное, а изображать Христа в Его уничижении - нельзя! И по П. Рогозину нельзя именно потому, что не нужно о Христе вспоминать и знать Его в уничижении, так как Он уже во славе. Так зачем тогда читать, петь и проповедовать о Христе уничиженном? Да к тому же, повторю, протестанты сами изображают уничиженного распятого Христа! Рассуди сам, мой уважаемый читатель, можно ли придерживаться таких противоречивых взглядов?
Еще протестанты часто говорят, что пусть Христа видели те, которым выпала доля жить в Его время и рядом с Ним. Раз мы своими глазами не видели Христа во плоти, то не нужно нам видеть Его и на иконе и пользоваться посредством художников и иконописцев, так как это уже совсем не то, что видеть Христа в живую. Но это также превратное мышление, и данную логику мы нигде больше не используем. Такое размышление подобно тому, как если бы мы сказали: раз мы своими ушами не слышали проповедей и учения Христа, то не нужно теперь и Евангелия читать, то есть - пользоваться посредством многих людей: евангелистов, переписчиков[Мы не имеем ни одного документа, написанного рукою Апостола, а располагаем только копиями], переводчиков[Если говорить о синодальном переводе, - используемом русскоязычными протестантами чаще всего, - то он был сделан православными богословами, которые, в нашем понимании, были отступниками и идолопоклонниками], редакторов[Евангелие, как и вся Библия, не была изначала разбито на главы и стихи. Это, равно как и столбики с указанием параллельных мест, а также краткое описание содержания каждой главы, было сделано редакторами] и издателей - ведь это уже совсем не то, что слышать Христа в живую!
Ведь в этом случае мы так не мыслим, и если мы любим Христа, то со всей ревностью будем стараться узнать и понять Его учение, хоть оно и получено нами через многих посредников. Если мы всей душой любим человека, то нам дорого любое напоминание о нем, и любая даже не высококачественная фотография. Таким же образом, если мы любим Христа нам будет дорого узнать о Нем все, нам будет дорог Его образ, несмотря на то, что он и не в совершенстве отображает внешность Христа.
III. О почтительном отношении православных к иконам.
Со всем, сказанным в первых двух пунктах, непредубежденным и способным здраво рассуждать протестантам будет не трудно согласиться. Но так просто мы сдаваться, конечно же, не собираемся, и продолжаем протестовать против Истины.
Следующий протестантский аргумент таков: если мы и делаем изображения Бога, Христа, Апостолов и святых, то мы к ним относимся как к простым картинкам, помогающим лучше усвоить библейскую историю. А православные то сделали из этих картин идолов! Они ведь относятся к ним совсем не так, как мы. Они:
1) целуют иконы;
2) возжигают пред ними свечи и лампады;
3) кадят пред ними;
4) поклоняются им;
5) молятся пред ними;
6) украшают их: обкладывают золотом, помещают их в дорогие киоты на почетное место и прочее.
Мы уверены, что почитанием икон православные заменили поклонение "Богу живому" на поклонение "изделию рук человеческих": вместо Бога стали поклоняться материи - дереву, краскам, бумаге и стеклу; одним словом - идолам. Многие баптисты, с которыми я общался, узнав о моем обращении в Православие, приходили ко мне и усиленно старались меня "вразумить" (некоторые даже со слезами - так им было меня искренне жаль) и убедить не впадать в идолопоклонство и не поклонялся деревяшке и изображению вместо Бога живого. Что на это скажут православные? Давайте внимательно разберемся и с этим вопросом.
В отношении икон на Седьмом Вселенском Соборе Церковь определила: "Храним не нововведенно… иконного живописания изображение, как повествованию Евангельской проповеди согласующееся, и служащее нам к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова, и к подобной пользе… Ибо сколь часто чрез изображение на иконах видимы бывают, столь же часто взирающие на них подвизаемы бывают воспоминать и любить первообразных им, и чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей, Богопоклонением, которое подобает одному Божескому естеству, но почитанием по тому образу, как и изображению Честнаго и Животворящего Креста и Святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей честь воздается, каковой у древних благочестивый обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе - поклоняется существу изображенного на ней[П. Рогозин утверждает, что "участники 7-го Вселенского собора… "приказали" путем специального канона поклоняться иконам, без надлежащего объяснения, почему это необходимо" ("Откуда всё это появилось", глава "Иконопочитание"), но, как мы видим из самого текста постановления, святой Собор дает вполне разумные и обоснованные тому объяснения]…".
Итак, Церковь учит, во-первых, что православные почитают иконы "почитательным поклонением", а не Божественным. То есть, иконы православные чтят не как Самого Бога, (и, естественно, не как идола), а как святыню. О возможности оказывать почтение святыне пространно говорилось в первой главе книги, и здесь я не буду повторяться.
Во-вторых, нужно повторить - и это принципиально важно - что Церковь поклоняется не существу иконы (т.е., дереву и краскам), а образу и личности, изображённой на иконе. И Вселенский Собор от имени Церкви утверждает, что честь, воздаваемая образу, восходит (или иначе - относится) к первообразному (первообразу) - то есть к самой личности, изображенной на иконе. И хотя, казалось бы, эта мысль вовсе не сложна, и в жизни все мы не редко сталкиваемся с подобной логикой мышления (когда почитание или, наоборот, надругательство над материальным образом относится не к веществу, из которого он сделан, а именно к самой личности или первореальности), но протестанты наотрез отказываются ее понимать и признавать. Мы возмущаемся: как это можно, совершенно конкретно поклоняясь иконе, говорить, что мы поклоняемся не иконе (дереву), а изображенной на ней личности? Это же голое вранье и какое-то одурачивание! Поэтому, протестантам намного легче прировнять иконопочитание к идолопоклонству и осудить православных в жутком грехе, чем постараться хоть немного вникнуть в суть отношения православных к иконам и понять их мышление, тем более что мы его и так хорошо понимаем в других сферах жизни. Итак, как можно понять: честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу?
Вот примеры из жизни, которые могут помочь нам уяснить эту ключевую православную формулировку в отношении иконопочитания.
Пример 1. У пастора нашей артемовской общины баптистов (Кобзарь Ивана Михайловича, которому я прихожусь внучатым племянником) - 11 детей. Фотографию каждого из них он сделал отдельно в изящной рамочке и поставил их в шкафу на полке красиво, полукругом, всех по возрасту. Те, кто бывает у него в гостях, всегда обращают на это внимание. Теперь представьте себе, что кто-то вполне серьезно заподозрит, что Иван Михайлович перестал любить своих детей, а вместо них полюбил стекло и бумагу с их изображениями!
Насколько абсурдной была бы такая оценка сего поступка! Ведь нужно думать, что именно любовь к своим детям, желание чаще о них вспоминать и всегда видеть их лица перед собою и побудила отца сделать образы своих детей и поставить их на видное место. Ведь понятно, что вся честь, которую он оказал этим фотографиям (ценные рамочки, почетное место), относится к самим детям, к их личностям. Найдётся ли такой глупец, который скажет, что это все ложь, а на самом деле Иван Михайлович стал идолопоклонником и почитает стекло и бумагу? Но мы не прочь быть такими глупцами, лишь бы поносить Церковь и её истинное учение об иконопочитании.
Пример 2. Многие мужчины носят с собой фотографии своих жен или невест. Теперь представьте себе, что жена, увидев у мужа свою фотографию, станет ругать его за то, что он любит и почитает не ее саму, живую, а бездушный образ, сделанный из бумаги и краски! Невообразимо глупо? Да. Ведь нам ясно, что именно любовь и почтение к самой личности жены побудила мужа сделать ее образ и носить его с собой, чтобы чаще видеть и вспоминать дорогое ему лицо. Жена только обрадуется, а не оскорбиться от того, что ее муж почтительно относится к ее образу, хотя он и бездушный и сделан руками человеческими. Поэтому, весьма глупо выглядят наши упреки в адрес православных в том, что они вместо Бога стали чтить и поклоняться Его бездушному изображению - дереву и краске). Ведь всякое почтение образа исходит из любви к самой изображённой личности.
Пример 3. Представим, что мать недавно потеряла единственного сына. Мы пришли её утешить. Она много плачет и скорбит о сыне, постоянно о нем говорит, показывает на его фотографию, а затем, в порыве чувств, обнимает, гладит и целует фото своего сына, обливая его слезами. Скажите, найдется хоть один человек, даже среди нас, протестантов, который скажет, что эта мать совершила акт идолопоклонства, и что вместо сына она теперь любит, нежит и целует бумагу, изделие рук человеческих? Или даже мы поймём, что здесь вся любовь матери принадлежит не кусочку бумаги, а самой личности её сына?
Пример 4. Люди возлагают цветы у памятников, допустим Фёдора Достоевского. Фактически, видимо, они чествуют холодную мёртвую глыбу, кусок камня. Но разве и в этом случае даже протестант со своим искажённым мышлением не поймет смысл принципа "честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу"? Разве не понятно, что возлагающий цветы желает оказать почтение личности и памяти великого писателя, а не камню?
Пример 5. Семьдесят лет коммунисты истово чествовали своих вождей и героев революции. Они устанавливали им памятники на видных местах, например, в центре города, пролагая к ним аллеи и в праздничные дни собираясь возле них на митинги, возлагая к ним цветы. Портреты Ленина, Маркса и Энгельса вешали в кабинетах на самом почетном и видном месте. И всем понятно, что все почтение, оказываемое коммунистами памятникам и портретам, прежде всего Ленина, относится к самой его личности - к его жизни, делу и учению, а не к камню, бумаге и краске.
Но вот коммунисты и были идолопоклонниками, ибо вместо иконы Христа поклонялись иконе антихриста, и вместо почитания образов Христовых святых почитали образы богоборцев, человеконенавистников и сатанистов-атеитов. Но коммунисты хорошо осознавали значение и духовную реальность принципа "честь, оказываемая образу, восходит к первообразу", а потому, будучи богопротивным обществом, и ввели у себя бесовское "иконопочитание". Для нас же, протестантов, что почитание образа антихриста коммунистами, что почитание образа Христа Церковью, одно и то же - идолопоклонство.
Когда же Советский Союз развалился, то многие памятники Ленину были низвергнуты и разбиты. Опять же вопрос: когда их низвергали с пьедесталов, то к чему народ желал выразить свое отношение? К куску камня или к личности красного вождя и его учению? И не ясно ли вновь, что такое бесчестие и поругание образа восходит к самому первообразу?
Пример 6. Когда революция в России победила, и многие люди отступили от Бога и Православия, то они выносили из храмов и домов иконы, собирая их в кучи, и сжигали. Вопрос: они сжигали просто дерево, бумагу и краски, или сжигали свою веру и разрывали всякую связь с Богом и Его святыми, демонстрируя свой атеизм? Ответ очевиден: такое бесчестие этих образов было направлено к первообразам, а не к материи как таковой.
Пример 7. В одном музее Германии была выставлена восковая фигура Гитлера, но посетители музея постоянно с ненавистью разбивали ее. Опять тот же вопрос: этим людям так ненавистен был кусок воска, или они все же выражали свое отношение к самой личности Гитлера? Бесспорно, что отношением к образу они хотели выразить свое отношение именно к первообразу.
Пример 8. Банальная ситуация из современной жизни: от девушки ушёл её парень к другой, и она со словами "ненавижу" рвет его фотографию на куски. В этом случае она являет свое отношение к бумаге, или к личности на ней изображенной? И здесь ответ очевиден.
Пример 9. Известно, что многие люди, в частности граждане США, очень почтительно относятся к флагу своего государства. Всем понятно, что таковым почтением они выражают свою любовь к своей стране. Если же какой-то американец, например, сожжет флаг, то его за это арестуют и будут судить. И представьте, что он на суде станет утверждать, что он очень любит Америку, а сжег простой кусок материи, никак не связывая этот поступок с отношением к самой Америке. Поверит ли ему суд? Нет, конечно.
Когда закончилась война с Германией, то, как известно, повсюду торжественно сжигали фашистские знамёна. Всем, даже нам, баптистам, понятно, что сжигая знамёна врагов победители, на самом деле, выражали ненависть не к ткани, из которого он был сделан, а к самой идее фашизма, чего видимым образом и символом был флаг с начертанной на нём свастикой.
Всё это говорит о том, что все нормальные люди прекрасно понимают, что есть прямая связь между флагом государства и самим государством; или, иначе, между образом и первообразом, между символом реальности и самой первореальностью.
Пример 10. Это история, которую я еще в детстве слышал с кафедры из уст баптистского проповедника. Во время войны фашисты захватили церковь[По всей видимости, православную, хотя рассказчик этого не уточнял], в которой молились верующие. И вот солдаты положили в дверях образ Христа и повелели всем, кто желает остаться в живых, выходя из храма плевать и наступать на этот образ. Все люди, боясь смерти, так и поступили, но только одна девочка отказалась это сделать, за что была расстреляна фашистами. Лично я не уверен в том, что такой случай мог иметь место в истории, ведь для фашистов такое поведение не было типичным. Но не это важно, а то, что подобный случай мог произойти, а также то, что баптистский проповедник преподносил поступок девочки как подвиг и мученичество за Христа, и что большинство из нас, даже самых яростных протестантов, оценили бы подобную смерть подобным образом. Не знаю, найдется ли вообще такой протестант, который скажет, что эта девочка напрасно умерла за свою преданность идолопоклонству, и что люди, выполнившие приказ фашистов, ничем не согрешили против Бога, наплевав и поправ ногами образ Христа? Неужели мы скажем, что они просто плюнули на кусок дерева и краски, и что их отношение к иконе никак не связано с их предательством Христа и веры? Мы не одобрим и осудим того, кто разорвет или наплюет на образ Христа, хотя на словах мы называем иконы идолами. Это говорит о том, что протестанты не могут развратиться настолько, чтобы быть в своём иконоборчестве до конца последовательными, и что в душе мы, хоть и слабо, но осознаём и признаём связь между образом, и первообразом.
Пример 11. История о Евгении Радионове, одном из мучеников нашего времени, которого уже многие в Православной Церкви почитают как святого. Во время войны России с Чечней он, будучи солдатом российской армии, попал в плен к чеченцам, которые стали пытками вынуждать его снять с себя нательный крест, но он отказался и, в конце концов, был ими убит. Так вот, такой отказ снять с себя крестик не приравнивается ли в глазах Божиих (да и в глазах всех разумных людей, в том числе и самих чеченцев) как отказ отречься от Христа и своей веры? Или иначе: не переходит ли такое почитание материального образа распятого Христа к Самому первообразу?
Я думаю, что этих примеров более, чем достаточно для всякого здравомыслящего и не настроенного предубеждённо человека, чтобы уяснить и признать вполне правомерным и обоснованным православный принцип иконопочитания: всякое почтение, оказываемое образу, восходит к первообразу. И если мы понимаем и признаём, что любое почтительное отношение к фотографии любимого человека не есть измена любимому, а наоборот - свидетельство любви к нему, то мы должны признать и то, что почитая икону Христа православные не изменяют Ему с куском бумаги или дерева, а наоборот - только укрепляют свою любовь к Нему. И как можно согласиться с Т. Ватсоном, который говорит: "Поклонение невидимому Богу через изображение Бог воспринимает, как поклонение самому изображению"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 102]?
По всем вышеприведенным примерам мы убедились, что здравое мышление не двусмысленно свидетельствует, что отношение к образу всегда связано с первообразом (с изображённой личностью), и всегда переходит на него и относится к нему, а не к материи, на которой изображён первообраз. Потому, протестанты в корне неправы, когда говорят, что почтение образа Христа есть почтение самого дерева, а не личности Христа, ибо на самом деле, поклонение Богу через истинное изображение Бог воспринимает именно как поклонение Ему Самому, а не как поклонение материалу, из которого сделано изображение.
Но, несмотря на всю очевидность приведенных доводов, Т. Ватсон, всё же, не может отличить материал, из которого сделана икона, от изображённой на ней личности, и понять, что между образом и первообразом есть ясная, всем людям понятная связь. Для него образ Христа это решительно другой бог. Ниже он продолжает: "Слова католиков о том, что они используют изображения, чтобы помнить о Боге, то же самое, что и для женщины сказать, что она водится с другим мужчиной, чтобы помнить о своём муже"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 103]. То есть, если женщина повесит в доме или станет носить с собой изображение своего мужа, то по протестантской логике, которую выражает Т. Ватсон, это значит, что она стала водиться "с другим мужчиной", а не делает это по любви к своему мужу. И если считать изображение своего мужа другим мужчиной есть дикая глупость, то такая же глупость считать изображение Христа другим богом и идолом! И нам не стыдно держаться таких глупейших положений (что образ Христа есть другой бог); нам не страшно богохульствовать и святотатствовать, лишь бы угодит нечистому духу протестантизма, требующему всячески поносить и ругать мудрое учение Церкви.
Подобным образом не может связать Бога с иконой и В. Трубчик. Он пишет: "…если человек будет поклоняться не Богу, а статуям или изображениям (в том числе и христианским, что следует из контекста) т.е. тому, что сделано руками людей, он и его дети будут наказаны Богом"[В. Трубчик, "Вера и традиция", Глава 7, раздел Г]. То есть, для него, как и для Т. Ватсона, Христос это одно, а Его образ - это совершенно другое, иной, чуждый и враждебный Христу бог, и поклоняться можно либо Христу, либо иконе Христа, но никак не Христу посредством Его иконы. Примитивность протестантизма, при внимательном анализе, удивительна!
Если протестанту, несмотря на все вышеприведенные примеры и рассуждения, всё ещё трудно понять, какая связь может быть между Богом и иконой (материальным предметом), то можно сравнить иконопочитание с нашим, протестантским, почитанием Библии. Ведь мы же чтим не бумагу и не типографскую краску, а само содержание этой Божественной Книги. И если бы кто-то потребовал от баптиста растоптать, наплевать и разорвать Библию, а он бы отказался и был бы за это убит, то мы бы оценили его отказ как подвиг и мученичество за Христа. Но представьте себе, если бы кто-то сказал, что этот человек был фанатик и умер ради какой-то бумаги и типографской краски - изделия рук человеческих! Какая нелепая была бы оценка! Вот так же нелепо обвинять православных в том, что, чтя икону Христа, они чтут не Бога живого, а изделие рук человеческих - сами по себе дерево и краску.
Итак, ещё раз повторим, что любого рода почтение образа (целование, поклонение, украшение и т.д.) восходит к первообразу. Когда ветхозаветный человек чествовал святые образы херувимов, ковчег завета, храм и другие святыни (будь то каждением, поклонением, украшением), то всё это чествование относилось не к изделию рук человеческих и идолам, а к Самому Богу. И подозревать православных в том, что они вместо Бога живого чествуют дерево и краску так же нелепо, как полагать, что царь Давид, поклоняясь храму (см. Пс. 5:8), поклонялся камням и идолу, а не Богу, или что наш пастор, вместо своих живых детей, любит бумагу и стекло, а протестанты, чтя Библию, свято чтут саму бумагу - изделие рук человеческих. Или протестанты действительно думают, что православные не понимают, что Христос не бумажный и не деревянный?
Если же мы имеем право сделать образы наших детей, оформить их в красивую рамочку и поставить на особое почетное место, то тем более Церковь имеет право иметь у себя образы Христа и святых, украсить их, поместить на видное место и оказывать им должное почтение. К тому же, по Писанию, духовное родство должно быть для нас ближе земного.
Возражая против утверждения Церкви о том, что иконопочитание не есть идолопоклонство (так как православные поклоняются не самой иконе, а изображённой на ней личности, восходя мыслью "от образа к первообразу"), протестанты говорят, что язычники также поклонялись не самой статуе, а своим богам посредством этих статуй, как и православные поклоняются Богу посредством икон. Этот аргумент выдвигает, например, Т. Ватсон: "Язычники могут привести тот же аргумент в оправдание своего буйного идолопоклонства, что и католики - для оправдания поклонения изображениям. Какой язычник настолько глуп, чтобы думать, что золото или серебро, фигура вола или слона являются Богом? Это эмблемы и иероглифы, лишь представляющие Его. Они поклоняются истинному Богу посредством видимых вещей"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, стр. 102].
Подобный же аргумент приводит и В. Трубчик: "Когда евреи остались в пустыне без своего лидера, который взошел на гору для беседы с Богом на сорок дней и сорок ночей, они понудили Аарона сделать бога, который "шел" бы перед ними. Как видим из контекста, они сделали себе образ не какого-то другоstrongго бога, но того, который вывел их из земли египетской. Слова народа нам указывают на это: "Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!" (Исх. 32:4). Телец был только лишь образом живого Бога. Телец - символ силы в древности, поэтому он был выбран в качестве изображения Бога. И люди поклонялись не тельцу, а Господу Богу через тельца. Этот образ просто помогал им сосредоточиться на Боге и вспомнить о Его могуществе. Никто не может допустить себе мысли, что евреи, сделавшие сами этого тельца, верили, что именно золотой телец их спас от плена египетского. Они просто сделали образ истинного Бога"["Вера и традиция", глава 7, раздел Г].
Итак, данный аргумент протестантов кратко можно сформулировать так: "православные говорят, что иконопочитание не является идолопоклонством, так как язычники поклонялись самим статуям, а мы посредством икон поклоняемся Самому Богу, от образа восходя к первообразу. Но язычники тоже почитали не сами статуи, а своих богов посредством них, и таким же образом восходили от образа к первообразу. Потому, иконопочитание ничем не отличается от идолопоклонства".
Для начала ради объективности заметим, что сознание язычников не было единым, и многие были настолько тёмные, что действительно поклонялись самому по себе идолу, без связи с каким-то божествомa href=. Подтверждением тому служит нам Св. Писание, где Бог укоряет язычников именно за поклонение самой статуе: "Не знают и не разумеют они… нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "Половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?"" (Ис. 44:18-19). Также и в книге Даниила 14 главе описывается, как Даниил уничтожил статую Вила. Царь и его люди думали, что сама статуя Вила в храме и есть бог, которая по ночам приходит в движение и съедает приготовленную для него пищу. Но Даниил опроверг это, и выявил ложь жрецов. То есть, это говорит о том, что некоторые язычники считали богом саму статую.
Но были, конечно же, и более развитые язычники, которые не думали, что сама статуя является богом, а полагали, что бог, которому они поклоняются, живёт на небе (или на горе Олимпе, например), а статуи в храмах лишь изображают этого бога, и, молясь пред не живой статуей, они молились через неё живому богу. В этом по форме действительно есть некоторое сходство с православным пониманием иконопочитания. Но принципиальная разница между первым и вторым заключается именно в том, что язычники молились ложным богам, бесам, а православные молятся истинному Богу! Не в том был грех язычников, что они молились богу посредством статуй, а в том, что они молились ложным богам, и представляли бога искажённо - и внешне, и нравственно!
Чтобы отчётливее осознать то, каким богам поклонялись язычники, приведу одну выдержку из св. Феофила Антиохийского, древнехристианского апологета, который в письме к Автолику доказывал превосходство Бога христианского над языческими богами. Вот что он писал о них:
"Далее, имена богов, которым, как говоришь, ты поклоняешься, суть имена умерших людей. И кто же и каковы они были? Кронос не оказывается ли ядущим и истребляющим своих собственных детей? Укажешь ли на Зевса, его сына, - рассмотри внимательно его действия и образ жизни. Прежде всего, он был воспитан на горе Иде козою, и, как говорят мифы, убил ее и сняв с нее кожу, сделал себе одежду. О прочих его действиях, кровосмешениях, прелюбодеяниях и срамных делах, гораздо лучше рассказывают Гомер и другие поэты.
Нужно ли мне указывать на его сыновей, - на Геракла, самого себя сжегшего, на Диониса пьяного и неистового, на Аполлона, от страха бегавшего от Ахиллеса, влюбленного в Дафну и неведавшего о смерти Гиацинта, - на Венеру раненную, на Арея, губителя людей, и еще более - на кровь, текущую из этих называемых богов? Но это еще маловажно в сравнении с тем, как вспомним о растерзанном боге, называемом Озирис, по котором каждый год совершаются празднества, как по погибающем и опять находимом, отыскиваемом по частям, ибо неизвестно, умер ли он, и не видно, отыскан ли. Нужно ли говорить мне об Аттисе, оскопленном, или об Адонисе, блуждающем в лесу, занимающимся охотою и раненным вепрем, или об Асклепии, пораженном молнией, или о Сераписе, бежавшем из Синопы в Александрию, или об Артемиде Скифской, также бывшей в бегстве, человекоубийце, охотнице и влюбленной в Эндимиона? Это не мои слова, но об этом рассказывают ваши же историки и поэты.
К чему мне перечислять множество животных, чтимых египтянами, - гадов, скотов, зверей, птиц, животных речных, даже тазы и постыдные звуки? Если укажешь на эллинов и на другие народы, то они чтут камни, деревья и другие материальные вещи, изображения как я уже сказал, умерших людей. Известно, что Фидий сделал в Пизе для илийцев Зевса олимпийского, а для афинян - Афину в Акрополе. Спрошу и я тебя, друг мой, сколько насчитывается Зевсов. Во-первых, есть Зевс олимпийский, потом Зевс Латиар, Зевс касский, Зевс Керавний, Зевс пропатор, Зевс Паннихий, Зевс Полиух и Зевс капитолийский. Зевс, сын Кроноса, бывший царем критян, имеет гробницу в Крите; а прочие, быть может, не удостоились погребения. Если упомянешь о матери так называемых богов, то уста мои да не изрекут ее деяний (ибо нам непристойно и называть таковые) или деяний ее служителей, поклоняющихся ей, и сколько дохода и податей царю доставляют и она и ее сыны. Ибо они не боги, но идолы, как я прежде сказал, "дела рук человеческих и нечистые демоны. Подобны им будут те, которые делают их и надеются на них" (Пс. 113:12)"[Феофил антиохийский, 1-я книга к Автолику, главы 9, 10].
Таким образом, эти вымышленные боги весьма искажали истинное понятие о Боге, и поклоняться таким богам с такими атрибутами, происхождением и биографией было идолопоклонством и поклонением бесам, которые за ними стояли. И суть греха идолопоклонства заключается именно в поклонении как Богу тому, что не является Богом. Иначе, грех не в том, что язычники сделали статуи своих богов, но в том, что они исказили само понимание Бога, введя, во первых, многобожие, и, во-вторых, наделив их различными низкими страстями, сделав своих богов убийцами, самоубийцами, прелюбодеями, кровосмесителями, неистовыми, пьяницами и пр. Поэтому, поклонение таким богам - с помощью статуи, или без неё - есть грех.
Протестанты хотят сказать, что язычники, как и православные, в поклонении своим статуям понимали принцип "честь, воздаваемая образу, относится к первообразу", но их поклонение всё равно было грехом. Но в том всё и дело, и в том грех, что они чествовали ложных богов! Да, честь от образа и у язычников часто относилась к первообразу, но сам их первообраз, сами боги язычников были ложными, и не Бог истинный, а бесы, стоящими за идеей богов, принимали себе божескую честь от язычников! Потому, чествовать Зевса или Вила хоть с использованием их статуй, хоть без использования, есть грех. Не потому грешили коммунисты, что чествовали Ленина посредством его образов и статуй, и не потому, что чтили они бездушную материю, бумагу, металл или камень, а потому, что чтили они атеиста и богоборца. Да, у коммунистов тоже честь, воздаваемая образу, относилась к первообразу, но их грех заключается именно в том, что сам первообраз, личность, которую они чествуют посредством материальных образов, есть враг Христа!
Что же касается евреев сделавших золотого тельца, то В. Трубчик не прав, говоря, что евреи посредством тельца поклонялись Богу Иегове. Ситуация была такова, что Моисея не было 40 дней(!), и израильтяне подумали, что он уже не вернётся, что Бог Моисея и сам Моисей их оставили. Потому они решили почтить и заручиться поддержкой другого бога, и избрали египетского Аписа, которого египтяне представляли в виде тельца. Таким образом, они вылили себе тельца и объявили, что вот бог, который вывел нас из Египта! Евреи предали истинного Бога, и потому Он так и разгневался, что хотел истребить весь народ.
Таким образом, языческое поклонение статуям и изваяниям не потому плохо, что при поклонении невидимому Богу используется видимый образ, а потому, что как сами боги язычников, ложны и нечестивы; первообраз языческих статуй - бесы.
Важно ещё заметить, что мы, на основании внешнего сходства иконопочитания с идолопоклонством, решительно отождествляем одно с другим, считая такое отождествление совершенно логичным, уместным и очевидным. На самом же деле, очень часто внешнее сходство ничего не значит.
Священник Вячеслав Рубский говорит об этом так: "Вообще, при всякого рода обвинении мало провести наглядную параллель. Если обвинитель не желает быть голословным, он должен иметь свидетельства обеих сторон о характере их действий. (…) Богопочитание ветхозаветного Израиля внешне также имело массу самых очевидных параллелей с языческими культами. Однако, о единстве мысли нельзя судить, не изучив внутреннее восприятие происходящего. (…) Строго говоря, не существует языческих обрядов самих по себе! Всё определяет то, с каким образом мыслей сопрягаются те или иные формы, каким содержанием они наполняются. Важно осмысление: языческое или христианское. Например: иудей совершает омовение, индус входит в священные воды Ганга, христианин погружается в крещальную купель. Скажите, индус ли совершает христианский обряд или христианин иудейский? А может иудей - индусский[Мысль эта проста и не нова. И весьма удивительно, что в подобном внешнем сходстве запутался даже такой известный современный баптистский богослов как Чарльз Райри. Он считает, что "обряд крещения существовал ещё в дохристианскую эпоху в античных мистериальных культах и в иудаизме". Чарльз Райри. Основы богословия. М. 1997 г. стр. 502. (Прим. В.Р.)]? Кришнаит вкушает прасад, иудей - мацу, христианин - причастие. Внешне все одно творят, существо же творимого ими не в тех или иных действиях, а в том образе мысли, который с ним сопряжён. И если обвинять заочно, не обременяя себя знакомством с мыслью оппонента, можно прийти к слишком поспешным выводам"[Свящ. Рубский Вячеслав, "Православие - протестантизм. Штрихи полемики", глава "Почитание мощей угодников Божиих"].
Мысль о. Вячеслава вполне справедливая. И если мы понимаем, что при внешнем сходстве наши крещение и хлебопреломление не есть языческие обряды, так как наполнены другим значением, то должны понимать или, по-крайней мере, допускать и то, что православное иконопочитание имеет иное значение, чем языческое идолопоклонство.
Вообще, сейчас мне, как православному христианину и иконопочитателю, очень хочется спросить моих бывших единомышленников баптистов: в чём Вы меня обвиняете и подозреваете? Неужели Вы действительно думаете, что приняв учение Церкви об иконах, я стал идолопоклонником? Что теперь я надеюсь не на Бога живого, а на дерево, на изделие рук человеческих? Что теперь я молюсь не Богу, а идолу и бесам? Что теперь у меня Бог не в сердце, а на картинке? Если Вы так думаете, то как минимум ваше восприятие неадекватно, а как минимум - Вы, считая и называя меня и других православных идолопоклонниками, враждуете со Христом, как все иконоборцы, и хулите святое учение Церкви, которому она научилась от Духа Святого. Если же Вы понимаете, что посредством икон я и другие православные чтим Самого Христа; если понимаете, что таковое почитание икон и святынь соответствует библейскому отношению к святыням, то почему вы продолжаете хулить с любовью и благоговением почитающих святые образы Христа?
Теперь приведём библейский пример от противного, имеющий, при осознании его значения, важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания.
Из Апокалипсиса мы знаем, что когда придет антихрист, то он будет заставлять всех людей поклонятся не просто себе, а и своему образу, своей "иконе": "И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу (по греч. букв. иконе) его…, тот будет пить вино ярости Божией… и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его" (Откр. 14:9,11; см. также 16:2; 20:4). Из этих слов ясно, что поклонение образу антихриста восходит к самой его личности, и поклоняющиеся его образу поклоняются самому антихристу! Почему это так? Почему антихрист устроит поклонение не просто себе, но и своему образу? Да потому, что он всегда, как и отец его дьявол, действует против Христа и в подражание Христу, то есть он Его копирует, Ему подражает, Его подменяет[Само слово "антихрист" (греч. ![]() - антихристос) состоит из двух слов - "анти" и "христос". Приставка "анти" имеет два главных значения: 1) вместо и 2) против. Таким образом, антихрист это тот, кто ставит себя на место Христа (во всем Ему подражая), но в тоже время он крайний Его противник]!
- антихристос) состоит из двух слов - "анти" и "христос". Приставка "анти" имеет два главных значения: 1) вместо и 2) против. Таким образом, антихрист это тот, кто ставит себя на место Христа (во всем Ему подражая), но в тоже время он крайний Его противник]!
Итак, поведение антихриста нам указывает на то, что у Христа, Которому он противостоит и Которого копирует, во-первых, есть образы; во-вторых, есть поклоняющиеся Его образу и, в-третьих, такое поклонение есть поклонение Самому Христу. И всему этому антихрист подражает. Вместо Сына Божия Христа сатана явит миру своего сына антихриста, а вместо иконы Христа заставит поклоняться иконе антихриста. И все поклонники антихриста, которые составят его антицерковь, будут поклоняться не просто ему лично, но и его образу, что будет приравниваться к поклонению самому антихристу. Отсюда ясно, что истинная Церковь, которой противопоставляются антихристовы поклонники, поклоняется истинному Христу и образу Его: и именно такое поклонение копирует антихрист.
Можно вспомнить не только о грядущем, самом главном антихристе, но и об антихристах с маленькой буквы, которых в наши времена появилось как никогда много, например осатанелые рок музыканты, развратные киногерои и т.п. Многие из этих людей имеют своих почитателей и фанатов, которые также называют себя поклонниками. И всякий поклонник какой-либо рок группы как правило старается приобретать различные её изображения и фотографии и увешивать ими свою комнату. Т.е., если он действительно почитает своих кумиров, то он обязательно будет почитать не только их самих, но и их образы. Все эти кумиры, как малые антихристы, и их поклонники подменяют собою Христа и Его истинных поклонников, а почитание их образов есть подмена истинного иконопочитания. Всё это - дьявольская подмена и борьба со Христом и с истинным иконопочитанием! "Имеющий ухо да слышит" (Откр. 3:13) и понимает, "а кто не разумеет, пусть не разумеет" (1 Кор. 14:38).
Ещё раз повторю, что посредством икон православные поклоняются Самому Богу, а не куску дерева. И очередным тому подтверждением служит то обстоятельство, что когда икона приходит в негодность (стирается, ломается или рвется) - её позволяется просто сжечь, и это происходит только потому, что такая икона уже не отвечает своему назначению. Этот факт еще раз говорит о том, что православные почитают образ только в связи с первообразом; самому же по себе дереву не воздается почтения, и его почитают только в связи с изображённой на ней личностью, как материальную святыню.
Сейчас, когда после моего возвращения в Православие прошло уже 10 лет, и я понимаю и вижу действительное отношение православных к иконам, то невольно возникает вопрос: а кто так враждебно настроил протестантов против почитания святых образов Христа, Ангелов, Девы Марии, Апостолов, Пророков, мучеников за Веру и других святых? Дух Святой не может произвести такой ненависти. Разуму, как было показано на многих примерах, тоже вполне не свойственно противиться почитанию образов тех, кого мы любим и кто нам дорог. Так кто же тогда?... Да, именно этот враждебный дух, "обольщающий всю вселенную" (Откр. 12:9), чью волю протестанты, хотя и неосознанно, исполняют, отвергая, вместе с нечестивыми, и святые образы, не делая между ними никакого различия.
Ещё одна мысль к иконопочитанию. Нужно понять, что когда мы слышим, читаем, думаем о Христе, когда мы Ему молимся, то в нашей душе есть некоторый образ. Мы не можем думать о Христе, равно как и о другом человеке, никак Его не представляя. Протестантский толкователь Библии У. Баркли говорит: "когда кто-то рассказывает нам об Иисусе, и Его образ встаёт перед нами, что заставляет нас заключить, что это образ именно Сына Божьего, а не кого-нибудь другого?... Дух Святой в нас заставляет нас реагировать на представленный нам образ Иисуса Христа"[Толкование на Ин. 15:26,27]. И этому образу, который есть в нашей душе, мы и молимся[Хотя св. отцы советуют не стараться усиленно представлять образ Христа в молитве, дабы не тратились на это силы души]. Так почему же Церковь не может этот образ изобразить на полотне, чтобы каждый представлял себе Христа не на свой лад, а одинаково со всеми верующими; и чтобы этот образ ярче и точнее был запечатлен в душе?
Итак, если изображается лжебожество, идол, нечистый образ слуги дьявола, то почтение, оказываемое такому образу, относится к первообразу и является идолопоклонством. Если же изображается Христос (и Его святые), то всякое почтение такого образа также относится к своему первообразу и является делом вполне Богоугодным.
IV. Когда появились иконы?
Иконы были в Церкви с I-го века, с самого начала. В катакомбах, где стали собираться ранние христиане ещё в апостольский век, с нероновских времен (60-е годы I в.), находят немало икон - образов Христа, Марии, Ап. Петра и др. На страницах настоящей главы можно видеть некоторые из икон, найденных в катакомбах (см. Рис. 8-11). С.В. Санников на страницах своей книги "Двадцать веков христианства" также разместил немало древнехристианских изображений[См, например, том I, стр. 58,71, 106, 113, 115, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 135, 137, 144, 149 и др.].
 |
 |
| Рис. 8. Апостол Пётр | Рис. 9. Иисус Христос |
 |
 |
| Рис. 10. Дева Мария с Младенцем | Рис. 11 Матерь Божия и Двенадцать Апостолов |
Кроме того, древние отцы и учителя Церкви подтверждают, что в христианских храмах их времени и в более ранние времена были иконы, и объясняют их назначение.
Св. Климент Александрийский (ок. 150 - ок. 220 гг.) говорит о христианине, что: "...останавливая взор на изящных изображениях, он мысли устремляет на многих прежде его достигших совершенства Патриархов, премногих Пророков, бесчисленных Ангелов и на самого Господа - всех, научающих нас, что и мы можем иметь жизнь, сообразную с сими высокими образцам"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 576].
Тертуллиан (II-III в.) упоминает об изображениях Христа в виде доброго пастыря на церковных потирах[Православная Церковь до сего дня на потирах изображает Христа] (чашах для причащения)["Православно-догматическое богословие", том II, с. 576].
Минуций Феликс, Тертуллиан и Ориген (II-III вв.) оставили свидетельства о том, что язычники укоряли христиан в том, что они якобы боготворили кресты["Православно-догматическое богословие", том II, с. 576]. Это говорит о том, что древние христиане почитали изображения распятого Христа[Подробнее о почитании креста древними христианами можно прочесть в предыдущей главе].
Св. Мефодий Патарский (III-IV в.) пишет: "Иконы ангелов Его (Бога) начал и властей, устрояемые из золота, мы делаем в честь и славу Его"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 576].
Древний историк Церкви Евсевий Кесарийский (III-IV вв.) рассказывает, что он видел начертанные красками иконы Христа и Апп. Петра и Павла, сохранившиеся от древних христиан["Православно-догматическое богословие", том II, с. 576].
Св. Василий Великий (IV в.) писал: "Приемлю и св. Апостолов, Пророков и Мучеников, и призываю их к ходатайству пред Богом, да через них, то есть по их предстательству, милостив будет мне человеколюбец Бог и да подаст мне оставление прегрешений. Почему чту и начертания их икон и поклоняюсь пред ними, особенно же потому, что они преданы от св. Апостолов и не запрещены, но изображаются во всех наших церквах"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 575]. Обратим особое внимание на то, что св. Василий не говорит о том, что иконы были изобретены христианами в его время, но были переданы от самих Апостолов.
Если же говорить о Церкви IV-го века, то дарованная Константином в 313 г. свобода послужила быстрому развитию христианской иконописи. Анализируя положение дел в этой сфере церковной жизни в IV-м веке, митр. Макарий пишет:
"Иконы употреблялись тогда во храмах. Так кроме Василия великого, ясно сказавшего, что в IV-ом веке они изображались во всех церквах, св. Григорий Богослов упоминает, в частности, об изображениях на сводах храма, построенного его родителем в Назианзе; св. Григорий нисский повествует, что храм св. мученика Феодора весь был украшен изображениями его страданий вместе с изображением Спасителя; Астерий, епископ амасийский, описывает икону св. мученицы Евфимии, представляющую также ея страдания и находившуюся в одном из халкидонских храмов, построенных во имя ея. (…) Иконы употреблялись тогда и вне храмов, - в домах и других местах. Евсевий повествует о живописном изображении, находившемся на месте явления Бога Аврааму у дуба маврийского вместе с двумя ангелами, и представлявшем это событие… Св. Григорий Богослов упоминает об иконе св. Полемона в жилище некоего юноши; св. Григорий нисский - об иконе, представляющей жертвоприношение Исаака; св. Амвросий - об иконах св. апостола Павла; св. Иоанн Златоуст - об изображениях св. креста и на домах, и на стенах, и на дверях, также в пустынях, на торжищах, при путях, на горах и других местах"["Православно-догматическое богословие", том II, сс. 578, 579. Здесь же митр. Макарий даёт и все соответствующие ссылки на источники].
Следует, впрочем, заметить, что в первые три века по совершенно понятной причине - страшных гонений - иконопись в Церкви не была так развита, как в последующие века свободы.
Митрополит Макарий по этому поводу замечает: "в три первые века христианства, по тяжким обстоятельствам Церкви, употребление в ней св. икон не было в ней ни так открыто, ни так повсеместно, как с последующего времени. Посреди непрерывных гонений от язычников, когда христиане принуждены были скрывать и часто переменять места своего богослужения, и когда постоянно должны были опасаться, как бы предметы их благоговейного чествования - св. иконы не подверглись поруганию от гонителей, - и нужда, и благоразумие, и самое почтение к иконам требовали употреблять их не всюду и скрывать их, или даже в некоторых местах не употреблять вовсе"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 577, 578].
Но тот факт, что иконы Христа и различных святых, и их (икон) благочестивое почитание верующими было в Церкви от начала, - причём по преданию апостольскому, - невозможно отрицать, разве что человеку, не боящемуся "подавлять истину неправдою" (Рим. 1:18).
V. Каково назначение икон в Церкви?
1) Икона нужна для проповеди. О таком назначении икон засвидетельствовал Седьмой Вселенский Собор, постановление которого мы цитировали выше, заявляя, что иконы согласуются "повествованию Евангельской проповеди". В Церкви есть много икон на различные библейские сюжеты, такие, как благовещение Марии, рождество Христово, хождение Христа по водам, тайная вечеря, молитва в гефсиманском саду, распятие, погребение, воскресение и вознесение Христа, схождение Его в ад, сошествие Святого Духа на Пятидесятницу и т.д. Иконы, таким образом, являются бессловесной проповедью Евангелия. Сила же такой проповеди состоит в том, что она часто глубже входит в сердце и лучше запоминается, чем проповедь словесная, так как большинство людей образы запоминает намного лучше, чем слова. Известно, что глазные нервы у человека в 25 раз толще, чем ушные, а значит, мы запоминаем то, что увидели, гораздо лучше, чем то, что услышали, а особенно дети. В народе есть по этому поводу совершенно справедливая пословица: "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
На практике иконы не редко производят сильное впечатление на верующих. Св. Мария Египетская, в прошлом блудница, от одного взгляда на икону Богоматери, сияющую чистотой и непорочностью, решила полностью переменить свой образ жизни, а наш Киевский князь Владимир окончательно решил принять христианство именно после того, как греческие миссионеры показали ему икону страшного суда. Протестанты и сами через детские Библии, фильмы, мультфильмы и прочие формы используют библейские изображения для проповеди, осознавая эффективность проповеди посредством изображений. Хотя часто, из-за своего непоследовательного иконоборчества, они избегают помещать в своих домах молитвы даже евангельские изображения, а вешают плакаты с библейскими цитатами, не понимая, что даже с евангелизационной точки зрения целесообразнее повесить большую икону воскресения Христова, чем написать на стене: "Христос воскрес из мертвых"; лучше повесить икону распятия, чем написать на стене: "мы проповедуем Христа распятого".
2) Иконы нужны для возбуждения в человеке религиозного чувства и напоминания ему о Боге. Седьмой Вселенский Собор указал и на эту цель икон, говоря, что "сколь часто чрез изображение на иконах видимы бывают, столь же часто взирающие на них подвизаемы бывают воспоминать и любить первообразных им". В православном храме (как и в храме Иерусалимском, ветхозаветном) куда ни глянь, все напоминает о Боге и Его Царстве. Как легко молиться, сосредоточиться на Боге и помышлять "о горнем" (ср. Кол. 3:1, 2) в храме православном, и как трудно это делать в наших пустых домах молитвы.
3) Иконы нужны для исполнения заповеди: "Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13:7). Церковь, таким образом, помнит о своих наставниках, пастырях, учителях, мучениках, исповедниках Веры и подвижниках благочестия, которые просияли в Ней на протяжении истории. Мы тоже делаем это иногда, раз в лет десять...
Я помню, как наша артемовская баптистская община отмечала свой юбилей - 80 лет со дня её основания. По этому поводу было праздничное собрание, и в доме молитвы установили большой стенд, где были фотографии наших предшественников - самых ревностных и знаменитых тружеников. Одни много потрудились при самом зарождении баптизма в нашей стране, другие - в его дальнейшем распространении, третьи - пострадали за свою веру и т.д. Читались доклады об этих людях[Нужно заметить, что в баптизме это событие какое-то случайное, не типичное. Баптисты, как и многие другие протестанты, отличаются тем, что очень мало связывают себя со своей историей, с прошлым. Такой менталитет является по большей части следствием протестантского отрицания предания (а также стремления быть "чистенькими" и не запятнанными грехами и своих предшественников). Зачем нам внимательно и благоговейно изучать то, чему учили и как жили наши предшественники? У нас ведь есть Библия и Дух Святой, Который всегда нас наставит на всякую истину! Поэтому нет большой необходимости ориентироваться на предшественников. Об ошибочности такого мышления мы будем еще говорить в третьей части книги].
Православная же Церковь не только раз в 10 лет, а постоянно вспоминает о своих наставниках и этот, так сказать, стенд, со своими героями веры, не выносит из своих храмов никогда. Она постоянно вспоминает своих наставников, каждого в его день[Своих святых Церковь поминает не в день их рождения, как поминает своих выдающихся деятелей этот мир, а в день их смерти, ибо "конец - делу венец". Такая традиция буквально исполняет слова Апостола "взирая на кончину их жизни" (Евр. 13:7). Ведь слава святого, особенно мученика, не в дне его рождения, а в дне его смерти, когда он до конца донес свою верность Христу: "претерпевший же до конца спасётся" (…)]: когда одним поминовением их имен; когда чтением или пересказом их житий и духовных подвигов; когда молебном в их честь, с чтением акафиста особо чтимым из них; когда даже крестным ходом с торжественным изнесением иконы святого и т.д.
О том же, что всякое почтение, оказываемое святому, есть почтение прежде всего Христа, излишне много говорить. Всё православное мироощущение проникну: когда одним поминовением их имен; когда чтением или пересказом их житий и духовных подвигов; когда молебном в их честь, с чтением акафиста особо чтимым из них; когда даже крестным ходом с торжественным изнесением иконы святого и т.д.то сознанием, что в каждом святом живёт и действует Сам Христос. И чем больше человек дал в своей душе место Духу Святому, тем больше он и святой, тем больше его и почитают. Об этом лаконично сказал св. Иоанн Кронштадский: "Изображениям святых мы поклоняемся, как изображениям славных добродетелей христианских... (а) в них - Самому Богу, в них (в святых) вселившемуся и в них действующему"[Ев. А. Семенов-Тян-Шанский "Отец Иоанн Кронштадский". - YMCA-PRESS, 1990 г., с. 220].
4) Иконы нужны для освящения храмов и домов. Икона есть святыня, которая оказывает свое освящающее действие благодаря самому изображенному на ней святому образу и молитве освящения, которая читается священником над иконами при их освящении. Протестанту трудно принять мысль о том, что какая-то материальная вещь может оказывать освящающее действие на душу из-за почти полного отсутствия в его мировоззрении понятия о святыне, о чём мы говорили в первой главе книги. Но он может признать, например, то, что если в доме у человека находится Библия, то она будет действовать на него положительно, а если "черная магия", то она будет его только осквернять. По данной аналогии можно понять и освящающее воздействие икон. Над иконой совершается молитва и возносится прошение не только об освящении самой иконы, но и о том, чтобы Бог через неё подавал освящение.
Приведу одну из молитв, которую произносит священник при освящении иконы святого[Для освящения икон Троицы, Христа и Богородицы произносятся другие молитвы], например Николая Чудотворца:
"Господи Боже Вседержителю, Бог отцов наших, повелевший в древности в Ветхом Завете сотворить подобия херувимов из дерева и золота, а в скинии собрания вышить на ткани, и ныне образы и подобия святых угодников Твоих не отвергающий, но принимающий для того, чтобы верные рабы Твои, на них взирающие, прославляли Тебя, сих прославившего, и старались подражать жизни и делам их - да получат от Тебя благодать и Царство. Тебе молимся, призри ныне на икону сию, изображенную и напemисанную в честь и память святого твоего Николая Чудотвоца, и небесным Твоим благословением благослови и освяти её, и для всех чтущих её, и пред нею Тебе[Ещё одно подтверждение той мысли, что в православном сознании кланяющийся и молящийся пред иконой святого, кланяется прежде всего Самому Богу, живущему в святом!] кланяющихся и молящихся, и святого Николая Чудотворца в мольбу к Тебе призывающих, будь благой и богатый даятель, ибо Ты раба и друга Твоего есть милостивый Услышатель, избавляя их от всякой скорби, и нужды, и от всякой болезни душевной и телесн/h4ой, сподобляя их желаемой Твоей благодати и милосердия молитвами святого Твоего Николая Чудотворца. Ибо Ты есть источник освящения, и благ податель, и Тебе славу воссылаем, со Единородным Твоим Сыном, и с пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков, аминь".
В этой молитве вся сила освящения приписывается Богу, Который "есть источник освящения", и испрашиваются у Бога всякие благословения для тех, кто будет чтить, кланяться и молиться Богу пред этой иконой, подобно тому, как царь Соломон призывал Божье благословение на всех, кто будет молиться Богу в им построенном храме (3 Цар. 8:30). Потому, освященная икона приносит в дом благословение Божье при благоговейном к ней отношении.
5) Иконы нужны для прославления Бога искусством. Всяким даром, который имеет человек от Бога, он должен прославлять Его, в том числе и даром изобразительного искусства. Мы знаем, что Бога можно прославлять даром слова (устного или письменного), пения, стихосложения, игры на муз. инструментах и т.п. Художественный дар не исключение.
6) Иконы нужны для украшения храмов Божиих. Заходя в типовой, хорошо расписанный храм, чувствуешь, что этот дворец сделан и украшен действительно для великого Царя, и служит достойным земным отражением славы Божией.
VI. O разности икон
Теперь несколько слов о разности икон. От протестантов, в связи с иконопочитанием, не редко можно услышать аргумент, что изображения Христа - разные, непохожие друг на друга. Какое же из них действительно отображает истинный лик Христа, и почему они не одинаковые?
Прежде всего, нужно ответить так: не такие они разные, как нам думается, а наоборот - очень похожие! Если развесить на стене множество икон различных святых без всяких подписей, среди которых будут несколько икон Христа, то практически любой человек, вовсе не специалист, и даже предубежденный протестант, не говоря уже о человеке православном и воцерковлённом, узнает, где Христос. Ведь даже фотографии одного и того же человека бывают значительно различными, при том, что фотокамера достаточно точно передает реальную картину. Сколько раз, просматривая фотоальбомы своих друзей, люди восклицают: "это ты? а я тебя на этой фотографии не узнал![Буквально сегодня (в день первоначального написания этих строк) я рассматривал фотографии своего знакомого, где совершенно не узнал его]". Но нас это не смущает, и мы не отказываемся от фотографий по причине их полной не идентичности. Мы понимаем, что различность изображения может меняться по многим причинам: другое освещение, другая обстановка, другая перспектива, другое приближение объектива, другие: положение и разворот тела, одежда, выражение лица, прическа, настроение, и в итоге - значительная разность фотографий.
Все эти факторы не в меньшей мере будут иметь место и при художественном написании портрета. Ясно, что если наш портрет напишут десять художников-портретистов независимо друг от друга, то мы получим десять отличных друг от друга изображений. Но разве мы будем этим смущаться? Разве скажем в этом случае: "из-за того, что мои портреты не похожи друг на друга как две капли воды, то я не могу определить, где же истинное мое лицо, а потому не признаю ни одного"? Абсурд. Наоборот, человеку будет интересно рассматривать все свои портреты, с интересом отмечая их различия. И если бы мы истинно любили Христа, как любим себя, и не были бы поражены дьявольским духом противления к образам Христа, то с таким же и еще большим интересом рассматривали бы Его изображения. И что объединяет все иконы Христа (как и наши 10 портретов), что можно всегда отождествить любой образ со Христом и сказать о нем: "это - Христос", а не великомученик Пантелеимон и Силуан Афонский, как и о нашем портрете: "это Виктор", а не Петр или Илья.
Нужно понимать то, как вообще писались православные иконы. Кроме списков с туринской плащаницы и с иконы "Спас нерукотворный", на протяжении истории Церкви были написаны много новых икон Христа. Иконописец, имея дар от Бога, воспроизводил образ Христа из своей души, из того образа, который несет в себе Евангелие. И чем не только талантливее был иконописец, но, главное, чище душой, святее, тем точнее он мог написать и образ Христа. Поэтому, непременным условием, которое требует Церковь от иконописца, это святость и чистота жизни. Таким образом, качество православных икон разнится так же, как и, например, качество книг. Есть превосходные, прославленные иконы, которые соборным разумом Церкви признаны наиболее удачно и точно изображающими образ Христа. С них наиболее чаще делают списки. Есть иконы не такие превосходные, но хорошие, признанные Церковью как канонические. Есть же иконы негодные, написанные не иконописцами, а так называемыми богомазами, которые (иконы) сильно искажают образ Христа и иконами вообще не считаются и Церковью не освящаются.
Кроме того, католики, отпав от Православной Церкви, исказили учение Христа, а вместе с ним и Его образ, прежде всего в своих душах[Как говорил князь Мышкин в романе Ф.М. Достоевского "Идиот", что католицизм хуже атеизма, т.к. атеизм это ноль, а католицизм это - искаженный Христос!]. Ведь как люди и целые народы искажают учение Христа, так они искажают и Его образ. Поэтому католические иконописцы уже не могут написать истинную икону Христа, в результате чего иконы, написанные ими после раскола, часто действительно принципиально отличаются от православных, и очень искажают образ Христа.
Протестанты же, чаще всего не различая канонические православные иконы от католических и "богомазных", могли видеть такие искаженные иконы и соблазниться их 1) безобразностью и 2) серьезным отклонением от истинных икон. Лик же Христа на канонических православных иконах очень похож на Его лик на Туринской плащанице, что говорит о том, что Православие сохранило образ Христа верно.
Еще одна причина различности икон заключается в разных стилях и школах иконописи. Основные стили иконописи это - византийский, древнерусский и классический (академический). В этом нет ничего недопустимого. Различные стили есть во многих вещах: в музыке, в архитектуре, в литературе, но при этом хорошая духовная книга - пусть это будет систематическое богословие, биография, поэма в стихах или роман - несет в себе благодать и пользу для души. Так же и хорошая икона различного стиля. Но как неподготовленному читателю трудно понимать серьезные богословские и философские труды, так и протестантам трудно сразу понять смысл и особую духовность византийского и древнерусского стиля, которые кажутся очень странными и "нереальными". Но в Церкви преобладает сегодня стиль классический, очень приближенный к реальному изображению, с которого и нужно начинать протестантам знакомство с православными иконами. К тому же, от протестанта, желающего вернуться в Христову Апостольскую Православную Церковь, вовсе не требуется сразу обзаводиться множеством икон, целовать их и молиться только перед ними.
Молиться христианам заповедано "непрестанно". Монахи и многие благочестивые православные миряне в течении дня сотни раз произносят в душе молитву Иисусову без всяких икон. Поэтому, можно и нужно молится всегда, и без икон, но при этом не нужно отвергать и молитвы более торжественные, богослужебные, совершаемые в храмах или дома перед иконами. Не нужно упрощать и суживать духовную жизнь; не нужно постоянно отсекать от неё какую-то часть, как любят это делать протестанты.
Любовь к иконам и гармоничное вхождение их в вашу духовную жизнь произойдёт само по себе очень естественно. Для начала же требуется перестать поносить образы Христа и святых, и начать отождествлять их со святынями, а не с идолами.
VII. O неправильном иконопочитании
И на последок несколько слов о неправильном иконопочитании. Церковь научает разумно и православно почитать св. иконы, то есть с пониманием принципа: честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу. Если же кто из невежественных и не церковных людей относится к иконе как к амулету или оберегу, почитая икону саму по себе, без понимания того, что икона есть святыня и образ святого, который жив у Господа, то такое отношение к иконам Церковь осуждает.
Митрополит Макарий в своей догматике пишет: "Православная Церковь равно осуждает:
а) и древних иконоборцев…;
б) и новых, то есть протестантов…;
в) и, наконец, всех тех, которые чтут иконы безотносительно, покланяются им, как кумирам или идолам, или боготворят их"["Православно-догматическое богословие", том II, стр. 571-572].
Таким образом, Церковь чтит иконы не безотносительно, а соотнося или же перенося это почитание к самим личностям, изображенным на иконах.
Многие образованные протестанты, способные относительно свободно и непредубежденно мыслить, не редко соглашаются с тем, что если вот так классически, разумно, по православному учению относиться к иконам, то, пожалуй, с этим можно согласиться. По крайней мере, они признают, что православных, которые правильно и разумно относятся к иконам, не стоит считать идолопоклонниками и язычниками, а такое осознанное и разумное иконопочитание можно считать за своеобразный вид благочестия: об этом мне лично говорили некоторые протестанты. Но, говорят протестанты, иконы все равно нужно устранить, чтобы не полагать соблазна для слабых, которые не способны вместить учение Церкви об иконах, которое им кажется слишком сложным, и из-за чего они боятся впасть в грех идолопоклонства. Они спрашивают православных: можно ли спастись без икон? Православный ответ - в принципе, можно.
Ну вот, мыслят протестанты, раз вопрос икон такой спорный и сложный, и в тоже время не принципиальный, так как не влияет на спасение, то лучше от них отказаться и не подавать повод братиям к соблазну, как написано: "лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну" (Рим. 14:13). Ведь из-за икон в древности соблазнялись иконоборцы, сейчас соблазняются мусульмане и протестанты, и кроме того, сколько есть людей, которые, не понимая учения Церкви, безотносительно почитают иконы просто как талисманы и впадают из-за того в грех. А ведь всех этих соблазнов можно избежать через устранение икон. В. Трубчик пишет, например, что из-за икон в Церкви в известный период "началась не просто словесная, но кровавая война. Иконы изначально не послужили благословению церкви, а ее разделению, разобщению"[В. Трубчик, "Вера и традиция", глава 7, раздел В].
На такое "миролюбивое" предложение православные могут справедливо ответить так:
1) От икон несравнимо больше пользы, чем соблазна.
2) Если начать продавать Истину ради всякой человеческой немощи (а точнее - ради всякого дьявольского искушения), то в итоге будет продано всё Божественное откровение. Если сегодня Церковь согласится отказаться от икон, то завтра же от Неё весь сонм сектантов с ещё большей настойчивостью потребует отказаться от мощей, от крестов, от всех вообще материальных святынь, от священнических облачений, от Храмов и т.д., говоря о том, что без этого тоже можно же как-то спастись…
К тому же, нужно уточнить, что спастись-то человек может без икон, но в том случае, если он их не имеет по уважительным причинам (находясь, к примеру, в темнице или в плену, или не имеет возможности к их приобретению), но принципиально их не отвергает. Но если человек убежденно, по-протестантски, отвергает святые иконы, хуля их и гнушаясь ими, называя идолами и языческими богами, то для него это весьма пагубно. Таковые по всей справедливости подводят себя под анафему Церкви.
3) Не только иконопочитание, но и всё Евангелие и Сам Христос есть соблазн для многих людей. Ап. Павел пишет, что проповедуемое им Евангелие о распятом Христе есть "для иудеев соблазн" (1 Кор. 1:23). Так что же, из-за того, что проповедь о Христе распятом (то есть о том, что униженный и позорно казнённый, не смогший спасти себя самого, есть Спаситель мира!) многих соблазняет и Христа не нужно проповедовать? Для многих людей большинство слов Христа есть соблазн. Например, о том, чтобы ударяющему в одну щеку подставлять другую. Для многих правда Христова кажется соблазнительной, ибо разве это справедливо (по-мирски) дать одну плату и целый день трудившимся, и работавшим один час (Мф. 20:1-16)? Многие соблазняются и Ветхим Заветом, невероятными чудесами, описанными в нём, его войнами и жестокостями. Примеров того, что в Библии, во Христе и христианстве соблазняет людей можно привести множество. Так что же, и Библию, и Христа, и Церковь устранить из-за того, что это многих соблазняет?
Людей больше всего соблазняет раздробленность христианского мира. Почему же тогда протестанты произвели раскол в католичестве, а затем раздробились на тысячи толков, и продолжают раскалываться? Не потому ли, что они считают, что истина дороже всякого соблазна? Вот и для Церкви истина дороже всего, а заключается она в частности в том, что Богу Иисусу Христу весьма угодно, когда Его чтят через святые Его образы! И от этой истины Церковь не может отказаться ради человеческой немощи и бесовских наветов, так как Церковь должна хранить верность Откровению и Божьей Истине.
4) В. Трубчик утверждает, что "иконы изначально не послужили благословению церкви, а ее разделению, разобщению". Но с таким же (логически) правом можно заявить и другое, что "иконоборчество изначально не послужило благословению церкви, а ее разделению, разобщению". Но если чисто логически можно сказать и одно и другое, то духовно и поистине можно сказать только то, что не иконы, а именно иконоборчество послужило во вред Церкви, и очень вредит ей и до сего дня.
Итак, вот вкратце главные обоснования для иконопочитания. Почему мы боремся со святыми образами, если мы сами делаем изображения; если Сам Бог еще в Ветхом Завете, запретив делать идольские изображения, повелел сделать изображения истинные; если Сам Христос чудесно оставил нам Свой образ на Туринской плащанице; если иконы были в Церкви из начала; если от них столько пользы; если через почитание образа почитается сам первообраз; если даже диавол, через свои нечистые образы, указывает на то, что Церковь, против которой он враждует, имеет истинные иконы?
У нас нет честных ответов на эти вопросы. Если же протестантское иконоборчество настолько неосновательно и противоречиво, и если Сам Христос не был иконоборцем, то и я не хочу и не могу им быть, продолжая впредь оставаться баптистом и вообще протестантом.
Обозначенная глава, что видно из самого названия, многосоставна (как и предыдущая глава), и потому мы её разделим на три части:
I. О молитвенном общении небесной и земной Церкви
II. О почитании Ангелов и святых
III. О поклонении Ангелам и святым.
I. О МОЛИТВЕННОМ ОБЩЕНИИ НЕБЕСНОЙ И ЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ
Молитвенная практика протестантов и православных имеет несколько существенных отличий. Главнейшее[Другое легко заметное различие состоит в том, что православные и на Богослужении и частным образом часто молятся уже составленными молитвами, а протестанты молятся произвольными, своими молитвами. Подробнее об этом будет сказано далее, в главе "О молитве и молитвослове"] состоит в том, что протестанты молятся только Богу, и только за живых людей, и не проповедуют о том, что Ангелы и святые на небесах молятся о находящихся на земле. Православное же отношение к молитве более широкое, ибо они (молясь Богу о себе и живых своих близких) также:
А) верят и учат, что Ангелы и святые на небесах молятся Богу, в том числе и о находящихся на земле;
Б) молятся и обращаются за помощью к Ангелам и святым;
В) молятся Богу об умерших (усопших).
Протестанты не признают этих догматов по тем же двум причинам[Это то, как понимают эти причины сами протестанты. О действительных же причинах будет сказано в конце главы], по которым они обычно отвергают и все другие православные догматы:
1) эти догматы не содержатся в Библии и, более того, она им прямо и во многих аспектах противоречит;
2) что в Церкви первых веков ничего этого не было, а появилось потом, "во время отступления" Церкви от Истины, не ранее V в.
"Великий" баптистский авторитет в области церковной истории и обличения Православия П. Рогозин утверждает, например, что "догмат о молитве за умерших" появился даже не в пятом, а десятом веке, в 978 г.["Откуда все это появилось?", "Хронология", с. 207], а он же знает, что говорит: не будет же возрожденный христианин и пастор церкви врать! (Ниже мы увидим, правду ли он говорит). В общем, протестанты не признают ни одну из трёх составляющих указанного православного учения.
Итак, сначала рассмотрим библейские и исторические свидетельства[Хочу обратить внимание на то, что большинство свидетельств приводятся только один раз в одном из подразделов - А, Б или В, но часто имеют отношение сразу к двум из них] в пользу данных православных догматов; потом будет сказано об их богословском смысле, а затем будут даны ответы на протестантские возражения против этих догматов.
А) О молитвах небожителей (Ангелов и святых[Слово "святой" имеет два важнейших значения. Первое значение имеет смысл: отделенный, посвященный, призванный. В таком смысле ап. Павел всех христиан называет "святыми" (2 Кор. 1:1; Еф. 1:1; Фил.1:1) или "призванными святыми" (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:2); в таком смысле каждый православно крещеный христианин является святым. Русь также именно в таком значении называется святой. (Святой она была и есть не потому, что каждый ее житель - безгрешен, а потому, что она была подобно Израилю посвящена Богу). Во втором значении святой - это тот, кто освятился (Богоуподобился), совершил своё спасение до конца и находится со Христом в Царствии Небесном. Есть святые, которых Церковь знает и которых канонизировала. Есть же множество неизвестных святых]), в том числе и о живущих на земле.
1) Библейские свидетельства.
Зах. 1:12,13: "И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет? Тогда, в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрёк Господь слова благие, слова утешительные". Явный и яркий пример того, что Ангелы на небесах молятся о живущих на земле, и Господь внимает им и отвечает на их молитвы.
Откр. 6:9-11: "И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыко Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число". Данный отрывок Библии - очевиднейшим образом говорит о том, что святые еще до воскресения и суда молятся Богу, в частности о своем праведном отмщении, и что Бог отвечает им и утешает их.
Откр. 8:3-4: "И пришел иный Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотый жертвенник, который пред престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога".
Из этого отрывка мы можем заключить, во-первых, что святые на небесах молятся Богу, раз говорится о молитвах "всех святых", а не только находящихся на земле; во-вторых, что Ангелы помогают этим молитвам (то есть, молитвам "всех святых", в том числе и живущих на земле) дойти до Бога. То есть, молитвы живущих на земле доходят до Бога не без участия и посредства Ангелов.
Откр. 5:8: "...двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых". Из этих слов мы можем видеть, что святые на небесах (старцы) поклоняются Богу и прославляют Его, что видно из дальнейшего повествования. Кроме того, они приносят Богу молитвы святых (должно думать, что всех святых - и небесных, и земных), то есть как и Ангелы помогают молитвам дойти к Богу.
Пс. 144:1-2; 88:2: "Буду превозносить Тебя Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё во веки и веки"; "Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими".
Естественно, Давид и Ефам Езрахит, восклицавшие эти слова, умерли каждый в своё время. Тем не менее, Ефам утверждает, что он вечно будет петь[Петь возможно человеку и в загробной жизни (см. Откр. 5:8-10; 14:1-3)] (конечно, молитвенно петь) о милостях Господних, и оба псалмопевца, - что будут благословлять Имя Господне "во веки и веки" и "в род и род".
Эти псалмы говорят о вере этих Божиих святых в то, что они всегда, и даже после смерти, будут прославлять, восхвалять и молитвенно воспевать Бога. Слова же "во веки и веки" и "в род и род" указывают на то, что они будут хвалить Бога не только после всеобщего воскресения и суда, с чем не будут спорить и протестанты, но сразу же после смерти, во все времена, "в род и род".
Пс. 106:4-21: "Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города; терпели голод и жажду, душа их истаевала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих! Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей и Он спас их от бедствий их; послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!".
Этот псалом был написан спустя много веков после выхода евреев из египетского рабства, когда все избавленные Богом, о которых воспевает настоящий псалом, уже давно почили. Тем не менее, в стихах 8, 15 и 21 псалмопевец обращается к ним с призывом восславить Господа за милость Его и чудные дела Его. Эти стихи подтверждают ту истину, что святые после своей смерти могут молиться и славить Господа (и кроме того, дают пример молитвенного обращения к умершим святым).
Из так называемых неканонических книг[Протестанты по большому неразумию не признают богодухновенность этих книг, но благодатная Ветхозаветная Церковь имела их в составе Священного Писания без разделения на канонические и неканонические, и учение, содержащееся в них, она признавала истинным. Эти книги отвергли иудеи, не принявшие Христа, только на грани I-II века, то есть уже после того, как слова Христа "се, оставляется ваш дом пуст" (Лк. 13:35) исполнились, когда духовные вожди Израиля "ожесточились" (Рим. 11:7), ослепли и оглохли (11:8), пали (11:12) и были отвергнуты Богом (11:15). По сей причине вовсе не следовало бы, - тем более с таким полным доверием, как протестанты, - принимать решение этого собора отступников-богоборцев о библейском каноне. Подробнее о неканонических книгах читать в гл. 20] Библии.
2 Макк. 15:12-14: "Видение же его (Иуды Маккавея) было такое: он видел Онию - бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах, издетства ревностно усвоившего всё, что касается добродетели, - видел, что он, простирая руки, молится за весь народ Иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал Ония: "Это - братолюбец, который много молится о народе и Святом Городе, Иеремия пророк Божий"".
И первосвященник Ония и пророк Иеремия во время Иуды Маккавея были уже умершими. Таким образом, в данном видении Иуде было показано, что эти святые после своей смерти молятся Богу о народе Израильском. Хочу ещё раз обратить внимание на то, что эти Маккавейские книги были в обиходе в Израильском народе, и считались частью исторических книг Священного Писания. Если бы ветхозаветные евреи отрицали то, что умершие святые на небесах могут молиться Богу о живущих на земле, или если бы они отрицали возможность молитв за умерших (такие молитвы также содержаться в Маккавейских книгах, что ниже будет показано), то эти книги никогда бы не были ни написаны, ни приняты иудеями.
Вар. 3:4: "Господи, Вседержителю, Боже Израиля! Услышь молитву умерших Израиля". Очевидно, что в понимании Варуха, умершие могли молиться Богу.
Тов. 12:12: "Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я (Архангел Рафаил) возносил память молитвы вашей пред Святаго". Этот стих имеет тот смысл, что Архангел Рафаил помогал молитвам Товита и Сарры дойти до Святого Бога, молясь вместе с ними. Здесь говорится о тех же духовных реалиях, что и в вышерассмотренном отрывке Откр. 8:3-4.
Тов. 12:15: "Я - Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго". Смысл данного стиха аналогичен предыдущему, да и находится в непосредственном с ним контексте. Здесь лишь сообщается, что не один Рафаил, но и другие Архангелы помогают молитвам людей дойти до Бога[В авторитетной в древней Церкви книге Ермы "Пастырь" (I в.) выявляется одна интересная особенность в отношении между людьми и Ангелами, которые не только к Богу возносят молитвы людей, но и просят друг друга о своих подопечных. Так, Ангел, приставленный к Ерму, говорит ему: "Я буду с тобою и даже попрошу Ангела наказания, чтобы он легче поражал тебя; впрочем, не долго ты потерпишь бедствие и снова возвратишься в свое благосостояние, только пребывай в смиренномудрии и повинуйся Господу от чистого сердца" (Кн. 3, подобие 7)].
2) Свидетельства веры древней Церкви.
В римских катакомбах среди надгробных надписей древних христиан обретаются такие: "Живи в Боге и вопроси! Помолись о родных твоих; проси о нас, Феликс"; "Моли за нас, дабы мы были спасены; моли за единственное дитя, оставленное тобою; Аттикус, душа твоя в блаженстве, моли за родных твоих; в твоих молитвах моли за нас, потому что мы знаем, что ты во Христе!". Эти слова ясно подтверждают два из рассматриваемых нами православных догмата, свидетельствуя о том, что древние христиане
1) верили, что их собратия, умершие во Христе, молятся о них Богу;
2) обращались к ним с просьбами в молитвах.
В древних сказаниях о святых мучениках мы также находим подтверждение тому, что христиане с самых первых веков знали и верили, что почившие во Христе святые молятся о пребывающих на земле. Так, свидетели мученической кончины Святого Игнатия Богоносца (начало II(!) века) говорят: "Возвратившись домой со слезами, мы имели всенощное бдение[Кстати, праздничные вечерние службы до сих пор называются в Православии "всенощным бдением"]…; потом, немного уснувши, некоторые из нас увидели внезапно восстающего и обнимающего нас, а другие также увидели молящегося за нас блаженного Игнатия"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 559].
Повествование о мучениках сциллитанских, пострадавших в 200 году, составленное современником-очевидцем, оканчивается следующими словами: "Скончались Христовы мученики месяца июля в 17 день и ходатайствуют за нас пред Господом Иисусом Христом"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 559].
Св. Дионисий Ареопагит (I-II век)[Современная критическая наука считает, что св. Дионисий жил в V веке, причём на том лишь основании, что он говорит о Троице в очень ясных терминах, свойственных отцам IV-V века. На самом деле, Апостолы, бесспорно, знали о Троице никак не меньше отцов Церкви, но пока не появилась арианская ересь, не было нужды раскрывать это учение в полноте. Кроме того, нужно полагать, что Апостолы содержали это учение в некоторой тайне, как многие другие, о чём свидетельствует св. Василий Великий (см. гл. 19) и не оглашали его открыто, чтобы ещё больше не соблазнять и не озлоблять иудеев, и не воздвигать лишних гонений на Церковь. Дионисий же, знавший от Апостолов точное учение о Троице, написал о нём для верных] пишет: "Что молитва святых еще при жизни их, а тем более по смерти приносит пользу только достойным святых молитв - этому научают нас истинные предания мудрых... Так неисполнимою и суетною надеждою обольщается тот, кто просит молитв святых, и отвергает свойственные им святые дела, нерадит о божеских дарованиях, и отступает от яснейших и спасительных заповедей"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 559].
Слова "просит молитв святых" ясно свидетельствуют о том, что св. Дионисий 1) верил, что святые на небесах могут молиться Богу о живущих на земле, и 2) признавал молитвы живых к умершим святым. Св. Дионисий предупреждает только, что одна молитва к святым без исполнения Божьих заповедей и собственного стремления к благочестию, бесполезна, с чем всей душой согласны православные. Это свидетельство имеет великий авторитет, так как Дионисий Ареопагит был слушателем и учеником самого ап. Павла, о котором упоминается в Деян. 17:34.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.), обращаясь в молитве к Богу, говорит: "И молитвами безсеменно родившей Тебя, Пречистой и Приснодевы Марии, Матери Твоей... сподоби меня без осуждения причаститься...".
А также: "...будь мне помощник и заступник, окормляя в мире жизнь мою, сподобляя меня и одесную Тебя предстояния со святыми твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, бестелесных Твоих служителей и пречистых сил (то есть Ангелов), и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь"[Цит. по: "Православный молитвослов", глава "Последование ко Сятому Причащению"].
И в другом месте: "Молитвы святых имеют очень великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся (во грехах) и исправляемся… Впрочем сие говорю не для того, чтобы не призывать святых в молитвах, но для того, чтобы мы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали на других того, что должны сами делать".
А также: "Зная сие, возлюбленные, будем прибегать к предстательству святых, и призывать их, чтобы они за нас молились; но не будем только полагаться на их молитвы, а и сами действовать по примеру их, как должно"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 561].
Из данных цитат со всей очевидностью явствует, что св. И. Златоуст (как и паства, к которой он обращался) верил, 1) что Ангелы и умершие святые молятся Богу о совершающих своё земное поприще, и 2) считал душеполезным делом призывать святых в молитве.
Св. Василий Великий (IV в.) писал: "Приемлю и св. Апостолов, пророков и мучеников, и призываю их к ходатайству пред Богом, да через них, то есть по их предстательству, милостив будет мне человеколюбец Бог и да подаст мне оставление прегрешений".
А также, в слове в память сорока мучеников: "Сколько употребил бы ты труда найти и одного молитвенника за себя ко Господу! И вот сорок молитвенников, воссылающих согласную молитву. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18:20); а где сорок, там усомнится ли кто в присутствии Божием? К сорока мученикам прибегает утеснённый, к ним притекает веселящийся… Здесь встретишь благочестивую жену, молящуюся о чадах, испрашивающую отлучившемуся мужу возвращения, а болящему здравия. Прошения ваши да будут приличны мученикам. Юноши да подражают им, как сверстникам; отцы да молятся о том, чтобы быть родителями подобных детей… Святый лик! священная дружина! непоколебимый полк! общие хранители человеческого рода! добрые сообщники в заботах, споспешники в молитве, самые сильные ходатаи, светила вселенной, цвет церквей! Вас не земля сокрыла, но прияло небо; вам отверзлись врата рая"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, стр. 560].
Без всякого сомнения: св. Василий Великий, как и св. И. Златоуст, признавал, что 1) святые на небесах молятся о находящихся на земле; 2) верующим возможно и очень полезно обращаться в молитве к умершим во Христе святым. Св. Григорий Богослов (IV в.) в надгробном слове св. Василию Великому говорит: "И теперь он на небесах, там, как думаю… молится за народ, - ибо и оставив нас, не вовсе оставил…"; и далее: "призри же на меня свыше, божественная и священная глава, и данное мне для моего вразумления "жало в плоть" (2 Кор. 12:7) утиши твоими молитвами, или научи сносить его терпеливо, и всю жизнь мою направь к полезнейшему"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 541].
Здесь мы также видим, что и св. Григорий держался веры вселенской Церкви, признавая и 1) молитвы умерших святых о живых, и 2) молитвы живых к усопшим святым.
Св. Ефрем Сирин (IV в.): "Победоносные мученики, добровольно претерпевшие скорби, из любви к Богу Спасителю, и имеющие дерзновение перед самим Владыкою, ходатайствуйте, о святые, за нас расслабленных и грешных, и исполненных лености, да приидет на нас благодать Христова, и просветит сердца всех ленивых, чтобы возлюбить нам Господа".
Св. Ефрем выражает в данном случае всё ту же общую веру Церкви в то, что 1) святые на небесах молятся о живущих на земле, а также 2) слышат их молитвы к ним.
В молитвенную связь Церкви небесной и земной верили также св. Амвросий, св. Григорий Нисский, св. Дидим Александрийский, св. Феодор Гераклийский, св. Иероним, Феодорит, блаж. Августин и другие отцы и учителя первых веков христианства[См. "Православно-догматическое богословие", том II, с. 558-562].
Б) О молитвах к Ангелам и святым.
1) Библейские примеры.
Пс. 102:20: "Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его" - прямое молитвенное обращение к Ангелам.
Пс. 148:2: "Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его" - эти слова есть также молитвенный призыв, обращенный к Ангелам.
Нужно заметить, что дальше в этом псалме Давид обращается с призывом хвалить Бога и к солнцу, и к рыбам, и к холмам, что есть возвышенная поэзия и литературный прием, называемый персонификацией. Когда же он обращается к личностным существам, к Ангелам, которые могут его услышать, то это есть молитва.
Пс. 148:1: "Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних" (ср. Пс. 102:21; Пс. 150:1)["Благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его"; "Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его"]. Димитрий Чуйков так комментирует этот отрывок: "Со времени сложения этого псалма до Вознесения Христова всякий раз, когда молящиеся произносили Пс. 148:1, они призывали к восхвалению Иеговы не только Его Ангелов, но и Еноха и Илию, взятых Богом на небеса задолго до написания этого гимна (см. Быт. 5:24; 4 Цар. 2:11). После же Христовой победы над адом, когда плененные преисподней и пожелавшие последовать за Христом, были вознесены вместе с Ним на небеса, и со времени получения Христом ключей от ада, после чего всякий, умирающий в Господе уже не может быть поглощен шеолом, а водворяется у Господа на небесах (ср. 2 Кор. 5:8), всякий раз, когда молящийся произносит: "Хвалите Господа с небес, Хвалите Его в вышних" и другие, подобные этому, Библейские стихи, например, Пс. 102:21, Пс. 150:1, - он молитвенно призывает к восхвалению Иеговы не только светлых Ангелов, а также Еноха и Илию, но и всех святых, достигших горнего мира. Мнения, противного этому и угодного Богу, быть не может"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 199-200].
Пс. 102:22: "Благословите Господа, все дела Его, во всех местах владычества Его". К кому обращен данный призыв? Ко всему Божьему творению, находящемуся на всех местах владычества Его, и прежде всего к существам разумным - людям (в том числе и святым на небесах, или небеса, по мнению протестантов, не относятся ко "всем местам владычества" Божия?) и Ангелам, которые могут сознательно откликнуться на этот призыв. Таким образом, эти слова заключают в себе молитвенное воззвание, обращенное к Ангелам и святым на небесах и на земле.
Дан. 3:86: "Благословите духи и души праведных Господа, пойте и превозносите Его во веки" - очевиднейший молитвенный призыв, обращенный к умершим праведникам!
Быт. 48:16: "Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих". Эти слова были произнесены патриархом Иаковом перед смертью (см. контекст: 48:21,29), которые представляют собой ни что иное, как молитвенную просьбу Иакова, обращенную (хотя и не в прямой речи) к своему Ангелу хранителю, о том, чтобы он "благословил отроков сих", то есть сыновей Иосифа Манасию и Ефрема, и избавлял бы их, как и самого Иакова при жизни, "от всякого зла". Как пожелание "да благословит тебя Господь" есть хотя и не прямое, но молитвенное обращение к Богу, так и пожелание Иакова в такой же форме есть обращение к Ангелу.
2) Свидетельства веры древней Церкви.
В римских катакомбах, где собирались и погребали своих умерших первые христиане, найдена такая надпись: "Антония, сладкая душа, Бог да освежит тебя. Бог да освежит твою душу". Другие подобные надписи, которые недвусмысленно подтверждают то, что древние христиане молились к умершим святым и мученикам, мы уже видели выше (в разделе А).
Смирнская Церковь (II век) в послании о мученичестве св. Поликарпа говорит: "Мы никогда не можем ни оставить Христа, который пострадал для спасения всего мира спасаемых, ни поклоняться кому-либо другому[Имеется в виду другому богу]: потому что Ему мы поклоняемся как Сыну Божию, а мучеников[Слово "мученик" (греч. ![]() - мартис) в древнехристианских писаниях всегда обозначает замученного до смерти за веру во Христа. То есть, речь идёт только об умерших] достойно молим, как учеников и подражателей Господа, - любим, за их неизменную приверженность к своему Царю и учителю"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 550].
- мартис) в древнехристианских писаниях всегда обозначает замученного до смерти за веру во Христа. То есть, речь идёт только об умерших] достойно молим, как учеников и подражателей Господа, - любим, за их неизменную приверженность к своему Царю и учителю"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 550].
Св. Григорий Богослов (IV в.) пишет о мученице III века св. Иустине, что она, желая сохранить девство среди обольщений, "молила Деву Марию помочь бедствующей деве".
Также, в надгробном слове брату своему Кесарию он говорит: "Ты, божественная и священная глава, вниди в небеса, успокойся в недрах Авраамовых… узри лик Ангелов, славу и великолепие блаженных, или лучше, составь с ними один лик и возвеселись… И да предстоишь великому Царю, исполняясь горнего света…"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 543] - явный пример молитвенного обращения к почившему святому. (Другие подобные свидетельства мы уже видели выше в разделе А).
В) О молитвах Богу об умерших.
1) Библейские свидетельства.
Пс. 131:1,2: "Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его: как он клялся Господу, давал обет Сильному Иакова…". Этот псалом был написан уже после смерти царя Давида, по всей видимости, его сыном Соломоном. Поэтому обращение псалмопевца к Господу с просьбой вспомнить Давида и все сокрушение его, обеты и клятвы его и т.д., есть не что иное, как молитва об умершем. Начальные слова молитвы об умершем царе Давиде по смыслу подобны словам молитвы, которой часто молятся православные: "помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя)". Ведь сказать в молитве к Богу: "Вспомни, Господи, (умершего) Давида" или, напр.: "помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего Алексия" - по смыслу есть одно и тоже.
Пс. 108:14: "…да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его", то есть врага Давида. "Отцов его", то есть - его предков: и тех, которые еще в живых, и тех, которые уже умерли. Если вышеприведенная молитва (Пс. 131:1-2) несет в себе благословение святому царю Давиду, то данная молитва призывает Божье возмездие на нечестивца и на его предков. То есть, автор настоящего псалма молится Богу об усопших.
2 Тим. 1:18: "Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день". Это - молитва ап. Павла об Онисифоре, которого уже не было в живых[В этом убеждает нас то обстоятельство, что в конце своего послания ап. Павел передает приветствие не самому Онисифору, а "дому Онисифора" (2 Тим. 4:19), что трудно объяснить, если думать, что Онисифор был жив, тем более, что ап. Павел своим близким сотрудникам обычно передавал приветствия лично (см. напр. Рим. 16 гл.). К тому же в 2 Тим. 1:16-18 ап. Павел разделяет свою молитву на две части, и на "дом Онисифора" призывает просто "милость" Божию, а ему самому желает "обрести милость у Господа в оный день", так как в этой жизни, из-за того, что он уже покинул этот мир, она ему более не нужна. Известный протестантский (пресвитерианский) толкователь Нового Завета Уильям Баркли также полагает, что "в своей верности Павлу он (Онисифор) рисковал своей жизнью и, возможно, даже потерял её" (см. его толкование на 2 Тим. 1:15-18)]. Эта краткая молитва по своему смыслу идентична известной краткой православной молитве, которой молятся православные: "Царствие ему Небесное".
Еф. 6:18: "Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время… о всех святых". Здесь ап. Павел не разделяет святых на тех, кто находится на земле, и на тех, кто на небесах, а говорит молиться о всех святых. Церковь буквально исполняет эту заповедь Апостола, молясь о всех святых - живых и усопших.
Втор. 26:14: "Я… не давал из нее (десятины) для мертвого…". Эти слова говорят не о молитве, а о милостыне, творимой ради усопших, что также практикует Православная Церковь, и что отсутствует в протестантизме. Данный стих указывает на то, что ветхозаветные евреи давали из дохода своего для мертвых, то есть давали милостыню живым ради умерших, но не из десятины.
Из "неканонических" книг.
Вар. 3:4: "Господи, Вседержителю, Боже Израиля! Услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не послушали гласа Господа Бога своего, за то и постигли нас бедствия". Эти слова есть ни что иное, как молитва Богу об умерших. Слова же "молитву умерших" говорят о молитве к Богу самих умерших. Слова "…за то и постигли нас бедствия" дают понять, что если молитва живых за умерших (и молитва умерших за живых) будет услышана Богом, то Господь отвратит эти беды от живых.
2 Макк. 12:39-45: "На другой день бывшие с Иудою пошли, как требовал долг, перенести тела падших и положить их вместе со сродниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами посвящённые Иамнийским идолам вещи, что закон запрещал Иудеям: и сделалось всем явно, по какой причине они пали. Итак, все прославили праведного Судию Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех; а доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принесть жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении; ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мёртвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, - какая святая и благочестивая мысль! - Посему принёс за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха".
Здесь мы видим самые явные и не двусмысленные свидетельства о том, что ветхозаветные иудеи молились за своих усопших.
О том, что древние иудеи молились за умерших (как и сейчас продолжают молиться), мы узнаем, также, из древнего еврейского молитвослова, где есть глава, называемая "Йизкор", что значит: "да воспомянет". Вот часть этих молитв:
"Да воспомянет Бог душу отца, наставника моего, ушедшего в мир иной, ради милостыни, которую я дам за него[Ср. Втор. 26:14] (без обета); в награду за это да будет душа его вместе с собором живых, с душой Авраама, Исаака и Иакова, Сарры, Ревеки, Рахили и Лии, и с остальными праведниками и праведницами, что в Саду наслаждения, и да скажем: аминь!".
"Отец многосострадательный, живущий в высях, по великому благосердию Своему да воспомянет Он многожалостливо милостивых и праведных и непорочных, собрания святые, тех, кто предал души свои на святительство Имени; возлюбленные и приятные в жизни своей, они и по смерти своей не разложились; они были проворнее орлов и могущественнее львов в исполнении воли Создавшего их и желания Образовавшего их. Да воспомянет их Бог наш во благо!...".
2) Свидетельства веры древней Церкви.
В надгробных надписях[Н. Варжанский приводит один интересный археологический факт, касающийся надгробий древних христиан: "В Иерополе доныне хранится камень, чудесно перенесенный из Рима по желанию равноапостольного Аверкия, скончавшегося около 167 года. Под этим камнем похоронен равноапостольный Аверкий, и на камне выбиты слова святителя, в которых он просит помолиться о нем весь синод" ("Доброе исповедание". Москва, 1998, с. 308). Это ещё одно свидетельство того, что древняя Церковь молилась за усопших] первенствующей Церкви мы находим молитвы об умерших: "Господи, да никогда душа Венеры не будет омрачена" - явный пример молитвы об умершей.
"Господи, прошу тебя, да увидит он свет рая. Покойся спокойно. Вечный свет тебе, Тимофей во Христе" - эти слова содержат в себе и 1) молитву за умершего Тимофея, и 2) молитвенное обращение к нему самому.
Во всех древних литургиях[Поразительно само существование многих древних литургий, которые представляют собой последовательность молитв, которые нужно произносить за Богослужением. Протестанты же не только не имеет литургии; они, как правило, даже не понимают, что это такое], также содержатся молитвы за усопших. Вот некоторые тому примеры.
Из литургии Апостольских постановлений:
"Ещё приносим Тебе и за всех от века благоугодивших Тебе святых, патриархов, пророков, праведников, Апостолов, мучеников, исповедников, епископов, пресвитеров, диаконов, иподиаконов, чтецов, певцов, девствовавших, вдовствовавших, мирян и всех, чьи имена Сам Ты знаешь"["Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора евхаристическая молитва", Москва, "ДАРЪ", 2007 г., с. 108].
"Помянем святых мучеников, чтобы нам сподобиться быть общниками их подвигов. Об упокоившихся с верой помолимся"["Собрание древних литургий восточных и западных", с. 112].
Из литургии Святого Апостола Иакова:
"Об упокоении прежде почивших отцов и братий Господу помолимся".
"Всех святых и праведных воспомянем, чтобы молитвами и ходатайством их[Еще одно подтверждение тому, что древние христиане верили в молитвы и ходатайства умерших святых] все мы были помилованы"["Собрание древних литургий восточных и западных", с. 139].
"Помяни, Господи, Боже духов и всякой плоти, православных, которых мы помянули и которых не помянули, от праведного Авеля до нынешнего дня; Сам упокой их там, в стране живых, в Царстве Твоём, в наслаждении райском, в недрах Авраама и Исаака и Иакова, святых отцов наших, откуда удалилась болезнь, печаль и воздыхание, где зрится свет лица Твоего и сияет непрестанно"["Собрание древних литургий восточных и западных", с. 151].
"Об… упокоении преждепочивших отцов и братий наших все усердно скажем: Господи, помилуй"["Собрание древних литургий восточных и западных", с. 156].
"Всех святых, от века благоугодивших Тебе, помянув, самих себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим"["Собрание древних литургий восточных и западных", с. 160].
Из литургии Святого Апостола и евангелиста Марка: "Души преждепочивших в вере Христовой отцов и братии упокой, Господи Боже наш, помянув быших от века праотцев, отцов, патриархов, пророков, Апостолов, мучеников, исповедников, епископов, преподобных, праведных, всякий дух скончавшихся в вере Христовой".
"И всех их души упокой, Владыко Господи Боже наш, в обителях святых Твоих, в Царстве Твоем даровав им обетованные Тобой блага, которых глаз не видел, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, которые Ты, Боже, приготовил любящим святое имя Твое. Их души упокой и удостой Царства Небесного"["Собрание древних литургий восточных и западных", сс. 418-419].
Из литургии Святых Апостолов Фаддея[Один из 70-ти апостолов] и Мария:
"Господи Боже Саваоф, прими это приношение за всю Святую Соборную Церковь и за всех благочестивых и праведных отцов, благоугодивших Тебе, и за всех пророков и Апостолов, и за всех мучеников и исповедников… и за всех умерших, которые, разлучившись с нами преставились".
"Помяни пророков, Апостолов, мучеников, исповедников, епископов, учителей, священников, диаконов и всех сынов Святой Соборной Церкви".
"Отпусти грехи и прегрешения усопших, благодатию и щедротами Твоими, вовеки..."["Православно-догматическое богословие", том II, с. 559-560].
В писаниях отцов и учителей Церкви первых четырёх веков христианства мы также находим подтверждения тому, что древние христиане молились за усопших и верили в молитвенную связь с небесной Церковью.
Святой Киприан (III в.): "Будем взаимно памятовать друг друга…, будем везде и всегда молиться друг за друга… и если кто из нас прежде отойдет туда (на небо), по благоволению Божию, да продолжится пред Господом наша взаимная любовь, и да не престанет возноситься пред милосердие Отца молитва за наших братий"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 559-560.].
Слова "наша взаимная любовь" и "молитва за наших братий" указывают на веру св. Киприана в то, что умершие будут молиться Господу об оставшихся на земле также, как и оставшиеся об ушедших.
Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.), изъясняя литургию Иерусалимской Церкви, замечает: "Потом поминаем (принося Бескровную Жертву[Бескровная Жертва - то есть Евхаристия, таинство Причастия. Кстати, православные до сих пор называют Евхаристию Бескровной Жертвой. Протестанты же понятия не имеют о том, что это значит - как далеко отошли они от жизни христиан первых веков]) и прежде почивших, во-первых патриархов, пророков, Апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление наше; потом молим о преставившихся святых, отцах и епископах, и вообще о всех из нас, прежде почивших, веруя, что превеликая будет польза душам, о которых моление возносится, в то время, как Святая предлежит и Страшная Жертва"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 558].
Здесь также говорится как о молитве живых за умерших святых, так и о молитве умерших за живых.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) писал о высоте священнического служения так: "Каков должен быть тот, кто молится за всю вселенную и умилостивляет Бога за грехи всех, не только живых, но и умерших? Для такой молитвы я не считаю достаточным даже дерзновения Моисея и Илии. Священник так приступает к Богу, как будто ему вверен весь мир…"[Цит. по: "Настольная книга священнослужителя", изд. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2003 г., том 8, с. 37].
Таким образом, как в Библии, так и в учении первых христиан, мы находим многие ясные подтверждения всем трём составляющим православного догмата о молитвенном общении небесной и земной Церкви.
Теперь необходимо сказать о богословском смысле этого догмата.
Смысл заключается в том, что Церковь есть воистину единое Тело Христово, в Котором не может быть разделения. Одна часть Тела Христова находится на небе, и называется Церковью прославленной. Другая часть пребывает ещё на земле, и называется Церковью воинствующей или странствующей. Как в теле человека между каждыми его частями есть живая связь, так и в Теле Христовом между всеми Его членами есть живая связь, которая проявляется, прежде всего, в любви и молитвах друг о друге. Взаимное моление небесной и земной Церкви друг за друга является одной из тех связей, о которых пишет ап. Павел в Еф. 4:16 и Кол. 2:19. И как одна часть человеческого тела (ноги) касается земли, а другая (голова) - неба, но при этом в теле человека нет разделения, так и в Теле Христовом нет разделения из-за того, что одни члены Его Тела находятся на небе, а другие - на земле.
Св. Писание говорит, что "любовь никогда не перестает" (1 Кор. 13:8) и что "ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе" (Рим. 8:38-39). Если любовь никогда не перестаёт, и если смерть не может отлучить нас от любви Божией ко Христу и нашим собратиям, то мы и не должны прекращать молится друг о друге и после смерти.
Наш Бог "не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20:38). Все святые, оставившие свои "храмины", так же живы, как и пребывающие в телах, и составляют одно Тело Христово. Ап. Павел пишет: "…никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя, а живем ли - для Господа живём, умираем ли - для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни" (Рим. 14:7-8). Слова "живем ли или умираем, всегда Господни" имеют тот смысл, что независимо от временной жизни или смерти, мы продолжаем оставаться в одном Теле, живя единой духовной жизнью и дыша одним Духом.
Протестанты говорят о том, что между умершими святыми на небесах и живыми на земле находится пропасть (см. об этом ниже, "возражение 1"), но Библия учит как раз тому, что Бог "...положил все небесное и земное соединить под главою Христом..." (Еф. 1:10). Во Христе нет пропасти между живущими на земле и умершими святыми, между Церковью прославленной и Церковью воинствующей, но небесная и земная Церковь составляет одно единое и неразрывное Тело Христово. Разделение существует только видимое, так как святых на земле мы можем видеть и слышать плотскими глазами и ушами, а находящихся на небе обычно не можем. Но "мы ходим верою, а не видением" (2 Кор. 5:7). Духовная реальность такова, что никакой непроходимой пропасти между святыми на небе и на земле, нет и быть не может.
Ап. Павел пишет: "Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авилева" (Евр. 12:22-24). Здесь весьма ясно описывается теснейшая связь земной и небесной Церкви.
Скажите баптисты и прочие протестанты, как вы приступили ко "тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах... и к духам праведников, достигших совершенства"? Из всех вышеперечисленных небожителей вы признаёте только "судию всех - Бога" и "Ходатая нового завета Иисуса". Каким образом человек приступает к Богу? Именно в молитве! Так вот, протестанты учат, что к Богу можно приступать в молитве, а к Ангелам и к духам святых - нельзя, но Церковь истинная, по свидетельству ап. Павла, приступает не только к Богу, но и к Ангелам, и к умершим святым. Можно просто осмотреть православный Храм и иконостас, чтобы убедиться в том, что православные имеют полнокровное общение со всем Телом Христовым. И опять на лицо сектантская сущность протестантизма: одно в Библии и даже в одном библейском отрывке они принимают, другое отсекают.
Теперь рассмотрим протестантские возражения против рассматриваемого нами православного учения, где кроме ответов на них мой читатель сможет выяснить также многие подробности сего догмата.
Возражение 1. Никаких молитв и общения с небожителями быть не может, ибо в Писании ясно сказано, что "между нами и вами утверждена великая пропасть" (Лк. 16:26). Хотя аргумент этот совершенно нелепый, протестанты, пожалуй, чаще всего им пользуются. Но ведь эти слова Авраам сказал богачу, находящемуся в аду. Это между лоном Авраама, где был Лазарь (в верхнем отделе преисподней), и местом мучений (в нижнем отделе), где был богач, существует (точнее, существовала до сошествия Христа во ад и его разрушения) великая пропасть, но между небом и землей нет пропасти, а наоборот, есть тесная связь, есть "доступ" к небу (см. Еф. 2:18; 3:12). Бог не соединял лоно Авраамово, где находились праведники Ветхого Завета, с адскими местами мучений, где находились грешники, но в Церкви Своей Он соединил всех святых в одном Теле!
Важно также отметить, что беседа Авраама с богачом состоялась до смерти Христа и сошествия Его в ад. Но после того, как Христос разрушил ад, пленил плен, "находящимся в темницах духам проповедал" победил ад и получил от него ключи, даже между небом и адом нет непроходимой пропасти, ибо Христос имеет ключи ада и смерти и, когда пожелает, может отворить врата шеола и вывести из него любую душу и водворить её на небесах, ибо Он является его хозяином[Об этом подробнее мы еще скажем при разборе 7-го возражения].
Возражение 2. Обращение к умершим, даже к духам праведников, является спиритизмом[Баптисты из новолуганской общины, в которой я около 1,5 года служил в качестве миссионера и проповедника, узнав о моем переходе в Православие, обвинили меня, кроме прочего, в спиритизме, поскольку, по их мнению, молитва к святым и Ангелам является вызыванием духов, то есть - спиритизмом], а Бог осуждает "вызывающих мертвых" (Ис. 19:3). Ведь когда Саул вызвал дух праведного пророка Самуила, разве это не было грехом (1 Цар. 28:6-20)?
Повторю: протестанты признают, что молитвенное и духовное общение может быть только с Богом, и ничего не знают и знать не хотят о возможности духовного общения с Ангелами и духами праведников: они знают только о дьявольском подражании этому общению - спиритизме, потому и смешивают благочестие с развратом, добро со злом.
Что такое спиритизм? Это когда человек с помощью бесовских сил вызывает душу умершего, и души эти (за редчайшим исключением) вызываются из ада. Или, бывает, что является не личность умершего, а бес в его образе. Поэтому, спиритизм есть, во-первых, бесообщение (поскольstrongку вызывающий умершего общается либо с самими бесами, либо пользуется их посредством); во-вторых - недозволенное, Богом запрещённое общение с нечестивыми умершими. Но если христианин обращается в молитве к своему Ангелу хранителю, или, например, к святому Апостолу Павлу, то такое обращение к умершим не является спиритизмом, ибо, во-первых, общение со святыми Ангелами (или их посредство в общенииem со святыми, когда они помогают молитвам верующих дойти до святых) не является бесообщением; во-вторых, молитвенное обращение к святым во Христе есть совершенно законный и Самим Богом установленный способ общения в земной и небесной Церкви (см. Евр. 12:22-24).
Не видеть же - как протестанты - различия между молитвой к Ангелам (и святым во Христе) и спиритизмом, делая эти два совершенно различных по духу явления одним и тем же - богохульно. Ведь если протестанты не хотят делать никакого различия между святым и бесовским общением с умершими, считая всякое обращение к умершему грехом и спиритизмом, то тогда согрешал и Сам Христос, когда обратился к умершему Лазарю: "Лазарь! иди вон" (Ин. 11:43), и когда общался с умершим Моисеем (см. Мф. 17:3); тогда согрешал и Апостол Петр, заговоривший с умершей Тавифой: "Пётр… обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань" (Деян. 9:40).
Итак, очевидно, что не всякое обращение к умершим есть спиритизм. Если, например, я знаю, что возле меня постоянно находится мой Ангел хранитель[Протестанты если и не всегда противятся, то и не учат, и не проповедуют, и, как правило, не хотят ничего знать об Ангеле-Хранителе, - который приставляется Богом к каждому человеку, тем более к святому, - хотя в Библии ясно об этом говорится: "Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их" (Пс. 33:8); "Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих" (Пс. 90:11, 12); "не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?" (Евр. 1:14). Из этих мест Св. Писания следует, что возле каждого Божьего человека постоянно находится по крайней мере один Ангел, "избавляющий", "охраняющий" и "служащий" ему, которого в Православии называют Ангелом-хранителем. Об Ангеле-хранителе с полной ясностью говорится в одной из древнейших (I век) и очень авторитетной в Церкви христианских книг "Пастырь" Ермы: "Сын же приставил Ангелов для сохранения каждого из людей…" (Ермы, кн. 3, подобие 5, п. 6). "Два Ангела с человеком: один добрый, а другой злой" (Ермы, книга 2, заповедь 6, п. 2). "Я послан от достопоклоняемого Ангела, чтобы жить с тобою (Ермой) остальные дни твоей жизни (...) Пока он говорил, вид его изменился, и я узнал, что это тот (Ангел), которому я препоручен" (Ермы, кн. 2 "заповеди", пролог)], который всегда видит и слышит меня, то почему же мне грех обратиться к нему - попросить его о чем либо, или поблагодарить за помощь?
Для того, чтобы протестанту иметь представление о том, как православные молятся Ангелам и святым, приведу для примера три молитвы.
Молитва к Ангелу хранителю:
"Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не попусти злому демону властвовать надо мною посредством смертного тела сего. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О святый Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь сию, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, дабы мне никаким грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да утвердит Он меня в страхе Своем и покажет меня рабом, достойным Своей благости. Аминь"[Молитвослов, утренние молитвы].
Молитва святому Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову:
"О, великий Апостол, евангелист громогласный, богослов изящнейший, тайновидец неизреченных откровений, девственник и возлюбленный наперсник Христов Иоанне! Прими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедрого Человеколюбца Христа Бога нашего, Который пред очами твоими Кровь Свою за нас непотребных рабов Своих излиял, да не воспомянет Он беззаконий наших, нbr /о да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращать оные во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временной жизни нашей от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и так да достигнем, тобою водимые и покрываемые, горнего оного Иерусалима, славу которого ты в откровении видел, ныне же нескончаемой радости наслаждаешься. О, великий Иоанне! Сохрани все города и страны христианские, храм сей, служащих и молящихся в нем, от голода, мора, землетрясения и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобной брани; избавь нас от всякой беды и напасти и молитвами твоими[Для моего протестантского читателя, - которому может показаться соблазнительным, что православные просят о таких великих вещах не Бога, а кого-то иного, - замечу, что ап. Иоанн, по разуму Церкви, может помочь нам не сам по себе, не своею силою, а силою и благодатью Божией, а также тем, что помолится Богу и испросит у Него просимые блага] отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да сподобимся вместе с тобою прославлять в невечерний день Пресвятое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь".
Величание Петру и Павлу:
"Величаем вас, Апостолы Христовы Пётр и Павел, весь мир учениями своими просветившие и вся концы (земли) ко Христу приведшие".
Когда я познакомился с вышеприведенными и другими православными молитвами Ангелам и святым, то я ясно понял, что православные не считают их Богами (как это кажется протестантам, обвиняющих православных в многобожии). Православная духовная жизнь и их Богословие просто намного богаче протестантских. Кроме того, что православные просят молитв друг у друга, как делают это и протестанты, они просят молитв также и у святых и Ангелов, веруя, что у Бога все живы, и что Ангел хранитель всегда находится рядом и всегда их слышит. Обращаясь к своему Ангелу, к Иоанну Богослову или другому святому, православные не общаются с бесами - это более, чем понятно. Осознав это, я устрашился того, как легкомысленно и кощунственно протестанты называют такие молитвы спиритизмом[Если судить духовно, то не молитвенное общение с Ангелами и со святыми, а общение с сектантами, в том числе и протестантами, имеет большое сходство со спиритизмом, ибо спиритизм, как уже было замечено, имеет две составляющие: 1) незаконное общение с мёртвыми; 2) бесообщение. Общение же с сектантами есть, по сути, то же самое, ибо таковое общение является: 1) общением с мёртвыми, поскольку протестанты духовно мертвы, так как не рождены в Божьей семье, не возрождены святым Крещением, и 2) бесообщением, так как сектанты водятся бесовскими богохульными духами и творят их дела и волю (хотя часто и бессознательно). И пусть не гневаются на меня мои бывшие единоверцы за это суровое слово и не считают его оскорблением, ибо это правда, и для вас - правда спасительная, если вы её примете. А действительным и страшным оскорблением для Бога являются как раз протестантские сравнения молитв святым и Ангелам с гнусным спиритизмом]! Какую страшную клевету они изрыгают на Церковь и святых Божиих!
Что же касается Саула, то его грех состоял в том, что он, вопросивши Господа и не получая ответа от Него "ни во сне, ни через урим, ни через пророков" (1 Цар. 28:6) обратился, вопреки заповедям Божиим, к волшебнице. Если бы Саул не обращался к волшебнице, но Самуил сам, по Божьему допущению, явился бы Саулу в видении и говорил с ним, то таковое общение Саула с умершим Самуилом, естественно, не было бы грехом, не было бы спиритизмом.
И последний - самый интересный и неожиданный для многих баптистов аргумент: вы сами - по своему неразумию того даже не осознавая - обращаетесь к Ангелам и умершим святым… Скажите, что это неправда? Тогда откройте ваш сборник "Песнь возрождения" - который, кстати, используют при богослужении не только баптисты, но и многие другие постсоветские протестанты, - и посмотрите, нет ли там обращения к Ангелам и усопшим святым?
Открываем очень популярную у баптистов песнь, №389, которую они часто поют в случае так называемого покаяния грешника (в доме молитвы перед кафедрой), и читаем: "Радостную песнь воспойте в небесах, найдена пропавшая овца…". Выделенной фразой начинаются и другие два куплета, а припев начинается со слов: "слава, слава, пойте небеса! Вторьте все земные голоса…".
Вопрос: к кому вы, баптисты, обращаетесь этими словами? Кого на небесах вы призываете воспеть радостную песнь? Кого просите петь "слава, слава"? Конечно же, прежде всего Ангелов, а также небесных святых, ибо эта песня составлена на основании слов Христа о том, что "на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии… Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся" (Лк. 15:7,10).
То есть, раз Христос сказал о том, что Ангелы радуются о кающемся грешнике, то в момент чьего-то покаяния баптисты как раз и обращаются к Ангелам с призывом радоваться, воспевать и славословить Бога за это. Но ведь вы прямо обращаетесь к Ангелам, не замечая в этом ничего дурного и не считая, конечно же, таковое обращение спиритизмом. Почему же когда православные делают то же самое, то есть обращаются к Ангелам и святым в молитвах и песнопениях, вы обвиняете их в мерзком грехе спиритизма?
Ещё один пример. Упомянутый сборник песнопений содержит раздел под названием "на погребение". Так вот, в песнопении №495 протестанты многократно самым ясным образом обращаемся к умершему. Привожу эту песнь целиком:
"1. Усни, о брат возлюбленный, усни! На грудь Иисуса голову склони! И мирно спи, Спасителем обнят. Спокойной ночи, брат! 2. Тебя мы любим с верностью друзей, Христос же любит крепче и нежней; Он на тебе покоит нежный взгляд, спокойной ночи, брат! 3. Ты почиваешь, брат, спокоен, тих; ты не проснешься для трудов земных, и бури жизни сон твой не смутят. Спокойной ночи, брат! 4. Доколе туча над землей висит, доколе тьма греховная царит и слезы на очах людей блестят, сокойной ночи, брат! 5. До дня, когда мгновенно оживут для Бога все, кто ныне почиют, и Он придет, любовию богат, - спокойной ночи, брат! 6. До дня, когда, украшенный венцом дарованным Спасителем Христом, ты будешь обновлен, и чист, и свят, - спокойной ночи, брат! 7. До дня, когда с ветвями пальм в руках мы встретим Господа на небесах и встретимся с тобой у вечных врат, - спокойной ночи, брат!".
В других песнопениях этого раздела мы также находим прямые обращения к умершему. Вот текст песни № 500:
"1. У источника спасенья будешь ли меня встречать? Там во славе наслажденья я смогу ль тебя обнять? Там другие в звуках пенья будут мне привет слагать, у источника спасенья будешь ли меня встречать? Припев: Да, я встречу, где источник, да, тебя я встречу там, где течет живой источник, да, тебя я встречу там. 2. У источника спасенья будешь ли меня встречать? Радость с верными общенья там я лучше буду знать; но мне станет песнь приятней, что польется там рекой, небо станет необъятней, как услышу голос твой. 3. У источника спасенья будешь ли меня встречать? Слыша зов Христа, в тот день я стану там тебя искать. Он меня там повстречает, Он меня обнимет Сам; А источник засияет; встретишь ли меня ты там?".
А вот слова песни под №503 этого же раздела, более двух предыдущих известную баптистам, где они с прямой речью обращаются к умершему:
"1. Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют, где спокойною рекою воды чистые текут? Припев: Да, мы встретимся с тобою над чудною, над чудною рекою; там с неумолкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. 2. Над прозрачною рекою, чистой, светлой, как кристалл, там воскликнем мы с тобою: Вечный день теперь настал! 3. Между нами и рекою путь непроходимый был, но сколь тяжкою ценою Агнец нам его открыл! 4. Там, в сиянье над рекою, лик Христа мы будем зреть, кто на землю за тобою нисходил, чтоб умереть. 5. Скоро будем над рекою, скоро путь придет к концу, скоро встретимся с тобою, вознося хвалу Отцу".
Итак, зачем же вы обращаетесь к усопшим, говорите ему все эти слова, если, по-вашему пониманию, обращение к умершему есть спиритизм и великий грех? Ведь душа человека, в понимании древних евреев и в понимании Церкви, 3 дня после смерти находится рядом с телом, а потом только отходит от земли[Поэтому, воскрешение четверодневного Лазаря было таким великим чудом, ибо Христос не только вернул душу в тело, но и вызвал её из преисподней]. Таким образом, когда протестанты при погребении обращаются к умершему в песнопениях, он слышит эти обращения. Отметим: протестанты в песнопениях как и православные обращаются к умершим.
Поэтому, если протестанты даже вопреки своему учению не могут сдержаться от того, чтобы совсем не обращаться к Ангелам (и святым) и своим умершим братьям, то тем более не грех, когда православные в полном согласии с Библией, практикой древней Церкви и своим мудрым Богословием обращаются к Ангелам и святым.
Итак, православные молитвы к святым не является спиритизмом, а отношение протестантов к молитвам к Ангелам и умершим, как мы увидели, весьма противоречиво.
Возражение 3. П. Рогозин говорит: "Писание говорит нам, что после смерти святые уже не принимают участия в земных делах (Откр. 14:13; Евр. 4:10; Дан. 12:13)" и что их нельзя тревожить (1 Цар. 28:15)"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Молитва святым угодникам и деве Марии"].
Первые три места Св. Писания приведенные П. Рогозиным говорят о том, что святые после смерти упокоеваются от дел своих. С этим православные не только не спорят, но, напротив, на каждом отпевании молят Бога именно об упокоении души усопшего. Они просят у Бога для усопшего "покоя и тишины"; о том, чтобы Бог определил "душу его в место… покойное", многократно повторяя при этом просьбу: "упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего". Да и сама служба об усопшем называется заупокойной.
Но упокоение святых в Царствии Божием от дел и трудов земных вовсе не обозначает того, что святые находятся в полном бездействии и безделии. Понятие "труд" это понятие земное, сопряженное с нахождением в теле, которое имеет один корень со словом "трудно"[В древнерусском слово "труд" значит "печаль". Ясно, что в таком смысле святые не трудятся и не испытывают никакой печали, которую испытывает человек в теле при многом труде]. Служение Богу в наших материальных телах сопряжено с трудом и мучением. Чтение Библии или духовных книг, например, хотя и сладостно для души, но требует усилий и физически утомляет, как говорил царь Соломон: "много читать - утомительно для тела" (Еккл. 12:12). Молясь и поя Богу в Храме священник и прихожане духом радуются, но плотью скорбят, испытывая трудность, тем более, если вспомнить, что при совершении службы прихожане стоят на ногах. Писать книгу, готовить проповедь или лекцию также бывает трудно, хотя и радостно и благодатно. И любое другое служение для Бога человек, находясь в теле, совершает, прикладывая усилия: "Царство Небесное силою берется" (Мф. 11:12).
Святые же на небесах, молясь и воспевая Богу непрестанно, не испытывают при этом никакой печали, никакого труда, никакой тяготы, будучи свободны от оков телесных. Поэтому, ни молиться и петь Богу, ни общаться друг с другом, ни слышать молитвы людей и отвечать на них, даже если их множество, не составляет для святых никакого труда. Покой святых нужно понимать не так, что святые находятся в праздности и безделии (или что они вообще спят, как говорят некоторые протестанты, слишком буквально понимая некоторые места Писания, напр. Дан. 12:2; Ин. 11:11), а так, что непрестанно занимаясь многими делами, активно участвуя во всей жизни Церкви, постоянно сопереживая и содействуя Христу во всех Его делах и борьбе с дьяволом, они находятся при этом в полном покое, радости и умиротворении.
А что умершие святые (и Ангелы) не спят и знают о делах земных и являются не сторонними и безразличными наблюдателями, но принимают в них участие и выражают свои чувства, ясно свидетельствует Священное Писание.
1 Цар. 28:14-19. Умерший пророк Самуил в разговоре с Саулом открыл, что он не только хорошо знает происходящее на земле сейчас, но знает и будущее: "И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян".
Ин. 8:56. Сам Христос засвидетельствовал: "Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел, и возрадовался". То есть, давно умерший Авраам знает и вникает в происходящее на земле, выражая при этом свои эмоции.
Лк. 16:29. В разговоре с богачом Авраам говорит о Моисее и пророках, хотя они жили после него. Ясно, что Авраам имел возможность знать о происходящем на земле после своей смерти.
Лук. 9:30-31: "И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия: явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме". Мы вновь видим, что святые знают о происходящем и о том, что должно произойти на земле, и принимают в этом участие. То есть, их упокоение не является полным бездействием.
Дмитрий Чуйков по этому поводу замечает: "Подавляющее большинство сектантов, благодарение Богу, верит в то, что после смерти человека душа его продолжает жить, то есть мыслить, желать, чувствовать, вспоминать и запоминать и т.д., а потому таковым сектантам возможно согласиться и с тем, что душа преставившегося святого в горнем мире продолжает жить и присущей ей духовной жизнью, значительную часть которой составляет молитва. И было бы крайне противоестественно думать, что Бог, даровавший святому способность молиться на земле, отнял бы ее у него на небесах. Умершие святые не только сохраняют память о тех, о ком должно молиться, но они получают еще большую возможность, чем при временной жизни, знать, что происходит на земле и в преисподней… Совершенно разумно верить, что если святые, даже находясь еще в ограниченных своих телах, сковывающих проворность духа, имели чудесную осведомленность о происходящем вокруг себя, в том числе - и в людских сердцах (см. 4 Цар. 5:26; 6:12; 3 Цар. 14:1-12; Деян. 5:3-4), то, конечно, после того, как они оставили стеснявшие их жилища, такая их осведомленность только умножилась; и если святые, даже будучи в узах шеола, имели возможность следить за происходящим на земле, то тем более, они имеют такую возможность в небесном приволье"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 230-233].
Что же касается утверждения П. Рогозина о том, что умерших святых "нельзя тревожить (1 Цар. 28:15)", то упрёк Самуила: "для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?" был адресован оставленному Богом Саулу, которому Бог не желал отвечать, и который вызвал Самуила незаконным, богопротивным способом - посредством волшебницы. Молитвы же Церкви являются законным способом общения со святыми и нисколько не тревожат и не лишают их покоя.
Возражение 4. П. Рогозин пишет: "Вездесущ - только один Творец, всякое творение, находящееся в пространстве, занимает определенное место и следовательно, не может слышать молитв, обращенных к нему одновременно из многих пунктов земного шара"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось", глава "молитва святым угодникам и деве Марии"].
На этот вопрос хорошо отвечает всё тот же Димитрий Чуйков: "В небесном мире нет времени, а только - вечность, только - постоянное настоящее, и потому святого, перешедшего в горний мир, не может затруднить и великое множество одновременно возносимых к нему с земли просьб, ибо он вообще освободился от всяких временных ограничений, в том числе - и от всяких возможных для нашего мира неудобств, связанных с одновременностью; и для того, чтобы дух святого мог слышать каждого из множества молящихся к нему одновременно, вовсе не должен он быть при этом вездесущ как Бог, потому что множество молящихся никогда не бывает бесконечным множеством; к тому же, перешедший в вечность святой, именно потому, что он находится в постоянном настоящем, говоря по земному, имеет всегда и на все достаточно времени, будучи сам вне времени; кроме того, умершему святому слышать молящихся к нему и отвечать им помогают Божии Ангелы, ибо они есть служебные духи (см. Евр. 1:14). Однако нужно понимать, что подобные вопросы - не объяснимы до конца, но все же, и в этом мире на них можно получить удовлетворительные ответы, только эти ответы принадлежат больше области веры, чем разума, а потому словесно, и не передаваемы полностью"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 234].
Добавлю только, что и дьявол не обладает вездесущностью, но протестанты признают, что он может одновременно искушать множество людей. Вот так и святые, будучи свободны от уз тела, пребывая во всеведущем Духе Божием и находясь вне времени, способны одновременно слышать и видеть многих людей.
Возражение 5. Учение о ходатайстве Ангелов и святых за людей пред Богом противоречит библейскому учению о "едином Посреднике между Богом и человеками" (1 Тим. 2:5) и "Ходатае нового завета Иисусе" (Евр. 12:24; ср. 1 Ин. 2:1). Нам не нужны кроме Христа никакие ходатаи, ибо мы и сами имеем "доступ к Отцу" (Еф. 2:18; 3:12) и к Божьей благодати (Рим. 5:2). П. Рогозин пишет об этом так: "Со смертью и Воскресением Христа мы имеем только одного "Единого Посредника" и "Ходатая Нового Завета Иисуса"… Все иные посредники стали излишни с того момента, как Христос вознесся, воссел одесную Бога Отца, чтобы ходатайствовать за нас"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Молитва святым угодникам и деве Марии"].
Приводя цитаты о едином Посреднике и Ходатае Христе, протестанты закрывают глаза на другие места Писания. Ведь кроме утверждения о том, что Христос есть Ходатай, мы находим в Новом Завете упоминание и о других ходатаях: "Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на Которого надеемся, что и ещё избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас" (2 Кор. 1:10-11).
В других местах Апостолы призывают верных молиться о них и друг о друге (Рим. 15:30; Еф. 6:18-19; Иак. 5:16). Молитва же не о себе, а о другом человеке есть по своему существу ничто иное, как ходатайство и посредничество. И протестанты совершенно не противятся молитвам друг о друге. Наоборот, они постоянно просят друг у друга молитв. В конце воскресного собрания их пасторы читают поданные записки с различными нуждами, молится о них и просит всё собрание также присоединиться к этим молитвам и вознести свою молитву к Богу об этих нуждах, часто повторяя при этом, что молитва церкви имеет большую силу! Зачем же протестанты просят других помолиться о себе, если, по словам П. Рогозина, все другие посредники кроме Христа стали излишни? Зачем протестантам просить других помолиться, если они сами имеют доступ к Отцу? Зачем им просить молитв и посредничества их общины, если, "все иные посредники стали излишни с того момента, как Христос вознесся…"? Это что, маловерие? Нет, протестанты так не скажут. Они понимают, что помолиться самому о себе - хорошо, но если и другие верующие помолятся обо мне, то это ещё лучше. Но ведь молитва Богу не о себе, а о другом, повторюсь, есть ни что иное, как ходатайство и посредничество!
У протестантов, как известно, в Библии есть свои любимые места, которые почти все знают либо наизусть, либо близко к тексту. Таких мест больше всего, конечно же, в Новом Завете. Из книг пророков, например, таких мест не так много. Но один стих из пророка Иезекииля (22:30) знает и помнит почти каждый протестант: "Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел". И баптистские проповедники (а ещё больше - харизматические) особенно миссионерски настроенные, часто с жаром цитируют эти слова, говоря, что вот, мы должны стать в проломе между Богом и грешниками, и вымаливать их спасение и обращение, вымаливать возрождение нашего народа, чтобы Бог не погубил его. Но ведь в этом случае эти проповедники призывают своих братьев быть именно посредниками между Богом и людьми, ибо посредник то и значит "стоящий посредине". То есть, вот, с одной грешный народ, а с другой - Бог, готовый излить на него Свой гнев. А баптистам предлагается стать посреди (то есть, быть посредником) между Богом и народом, в проломе, и молить Бога об отвращении наказания.
Таким образом, протестанты на самом деле вовсе не против посредников и ходатаев, и после Христа они вовсе не стали для протестантов излишни, как утверждает П. Рогозин. Протестанты противятся лишь православным посредникам, святым, которые им ненавистны (а кроме того, приводя односторонне места Библии о Едином посреднике, протестанты хотят смутить неутверждённые души, убедить их в неправде учения Церкви и отвратить их от Православной Веры). Вся разница в отношении ходатайства и посредничества у протестантов с православными только в том, что первые просят молитв лишь у живых своих собратий, а православные просят молитв как у живых, так и у усопших святых, деятельно верую в то, что у Бога все живы! Как протестанты обращаются к своим собратьям с просьбой, например: "брат Андрей, помолись обо мне", так и православные обращаются с такой же просьбой и с такими же словами к святым: "все святые молите Бога о нас"; или: "святые Апостолы Петр и Павел молите Бога о нас"; или: "святый пророк Божий Илия моли Бога о нас"; или: "святый Ангел молись за меня Господу" и т.д.
"То есть, - как метко замечает Димитрий Чуйков, - на самом деле сектанты не отрицают многих ходатаев, лишь бы среди них не оказалось духов праведников, достигших совершенства"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 237]. Поэтому, по самой сути протестанты, так же как и православные, признают других ходатаев и других посредников - своих братьев по вере, считая, что ходатайство и посредничество друг о друге вполне допустимо, является проявлением любви и никак не противоречит ходатайству и посредничеству Христа.
Но, может быть тогда и протестанты и (в ещё большей мере) православные грешат, оскорбляют и уничижают посредничество Христа тем, что берут себе в посредники людей, обращаясь к ним с просьбой о молитвенном о нас ходатайстве? Ведь если те и другие часто посредничают пред Богом о своих братьях и сами в свою очередь просят их посредничества, то как понимать тогда слова Св. Писания о едином Посреднике между Богом и людьми Иисусе Христе? Именно так, что такой Посредник и Ходатай как Христос есть только один. Христиане же (находящиеся на небе или на земле) ходатайствуют не сами по себе, и не сами от себя, а благодаря тому, что находятся в едином Духе и едином Теле со Христом, разделяя с Ним Его служение как "соработники у Бога" (1 Кор. 3:9). Ведь по сути, когда христианин на земле (или святой на небе) просит и ходатайствует о ком-то, то чрез него ходатайствует Сам Христос, живущий Духом в каждом члене Церкви, как писал ап. Павел: "уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20). Таким образом, верные ходатайствуют пред Отцом в Духе Христа, через Христа и вместе со Христом. Ходатайства членов Церкви друг о друге никак не устраняют и не мешают первоходатайству и первопосредничеству Христа, а только помогают.
Протестантов удивляет, как это Библия называет Христа единым Посредником и Ходатаем[Буквально Библия не говорит о том, что Христос - единый Ходатай, а только, что Он есть единый Посредник, хотя эти понятия - синонимичны] и в тоже время людей также называет ходатаями? Но что удивляться, если даже словом "боги" Св. Писание в положительном смысле именует и людей: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы" (Пс. 81:6; ср. Пс. 81:1; Ин. 10:33-36), хотя сколько раз сама же Библия восстает против иных богов и утверждает, что есть только один единый Бог и нет иного! Как же это объяснить? А так, что каждый человек действительно есть бог, но ровно настолько, насколько он сотворен по образу и подобию Божию, а также насколько он Богоуподобляется и сообразуется Христу, насколько он исполняет заповедь "будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 5:48). Так если Бог пожелал по Своей великой бескорыстной любви разделить с человеком даже Свою Божественность, то и всё Своё служение Христос разделяет со Своими рабами и друзьями, пребывающими в Его слове, в том числе - и служение ходатайства.
Св. Писание свидетельствует нам о том, что Господь молитвы грешников не слышит (см. Иез. 8:17, 18), в то время как внимает молитвам праведников: "много может усиленная молитва праведного" (Иак. 5:16); "…очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их" (1 Петр. 3:12); "Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их". (Пс. 33:16).
Кроме того, Библия даёт нам примеры, того, как ходатайство праведников влияло на Божьи решения (см. Быт. 20:7,17; Исх. 32:11-14; Иов. 42:7-9). Ап. Иоанн пишет: "...мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни просим, получим от Него, потому, что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним" (1 Ин. 3:21-22). Христос также говорил: "Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам" (Ин. 15:7), и ещё: "Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам" (Ин. 15:14).
Из этих мест ясно, что Господь является другом и исполняет просьбы и моления тех, кто исполняет заповеди Его и пребывает в слове Его. Поэтому православные и просят, прежде всего, молитв "духов праведников, достигших совершенства" - пророков, Апостолов, мучеников, исповедников и прочих святых, зная, что на их молитвы Бог скорее ответит, так как они лучше нас исполняли заповеди Божьи, больше нас пребывали в слове и любви Божией, больше нас являются друзьями и угодниками Христа, больше нас Богоуподобились, обожились и исполнились Духом Святым.
При этом, конечно, православные и сами постоянно обращаются в молитвах к Богу. Можно взять любую православную книгу молитв (напр. служебник, требник или молитвослов), чтобы убедиться в том, что большая часть молитв обращена непосредственно к Богу, и каждый христианин, конечно же, должен обращаться в молитве прямо к Богу, и имеет на это полное право, не пренебрегая, однако, и ходатайством святых. И когда протестанты говорят, что православные не имеют надежды и дерзновения к Богу, а обращаются за помощью только к святым, то это чистая клевета. Это всё равно, что сказать баптистам: "раз вы постоянно просите молитв и различной помощи друг у друга, то вы не имеете надежды и дерзновения к Богу".
Протестанты часто говорят: "мы - дети Божии, и имеем возможность обращаться к Богу лично: зачем же нам нужны посредники?". Но ведь и дети часто, желая испросить что либо у отца, договар. Если, например, я знаю, что возле меня постоянно находится мой Ангел хр/strongанительиваются вместе просить его, понимая, что просьбу многих детей отец скорее исполнит, чем просьбу одного. Так, например, в своём детстве мы со своими братьями и сёстрами часто все вместе просили отца свозить нас на ставок покупаться, и просили и маму попросить отца вместе с нами. Но кроме тогstrong (Ин. 15:14).о - и это очень важно понимать - Бог так устроил мир, чтобы Ему не на все просьбы отвечать Самому непосредственно. Он дал людям здесь на земле возможность, силы и право действовать и самим. Так, желая построить дом или сделать ещё что-либо, баптист не просто молится Богу о помощи, и не просто просит своих собратий помолиться вместе с ним об этом Богу, но [он обращается за помощью к людям. Или, если его машина увязла в сугробе, то он чаще всего будет не Богу молиться, а попросит помощи у своих собратий (или других людей), и причём помощи не молитвенной, понимая, что люди и сами могут многое сделать (хотя могут они не сами по себе, а только потому, что Бог им дал жизнь и силы). Вот так и в духовном мире. Бог дал Ангелам и Своим святым возможность и силу не только молиться Ему о нуждах людей, ни и самим помогать людям, хотя делают они это, бесспорно, на сами по себе, а Божьей силой и властью. Поэтому, Ангелов и святых можно просить не только молитв, но и самой необходимой помощи.
Итак, Христово ходатайство никак не устраняет и не противостоит ходатайству рабов Божиих друг о друге, и помощь людей друг другу, и помощь людям Ангелов и святых никак не оскорбляет Бога.
Возражение 6. Написано: "умерший освободился от греха" (Рим. 6:7). Поэтому молитвы о "прощении ему всякого прегрешения вольного и невольного", об "оставлении грехов его"[Слова из православной заупокойной службы] умершему уже не нужны.
Димитрий Чуйков на этот вопрос отвечает так: "Умерший действительно освободился от греха, только в том смысле, что он уже не может совершить новых грехов, потому что он освободился от самого возбудителя и инструмента греховного делания - от своей, постоянно жаждущей всякого беззакония плоти. Душа же грешного человека, и перейдя в загробный мир, оказывается в нем со всеми своими недостатками, которые она успела приобрести, будучи в теле, и не успела устранить на земле. Об освобождении душ умерших от всякого их несовершенства и о прощении им всякого греха - и молится Святая Православная Церковь"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 229].
Возражение 7. В Библии написано: "что посеет человек, то и пожнет" (Гал. 6:7), а также, что "Сын Человеческий… воздаст каждому по деламstrong его" (Мф. 16:27). Следовательно, наши молитвы никак не могут помочь умершим. Православные же, вопреки Слову Божию, учат, что молитвы могут каким-то образом помочь умершим и облегчить их загробную участь.
Данный вопрос содержит в себе два главных под вопроса: 1) может ли быть изменена посмертная участь человека? и 2) могут ли быть прощены человеку грехи не по его личной просьбе, а по просьбе других? На эти вопросы протестанты с уверенностью отвечают "нет", а православные с ещё большей уверенностью говорят "да". Попробуем на основании Библии разобраться, кто же прав.
1) О возможности изменения посмертной участи человека.
Прежде всего, нужно сказать о ветхозаветных праведниках. Ни один из них после смерти не восходил на небеса, а все они нисходили в ад (шеол, преисподнюю). Праведный патриарх Иаков перед своей смертью сказал: "с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю" (Быт. 37:35), зная, что и он, и его погибший (как он думал) сын Иосиф после смерти должны сойти вниз, в ад. Праведный пророк Самуил, явившись Саулу, приходит не с небес, а из ада, в котором он и находился: "И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли. Какой он видом? - спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый…" (1 Цар. 28:12-14). Святой царь Давид словами "ибо Ты не оставишь души моей в аде" (Пс. 15:10) также выказал знание, что после смерти он сойдет в ад (однако, выразив при этом надежду, что душа его не навсегда там останется). О том, что никто до Христа не восходил на небо, засвидетельствовал Сам Иисус: "никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий" (Ин. 3:13)[Исключение составляют Енох и Илия, которые не умерли и не сошли в шеол, а были взяты живыми на небо (Быт. 5:24; 4 Цар. 2:11). Как же тогда примирить этот факт со словами Христа, что "никто не восходил на небо"? Видимо, Христос имеет в виду высшие небеса, на которых живёт Сам Бог, а Енох и Илия были взяты на другие, более низкие небеса, на которых находятся Ангелы. А на то, что небеса не одни, а имеют несколько уровней или же ступеней, указывает нам ап. Павел, когда говорит, что он "восхищен был до третьего неба" (2 Кор. 12:2). Возможно, у небес больше, чем три уровня, на каждом из которых находится свой ангельский чин (Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Начальства, Власти, Силы, Архангелы и Ангелы); Бог же пребывает выше всех и "обитает в неприступном свете" (1 Тим. 6:16). Вот туда никто, кроме Христа, не восходил]. В преисподней же было место для праведников, называемое в Евангелии "лоном Авраама" (Лк. 16:22,23), находящемся в верхней[В верхней потому, что в библейском мировоззрении, чем выше, тем лучше. Когда богач разговаривал с Авраамом, то "он поднял глаза свои" (Лк. 16:23), а значит - грешники находились в нижней части ада, а праведники - в верхней] его части. Там праведники не испытывали мучений, но всё равно все они находились не на небесах, а в преисподней, ожидая победы Христовой над адом. И надежды пророка Давида и всех остальных праведников оправдались. Когда Христос сошел в ад и победил его, получив "ключи от ада и смерти" (см. Откр. 1:18), он вывел (похитил) из ада всех ветхозаветных праведников, забрав их с Собою на небеса. Этот факт - ярчайший пример изменения посмертной участи человека.
Интересно заметить, что в протестантском богословии вопрос о том, что совершил Христос в аду, когда духом Своим сошел в него после Своей крестной смерти, оставляется в тени: протестанты не развивают эту тему и не придают ей должного значения. Православное же Богословие уделяет этому вопросу одно из ключевых значений. Самые радостные и торжественные православные службы - пасхальные - очень высоким поэтичным языком воспевают именно победу Христа над преисподней.
О победе Христа над адом пишет ап. Петр: "Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умервшлён по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сошед, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть, восемь душ, спаслись от воды… Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы" (1 Петр. 3:18-22); а также: "Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом" (1 Петр. 4:6). Ап. Павел также упоминает о схождении Христа в ад: "Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все" (Еф. 4:8-10). Здесь Апостол процитировал первую часть Пс. 67:20. Для нашей же темы очень важно услышать и его окончание: "чтоб и из противящихся могли обитать у Господа". О том, что Христос победит ад и выведет из него людей, возвещал и пророк Осия: "От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?" (Ос. 13:14; ср. Зах. 9:11).
Древняя Церковь также хорошо знала о том, что Христос после своей смерти с проповедью сходил в ад, разрушил его и забрал с Собой всех, кто уверовал в Него.
Об этом писал, например, святой Мелитон Сардийский (II в.): "Когда Спаситель на кресте закрыл глаза, свет засиял в аду, ибо сошёл Господь разрушить ад, не Телом, а Душой, ибо сошёл Господь и Душой овладел всем адом, Телом же - землёй…"["О душе и теле и страстях Господних", п. 12].
О том же событии говорит и св. Ириней Лионский: "Он спас из ада всех, которые последовали Ему", а также: "И в книге Иеремии Он возвещает Свою смерть и Свое сошествие во ад следующим образом: "И Господь, Святый Израилев, помянул Своих мертвецов, прежде усопших на земле, и сошел к ним, чтобы возвестить им спасение Свое, чтобы спасти их". Здесь Он объясняет и причины своей смерти, ибо Его сошествие во ад было для спасения умерших"["Доказательство апостольской проповеди", п. 39, 78].
Итак, сойдя после смерти "в преисподние места земли" Христос "находящимся в темнице духам проповедал" и "спас из ада всех, которые последовали Ему", "пленил плен" то есть отобрал у дьявола его пленных - людские души, которые после греха Адама были в его власти, и "восшел на высоту" вместе со своей добычей, отобранной у дьявола. Слова же "чтоб и из противящихся могли обитать у Господа" говорят о том, что Спаситель вывел из преисподней и вознес на небеса не одних только праведников, но и многих грешников, прежде всего тех, кто жил во времена Ноя. При жизни они были противниками Божьими, "непокорными ожидавшему их Божию долготерпению", но когда пришёл потоп, они стали каяться в своих грехах. И хотя всё равно "подверглись суду по человеку плотию", т.е. погибли от карающих вод потопа и сошли в шеол, затем приняли там проповедь Христа и были Им спасены и стали "жить по Богу духом" в Царствии Божием. Таким образом, посмертная участь множества людей, как праведных, так и неправедных, была изменена благодаря победе Христа над адом.
"Так вот - рассуждает Димитрий Чуйков - даже таких настойчивых грешников, которые раздражали Господа во всю свою жизнь (см. Быт. 6:5), за исключением только дня своей смерти, наш незлопамятный Бог вывел из ада, чтобы привести к Себе, заплатив за это праведной Кровью Своего единственного Сына… Поэтому-то, Православная Церковь, зная что с Нею Господь, у Которого ключи от ада и смерти (см. Откр. 1:18), молит нашего великодушного и сострадательного Бога об освобождении из ада всех душ, не согрешивших грехом к смерти, и молит успешно, ибо с нами Бог!"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 227]. Итак, как посмертная участь многих людей, например, живших во времена Ноя, была изменена - сначала они были на муках в аду, а затем Христос вознёс их на небеса - так, естественно, может быть изменена и посмертная участь и других людей.
Уместно здесь указать, что такой библейский образ как "головня из огня" (см. Зах. 3:2; Ам. 4:11) прообразует собой именно таких грешников, которые за свои грехи были ввергнуты в адские мучения и как бы уже обгорели, но потом благодаря милости Божией были выхвачены из ада.
Димитрий Чуйков пишет об этом так: "В этом месте Слово Божие уподобляет Иудейский народ (Иерусалим), за свои грехи отведённый в Вавилонский плен и едва не погибший в тамошних бедствиях, но по милости Господней выведенный из этого плена - выхваченной из огня головне, то есть - головне обгоревшей, но не сгоревшей. Поэтому Зах. 3:2 содержит в себе прообразовательное пророчество об освобождении Христом из плена ада тех, кто не согрешил смертным грехом"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 220]. То есть, это ещё раз подтверждает ту мысль, что некоторые люди после смерти попадают в ад, но затем, после временного там пребывания, спасаются и восходят на небеса[Не важно, происходит это по одной лишь Божьей милости или с помощью молитв Церкви. Сейчас нам важен сам факт!]; то есть - их посмертная участь изменяется: с ада они переходят в рай.
Другой яркий пример (или лучше сказать - группа примеров) изменения посмертной участи человека - воскрешение людей. Воскресив Лазаря Христос сильно изменил его загробную участь. Димитрий Чуйков говорит: "Лазарь умер Ветхозаветным человеком, так как умер до сошествия Святого Духа; второй раз он уже умер человеком Новозаветным, то есть вошедшим в славу Церкви Христовой. Нет никаких оснований не верить в то, что друг Христа - Лазарь, был в числе учеников Христа, первыми получивших дар Святого Духа в Иерусалиме. От воскресения Лазаря до дня Новозаветной Пятидесятницы прошло совсем немного времени (приблизительно - два месяца), и конечно, Христос продлил ему жизнь больше, чем на два месяца. По преданию Церкви, Лазарь, после воскресения своего, прожил еще тридцать лет и был епископом на острове Кипре, где и скончался".
Другой "пример: воскрешение покойника от соприкосновения его трупа с костями пророка Елисея (см. 4 Цар. 13:20-21). Могло быть так, что этот неизвестный человек умер в страшных грехах, но возлюбивший его от вечности Бог даровал ему еще одну возможность спасения, воскресив его вновь к земной жизни где, в отличие от преисподней, есть место покаянному деланию. Я вовсе не утверждаю, что так все и было. Для решения нашего вопроса важно не столько то: так ли все это было или не так в этом конкретном случае, как то, что: так могло быть в этом и подобных ему случаях"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", сс. 223-224].
Поэтому, так как всякое воскрешение меняет посмертную участь человека, и так как Бог не всегда воскрешал мертвых исключительно по Своему желанию, но и просьбе и молитве святых пророков и Апостолов (см. 3 Цар. 17:19-24; 4 Цар. 4:32-38; Деян. 9:36-41; 20:9-12), то значит - святые имеют возможность своими молитвами влиять на изменение посмертной участи человека! Это - неоспоримый факт.
"Итак, - пишет Димитрий Чуйков, - улучшить после смерти человека местонахождение его души, если этот человек не согрешил грехом к смерти - возможно, а значит нужно об этом молиться, если мы желаем быть соработниками у Бога (см. 1 Кор. 3:9)["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 227]. Протестанты, возражая против православного учения о том, что молитвы Церкви могут влиять на загробную участь человека, приводят следующие места Писания.
Пс. 48:8: "Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него" - вот, ведь ясно сказано, что человек не сможет помочь умершему своими молитвами. Но в действительности приведенный стих Библии ничего не говорит о бесполезности молитв за умерших.
Прочтём данный стих в его непосредственном контексте: "Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего! человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество своё другим".
Мы видим, что, во-первых, здесь речь идёт об искуплении брата своего от первой смерти, от могилы. Действительно, такого не бывает, чтобы кто на земле "остался жить навсегда". Об этом Церковь и не молит Господа: молит она Его об избавлении не от первой, а от второй смерти (см. Откр. 20:14; 21:8) - от гиены огненной. Во-вторых, молясь Богу о спасении своих братьев Церковь не "надеется на силы свои" и не "хвалится множеством богатства своего": надеется она на безграничную силу и милость Божию, и не тленное серебро предлагает Господу в выкуп, а свои слезы, любовь и смиренное моление о возлюбленных своих собратиях.
Ин. 5:29: "И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения", а также Дан. 12:2: "И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление". Вот, в этих местах ясно говорится о том, что после смерти одни люди наследуют спасение, а другие - погибель. Но на самом деле, если мы прочтём эти отрывки внимательно и вдумчиво, то заметим, что они учат о неизменности состояния человека не после его смерти, а о неизменности этого состояния после его воскресения на всеобщий Страшный Суд, после которого уже никакого изменения в судьбе человека действительно не сможет произойти: одни на веки и неизменно наследуют Царствие Божие, другие - гиену огненную. Но в период от смерти человека (а после смерти над ним Бог совершает лишь частный суд) до Страшного Суда участь души может быть изменена по молитвам Церкви.
Итак, Библия даёт ясные примеры того, что посмертная участь человека может быть изменена и улучшена, в том числе и по молитвам святых. Потому Церковь и молит своего милостивого Бога о своих усопших собратиях. К тому же, молясь о преставившихся, Церковь исполняет просьбу ап. Павла: "Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков" (1 Тим. 2:1). Вот как заповедано Церкви молиться обо всех людях без разделения на живых и умерших, вот так Она и молится о всех, и живых и усопших, тем более зная, что у Бога все живы.
Протестантскому сознанию трудно согласится с учением, что участь человека может быть улучшена по молитвам Церкви, поскольку им кажется, что это противоречит духовному закону справедливости: "что посеет человек, то и пожнёт". На самом же деле, данное учение не нарушает данного закона, ибо всякий человек, кому молитвы Церкви помогли, был достоин таковых молитв и таковой помощи. Иначе говоря, он, живя на земле, посеял нечто доброе, что сделало его достойным молитв Церкви. Можно даже сказать, что помощь душе по молитвам Церкви есть не нарушение, а прямое исполнение сего закона (что посеет человек, то и пожнёт), ибо таковая помощь есть жатва Христа. Сын Божий всей Своей жизнью и смертью посеял доброе семя. И вот теперь Он пожинает посеянное, и одним из плодов Его крестного подвига является приобретение ключей ада и смерти, и возможность спасать людей и прощать им грехи. Тем же, кто согрешили грехом к смерти, то есть, вполне отвергли благодать, молитвы Церкви не помогут, и о таковых нельзя и молиться.
Для лучшего понимания того, на каком основании Церковь молится об усопших, важно осознавать, каким образом Бог совершает спасение человека. Протестанты склонны недооценивать участие человека в совершении спасения и настаивать исключительно на том, что спасение совершается одним лишь Христом. На самом же деле, домостроительство спасения людей Бог устроил так, что в нём участвуют многие Божьи люди. Для того, чтобы совершилось спасение, нужен был Авраам, который поверил Богу и возлюбил Его всей душой, и стал родоначальником Израильского народа, из которого произошёл Спаситель. Для спасения человечества нужны были и пророки, возвестившие приход Христа; нужны были и другие праведники Ветхого Завета, чающие прихода Мессии и своими молитвами и благочестием ускорявшие Его приход. Для спасения человечества нужна была Пресвятая Дева, которая своей чистотой и доброй волей сделала возможным Боговоплощение. Для спасения людей нужны были и Апостолы, насадившие первые церкви и написавшие Новый Завет. Нужны были и переписчики Библии, благодаря которым до нас дошло Св. Писание; нужны были и переводчики, и распространители Библии, без которых мы бы не могли познакомиться со Словом Божием. Нужны были и отцы Церкви, которые растолковали Св. Писание, и которые боролись и победили многие страшные ереси, отстаивая чистоту Веры Христовой. Для спасения человека нужны благовестники и проповедники, как пишет о том ап. Павел: "Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?" (Рим. 10:13, 14). Для спасения нужны и епископы со священниками, которые имеют власть от Бога крестить человека во Христа, передать ему Духа Святого, отпустить ему грехи и причастить Телом и Кровью Христовой[Об этом читать в соответствующих главах во второй части книги], что необходимо для получения спасения. И многие ещё люди нужны Богу для совершения спасения. Одним словом, Бог не совершает спасения человека без участия самого человека, а только в сотрудничестве и со Своими "соработниками"! Как пишет о том известный протестантский писатель Павел Биллхаймер: "Без Неё (Церкви) Он не осуществляет спасения ни одного человеческого существа"["Предназначенная для престола", изд. SGP, 1990 г., с. 80].
Таким образом, Сам Бог устроил спасении человека так, чтобы в нём во всей полноте участвовала Его возлюбленная Церковь различными путями и средствами. И во всём многообразном и многостороннем домостроительстве спасения человека есть место - причём очень важное - и молитвам Церкви - как за живых, так и за усопших своих собратий, потому как "у Бога все живы". Протестанты, хотя им это не по душе, способны будут согласиться с тем, что не только Христос, но и многие святые потрудились для спасения человечества, но они только не хотят признать, что в домостроительстве спасения есть место и молитвам за усопших. Но это проблема узости и усечённости протестантского мышления, от чего протестанту нужно лечиться и что ему нужно преодолевать. Богословское же обоснование таким молитвам уже было дано и на основании Библии, и на основании веры древней Церкви.
2) О прощении грехов по молитвам других.
Протестанты говорят, что путь прощения грехов есть только один - самому человеку попросить Бога прощения. Православные же утверждают, что Бог может простить человеку грехи не только по его личной просьбе, но и по молитве и просьбе (ходатайстве) других. Кто же в этом вопросе заблуждается, а кто говорит правду? В Евангелии мы находим ясные свидетельства того, что И. Христос прощал грехи людям по просьбе их близких: "И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и… спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои" (Мр. 2:3-5; ср. Мф. 9:2; Лк. 5:17-20).
Кроме того, Христос не раз исцелял людей по просьбе их ближних (см., напр., Мф. 8:5-13; 15:22-28). При всяком же исцелении прощаются грехи, как о том засвидетельствовал Сам Иисус: "Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой" (Лк. 5:23,24). Таким образом, Христос многократно прощал людям грехи по просьбе других, и сейчас может прощать грехи людям по молитвам Своей Церкви.
Кроме того, прощение грехов возможно не только в этой жизни, но и после смерти: "Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем" (Мф. 12:31-32). Из этих слов следует, что некоторые грехи могут быть прощены и в будущем веке, то есть и после земной жизни человека. После смерти нет уже возможности принести плоды покаяния, но есть возможность прощения грехов. И. Христос есть Господь неба, земли и ада, от которого у Него есть ключи. Он полномочен помиловать, спасти и простить кого и когда Ему угодно, а протестанты ограничивают милость и всемогущество Христа. Простить же Господь может грехи не только по просьбе самого человека, а и по просьбе других. Потому, зная силу и милость Божию, верные Христовы рабы и просят Его о спасении, прощении грехов и помиловании тех, кто дорог их сердцу.
Если же протестантам так нравится уничижать роль святых как соработников Христовых в деле спасения людей; если они считают правильным в спасении оставлять только главное - что это заслуга Христа, то можно и с этой позиции рассмотреть данный вопрос: православные полностью согласны с тем, что всякий человек спасается только благодатью Христовой. И если святые молятся о спасении своих ближних, то лишь потому, что в них "Бог производит… и хотение и действие по Своему благоволению" (Фил. 2:13). Иначе, молитвы Церкви это и есть часть Божьей благодати. Протестантский пастор и писатель доктор Освальд Смит пишет: "Когда Бог влагает в сердце жажду молиться о пробуждении, это первое доказательство того, что Он желает послать пробуждение…"["Пробуждение, в котором мы нуждаемся", гл. 1].
Так вот, это относится не только к молитве пробуждении, но и ко всякой молитве о за ближнего. Бог, желая спасти, простить и помиловать человека, сначала Сам даёт кому-либо из Своих святых любовь к этому человеку и желание о нем молиться, а потом уже, в ответ на эти молитвы, спасает его. Получается, что спасение совершил Сам Бог, но не без участия Своей Церкви. Почему Христос всё делает только при содействии Своей Церкви? Потому, что Церковь с Ним - единое Тело; потому, что Он хочет, чтобы мы были Его соработниками во всём; потому, что Он хочет научить нас любви и милосердию Христовому, привить нам "те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Фил. 2:5). Хочется опять процитировать протестантам их собрата Павла Биллхаймера, который прямо утверждает, что "…спасение… находится в явной зависимости от того, ходатайствует ли Церковь или нет за человеческие души. Те, за кого Церковь усердно просит, спасаются"; "…ни одна человеческая душа не может быть спасена без молитвенного ходатайства…"["Предназначенная для престола", с. 79]. Таким образом, нет ничего удивительного, что человек спасается и его грехи прощаются благодаря, в том числе, и молитвам Церкви.
Поэтому вопрос о том, может ли по молитве Церкви быть улучшена посмертная судьба человека и прощены его грехи сводится к вопросу: может ли Христос изменить посмертную участь человека и после смерти разрешить его от грехов? Да, Христос может всё: Он может простить и помиловать кого Сам пожелает, отворить врата ада и вывести из него любого грешника[На возражение о том, что вывести из ада грешного человека - не справедливо, нужно сказать, что, во-первых, каждый спасающийся спасается не по справедливости, а по милости и благодати Божией (см. Еф. 2:8-9); во-вторых, грешники, согрешившие грехом к смерти, никогда не выводятся из ада, а только те грешники, в которых найдено нечто доброе, и которые не вполне отвергли благодать Божию]. А если Церковь в деле спасения людей сотрудничает со Христом своими молитвами, то это только потому, что Христос все свои дела разделяет со своей Церковью; потому, что Сам Христос желает всё делать при участии Своих святых, которых делает Своими сотрудниками.
Здесь хочу присовокупить ещё одно рассуждение, которое, как думаю, имеет важное отношение к рассматриваемому нами вопросу. Дело в том, что всякий грех каждого человека почти никогда не является только его личным грехом. Видимо об этом думал Ф. Достоевский, когда сказал простую, но гениальную фразу: "все за всех отвечают". Это значит, что в грехе отдельно взятого человека участвуют очень многие. Например, случай из нашей жизни: подростки жестоко избили прохожего. В совершённом зле его непосредственные исполнители, возможно, виноваты меньше многих других. А главную ответственность несут те взрослые, которые сняли и позволили показывать по телевизору бесконечные фильмы, прославляющие насилие; виноваты те поколения, которые строили жизнь без Бога, и вытравили веру и страх Божий из душ последующих поколений. Другой пример - современная молодёжь живёт в блуде. Но этот выбор каждый молодой человек делает не просто сам по себе, а потому, что другие до него совершили так называемую "сексуальную революцию" и сделали такую жизнь нормой, а целомудрие высмеяли и сделали чем-то постыдным.
То есть, если ли бы эти люди родились бы в другом веке и были воспитаны в другой среде, то многие из них не совершали бы этого греха, ибо всё общество имело совершенно иные понятия, когда девица, не сохранившая целомудрия, была в страшном позоре, а целомудрие считалось честью. Таким образом, за блудодеяния современной девушки отвечает не только она сама, а все, которые подали ей дурной пример, и в каждом грехе всякого человека есть часть вины других людей. Поэтому, все за всех отвечают. Посему, и молиться можно и нужно не только о прощении своих грехов, но и о прощении грехов наших ближних, в которых частично есть и наши грехи. И Церковь постоянно из самой древности так молится. На службе она молится о прощении грехов и живых - например: "Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих (имена)" - и умерших: "Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена) и о прощении им всякого прегрешения вольного же и невольного". Эта мысль - о том, что мой личный грех всегда худо сказывается на моих ближних и причиняет им духовный вред - настолько близка Православию, что Церковь с давних времён установила обычай в прощённое воскресенье всем у всех просить прощения.
Признаюсь, что в начале, ещё не до конца оставив свои протестантские воззрения, я не совсем понимал, за что мне нужно просить прощения у человека, которого я никогда не видел и ничего ему дурного не сделал. Я сильно удивлялся, когда ко мне подходили люди и искренно, а иногда и со слезами, просили прощения. Но со временем, глубже вникая в истинную суть греха и ответственности за него, мне стало очень понятна полная адекватность и правомерность того, чтобы и у незнакомого человека искренне просить прощения! Но понять это можно только если глубоко, по православному понимать грех и его последствия.
В связи с размышлениями о том, что по молитвам Церкви может быть спасён даже грешник из ада, у протестантов часто возникает вопрос: значит тогда можно грешить, жить в своё удовольствие, а Церковь о нас помолится и мы спасёмся? Нет, эта мысль - дьявольский подлог и лукавство, а с лукавым Бог поступает "по лукавству его" (Пс. 17:27). Таковому молитвы Церкви чаще всего не помогут. Кто сознательно грешит, тот как раз таки совершает грех к смерти, тот хулит Духа, о чем пишет и ап. Павел: "Ибо если мы... произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех..." (Евр. 10:26). О таковых Церковь Небесная и не будет молиться; таковых Христос и не помилует. А если на земле и будет кто по неведению молится о "согрешивших грехом к смерти", то Господь такую просьбу не исполнит.
А что Бог не всякое прошение христианина исполняет понятно хотя бы из того, что даже мольбу Своего возлюбленного Сына Отец не исполнил, когда Христос просил о том, чтобы чаша скорби Его миновала (Мф. 26:39): не исполнил Бог и усиленную просьбу Своего избранного Апостола (2 Кор. 12:8-9). Но если молящийся просит с добрым расположением сердца, вверяя всё в руки Божии, то такая молитва не будет для него бесплодной и вернется к нему подобно миру, который возвращается к человеку, если пожелание мира было направлено к недостойному (см. Мф. 10:13). Тем же, кто стремился при жизни совершать своё спасение и жить по заповедям Божьим, молитвы Церкви обязательно помогут.
Возражение 8. Е. Пушков пересказывает свой разговор с неким священником, обращая его в аргумент против молитв за упокой: "Однажды я спросил православного священника: ''Вы действительно при отпевании покойника имеете право отпускать грехи, когда произносите: 'Отпускаются грехи рабу Божьему'?''. Он посмотрел на меня, чуть смутился и тихо ответил: ''А знаете, как я стал немного добавлять в этом месте?'' - ''Нет, не знаю''. - ''Я начинаю: 'Отпускаются грехи рабу Божьему, - а потом быстро и негромко, чтобы никто не успел разобрать, добавляю, - за которые он попросил прощение'''. Какой вдумчивый священник!".["Не смущайся", глава "О молитвенном общении земной и небесной церквей"]
Как видим, Е. Пушков ставит вопрос так, что Православие безумно заповедует отпускать покойному все грехи без исключения, и вот только некоторые умные священники додумываются до того, что нужно отпускать только те грехи, в которых человек покаялся. На самом деле, в разрешительной молитве, читаемой священником над покойным, говорится: "Иисус Христос… да подаст прощение чрез меня смиренного и этому чаду духовному (имя) во всем, в чем он как человек согрешил пред Богом словом, или делом, или мыслию и всеми своими чувствами, вольно или невольно, сознательно или по неведению. Если же он оказался под запрещением или отлучением архиерейским или иерейским, или если проклятие отца своего или матери своей навлек на себя, или под свое проклятие подпал, или нарушил клятву, или какими-либо иными грехами как человек был связан, но во всем том сердцем сокрушенным покаялся, и от вины во всем том и уз да разрешит его".
То есть, в молитве священник и так разрешает умершего только от тех грехов, в которых он "сердцем сокрушенным покаялся". И эту мысль вовсе не нужно добавлять "быстро и негромко, чтобы никто не успел разобрать" - она и так есть в тексте молитвы. Ведь и церковно-славянский текст, на котором происходит служба, вполне в этом месте понятен, особенно для священника: "но о всех сих сердцем сокрушенным покаяся, и от тех всех вины и юзы да разрешит его". Поэтому, если такой разговор действительно имел место, то священника того нужно не похвалить, а поругать, и ни за что иное, как именно за не вдумчивость и не внимательность к тому, что он постоянно читает. Посему похвалу Пушкова мы со всей справедливостью перенесём с того священника на Православие вообще.
А вот и конец этого разговора: "Но я еще задал ему вопрос: ''А если он попросил прощение за грехи у Бога, то что их отпускать? Они уже прощены...'' - ''Так уж у нас принято'', - ответил он". Да, принято, и как всё, принятое в православных службах, сделано это очень мудро и обоснованно, ибо в грехах нужно не только самому каяться пред Богом, но и исповедовать их священнику, и от него получать разрешение грехов, по слову Христу (Ин. 20:21-23) - об этом подробно будет говориться в гл. 16. Вот потому грехи, в которых покойный покаялся, но не исповедался, и разрешаются священником при отпевании.
Возражение 9. В связи с молитвами Церкви об умерших, протестантов сильно смущает то обстоятельство, что священники часто отпевают откровенных грешников, которые даже в Храм почти не ходили.
Всё дело в том, что у протестантов очень упрощенный взгляд на грех. Кто у них спасённый, возрождённый христианин? Тот, кто ходит на их собрания постоянно, не пьёт, не курит, не сквернословит, не блудит. Православные же не могут по таким поверхностным признакам судить человека, и если даже человек редко ходил в храм при жизни, или курил и выпивал[Об особом отношении протестантов к этим грехам будет сказано дальше, в главе о Церкви], то мы вовсе не можем с достоверностью знать о том, согрешил ли он грехом к смерти или нет? Может быть, он перед смертью горько раскаивался; может быть он, хотя и грешил, но прощал обиды и не помнил зла, а значит и Его Христос простит по Своему слову: "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный" (Мф. 6:14). Может быть он, кроме грехов, творил и милость, а значит и его Христос может помиловать по Своему обетованию: "блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Мф. 5:7). Может он, много согрешая, никого не осуждал, а потому и его Бог не осудит, как написано: "не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить" (Мф. 7:1,2). Может быть он, хотя и грешил, не оправдывал себя, но укорял и считал себя последним грешником, и Бог Его за это, как мытаря, может помиловать. Разве мы можем точно знать, что вот этот конкретный человек не имел хотя бы какой-то из вышеназванных добродетели (или какой иной), благодаря чему Бог может его помиловать и спасти? Тем более, что нам заповедано творить добрые дела тайно, и мы не можем знать, что данный человек не творил таких дел. Ведь суд Божий и сердце человека чаще всего не находится в нашем ведении.
Нельзя молиться только о тех, кто согрешил грехом к смерти, как пишет о том ап. Иоанн: "Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился" (1 Ин. 5:16). Но так как водительство Духа Святого в наши дни оскудело, и мало кому сегодня Дух Святой говорит так прямо, как говорил в древние времена (см. Деян. 16:6; 19:23), то чаще всего священник и родственники умершего не знают наверняка, согрешил ли покойный грехом к смерти, или нет. Церковь не отпевает лишь самоубийц, воинствующих атеистов, сектантов и умерших в пьяном угаре. В этих случаях грех к смерти очевиден, и за таковых Церковь запрещает молиться. Но если священник не знает ничего такого о новопреставленном, а знает только, что он, как и всякий человек, грешил и не был активным членом Церкви, то он может о нем помолиться.
Возражение 10. В Православии существует обычай с одними просьбами обращаться к одним святым, а с другими - к другим. То есть, Православие признаёт, что хотя ко всем святым можно обращаться со всякими просьбами, тем не менее, одни святые могут скорее и лучше помочь в одних делах, а другие - в других. Но так как протестант вообще ничего не хочет знать ни о какой деятельности святых на небесах, ни о каких их молитвах и никаком ходатайстве, то дополнительная информация о жизни святых вызывает у протестантов только отторжение. Но кроме неприятия, они изобрели и возражение против этого верования, говоря, что такое распределение обязанностей между святыми православные взяли из язычества, где одни боги отвечают за любовь, другие за войну, третьи за плодородие и т.д.
На самом же деле, никакого плагиата из язычества здесь нет. Напротив, дьявол, создатель язычества, зная об устройстве Божьего мира, где Ангелы отвечают за различные народы, стихии и т.п., подражая во всём Богу, перенёс эту идею в язычество, где Ангелов заменили лже боги.
Идея о том, что святые имеют не одинаковую благодать помогать во всех делах, происходит от ясного понимания того, что личностные качества, дарования и жизненные подвиги человека при переходе в вечность не утрачиваются и не стираются. Поэтому, если какой либо святой претерпел за Христа муки, то Бог на Небесах даёт ему благодать и способность особо помогать тем, кто страждет. Если святой на земле был бессребреником, как, например, святые Иоанн Креститель, и Косма и Дамиан, то таковые получают в Царствии Небесном большое дерзновение испрашивать у Бога помощи именно нуждающимся. Если святой прославился миссионерством, как, например, ап. Павел, и Кирилл и Мефодий, то таковой имеет благодать помогать именно в благовестничестве, в обращении людей ко Христово/strongй Вере. Если св. Киприан был при жизни колдуном, а потом с покаянием и великой ревностью обратился ко Христу, то теперь он имеет власть помогать бесноватым и защищать от всяких нападений бесовских, ибо сам силою Христовой победил бесовскую прелесть, и т.д.
Признаюсь, что когда я узнал это объяснение, меня оно просто восхитило своей справедливостью и внутренней логикой. Этого действительно жаждет каждая душа, чтобы она и после смерти оставалась собой, со своими особенностями, и не была просто усреднена и обобщена. Таким образом, данное православное верование не должно вызывать возражений. Напротив, оно очень гармонично встраивается во всё, что мы знаем о человеке, о Боге и о том, как общался с людьми Христос.
Подытоживая наш разговор, скажу, что для человека разумного, чистого сердцем и чуткого к тихому и умиротворяющему гласу Духа Святого, для согласия и принятия учения Православной Церкви о молитвенном общении небесной и земной Церкви не нужно даже столько аргументов и доказательств, сколько мы рассмотрели выше. Ему достаточно хорошо знать всего несколько библейских истин: "у Бога все живы"; "любовь никогда не перестаёт"; "Церковь есть тело Христово" и "Христос имеет ключи ада и смерти".
Если бы протестанты правильно, в достаточной полноте понимали смысл этих слов, то они бы никогда не спорили с учением Церкви о молитвенном общении во всём теле Христовом. Протестанты скажут, что этих истин никак не достаточно для обоснования вышеописанного православного учения! Но недостаточно этого для маловеров, привыкших мыслить только рационально; Христос же не так мыслил. Вспомним, например, какой стих из Ветхого Завета привёл Иисус саддукеям, не верующим в воскресение, в доказательство того, что воскресение все же будет (см. Лк. 20:37)? Он процитировал слова Бога, сказанные Моисею: "Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова" (Исх. 3:6). Заметьте, что в этом месте буквально нет ни слова о воскресении мертвых! Если бы протестанты не знали, что такое доказательство в пользу воскресения привел Сам Христос, то они никогда не приняли бы его как доказательство воскресения мёртвых. И если саддукеи и подобные им, жившие до Христа, скажут Богу на суде: "как мы могли веровать в воскресение, когда прямо об этом не было написано?", то Бог приведёт им это место и скажет, что о воскресении было написано, и если бы вы были чисты сердцем, то не отрицали бы этой истины. Христос привел такой аргумент исходя из знания природы вещей и пользуясь неповреждённой, Божественной логикой: если Бог есть Бог Авраама, а живой Бог не может быть Богом мёртвых, то значит, есть воскресение! Как мудро, но как непривычно для человеческой, особенно современной логики!
Подобно Христу и Церковь, постигая Духом Святым суть вещей, учит, что достаточно только правильно, в Христовой логике понять, что значит "у Бога все живы", чтобы согласится с православным учением о молитвенном общении прославленной и странствующей Церкви. Для помощи же маловерным Церковь предлагает и другие многие аргументы и свидетельства из Библии и жизни первых христиан о сих догматах, которые мы в достаточной мере рассмотрели. Если же и после этого человек упорствует в своём неверии, то не остаётся ему уже извинения.
Напоследок замечу, что все древние христианские секты, как то: несториане, иаковиты, сирийцы, абиссинцы, копты, армяне, католики и другие содержат в своей догматике учение о молитвенном общении небесной и земной Церкви. Этот факт в очередной раз свидетельствует, что в древнем христианском мире это учение было неоспоримым. Эти секты отделились от Церкви по причине разномыслия с Ней касательно других вопросов, но отрицать молитвенную связь небесной и земной Церкви даже они не решались. Дьяволу предстояло еще много потрудиться в подготовке почвы для того, чтобы такое чуждое для Церкви учение как отрицание молитвенной связи между небесной и земной Церковью могло найти сочувствие среди людей.
Эта почва начала подготавливаться через католицизм. Отступив от истины и порвавши связь с Церковью, католики ударились в неправые нововведения, изобретая множество ересей.
Реформаторы, желая очистить церковь от них, правильно не разобравшись во всех вопросах, отвергли вместе с ересями и многие вполне здравые, библейские и древнехристианские догматы. Вот так и появились такие странные сектанты, у которых совершенно отсутствует чувство связи и единства с Небесной Церковью. Они вроде бы признают, что с ними всю жизнь находится рядом Ангел, разумная и добрая личность, всегда видящая и слышащая их, но к нему они никогда не могут сказать ни слова, считая это спиритизмом; которые даже на похоронах своей матери, от всей души желая ей спасения и Царствия Небесного, не могут выразить этого своего желания даже в самой краткой молитве к Богу, и сказать: "Царствие ей Небесное"!
II. О ПОЧИТАНИИ АНГЕЛОВ И СВЯТЫХ
Теперь ответим на вопрос: можно ли почитать и прославлять святых?
Православные сложили немало различных песнопений в честь и славу угодников Божиих. Как можно прославлять людей, пусть даже и святых, если Господь сказал: "...не дам славы Моей иному..." (Ис. 42:8). Этот стих для протестантов особо памятный, и они постоянно его приводят в опровержение церковного почитания и прославления святых. Одним словом, протестанты не желают прославлять и почитать никого, кроме Бога, как писал мне в письме один баптист: "Приведите основание человекопочитания в Православии". Понятно, что протестант использует слово "человекопочитание" только негативно и с осуждением. Вот такие обвинения в адрес Церкви еще раз ярко свидетельствуют об однобокости и примитивности протестантского богословия, об устойчивом навыке одни места Писания замечать и делать их ключевыми в своём вероучении (при этом часто неправильно их толкуя), а другие - напрочь игнорировать. Так что же могут ответить на это православные, и как могут оправдать своё "человекопочитание"?
Итак, во-первых, в Ис. 42:8 совершенно ничего не говорится о славе святых. Прочтём этот стих полностью: "Я - Господь, это Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам". Здесь использован обычный для Ветхого Завета приём, называемый параллелизмом, когда вторая часть стиха говорит о том же самом, что и первая часть, только другими словами. Таких мест в Библии великое множество. Например: "Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты"; "я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего"; "Служите Господу с веселием; идите пред лицом Его с восклицанием" (Пс. 31:1,5; 99:2). "Отпущены грехи" и "беззакония покрыты" это одно и то же, сказанное разными словами для усиления. Таким образом, "не дам славы Моей иному" и "не дам хвалы Моей истуканам" - одно и то же; то есть речь идёт о том, что Бог не даст славы своей истуканам, идолам - иному ложному богу. Поэтому, здесь вообще нет речи о славе святых, и относить этот стих к данной теме, как постоянно это делают протестанты, совершенно нелепо.
Во-вторых, о славе святых говорится в других местах Библии, но только противоположное тому, что сказано в Ис. 42:8, ибо если истуканам Бог не даст Своей славы, то Своим верным рабам Он с радостью её даёт - и вот тому библейские подтверждения.
1) "славу, которую Ты дал Мне, Я дал им" (Ин. 17:22)! Ясно, чёрным по белому написано, что Христос дал славу Своим рабам.
2) "А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил" (Рим. 8:30). Если Сам Бог прославляет Своих избранных и святых людей, то тем более и мы должны их прославлять.
3) "Господь возвысил рог[В еврейском словоупотреблении "рог" обозначает славу, честь и силу (см., напр., 1 Цар. 2:1; Пс. 88:18; 111:9)] народа Своего, славу всех святых Своих..." (Пс. 148:14). Так Бог возвышает и дарует святым Своим славу, как православные, или унижает и отнимает её, как протестанты?
4) Бог прямо говорит: "Я прославлю прославляющих Меня" (1 Цар. 2:30).
5) В 1 Тим. 1:17 ап. Павел говорит: "Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь". Но он же говорит и другое: "...слава и честь, и мир всякому, делающему доброе..." (Рим. 1:10). То есть Божественная слава и честь в высшем смысле принадлежит только Богу, но слава и честь есть у Бога и для Его святых, делающих добро.
6) Деян. 5:13: "народ прославлял их", то есть не просто Бога, а верующих, святых, а лучше сказать - "Бога во святых Его".
Вот мы и увидели библейские основания тому, что Бог дарует славу Свою иному, если этот иной Его раб и угодник, а не идол. Это даёт основание и для почитания тех, кого Бог прославляет. Библия, кстати, заповедует нам "человекопочитание" и в других прямых заповедях, таких как "почитай отца твоего и мать твою" (Исх. 20:12); "всех почитайте… царя чтите" (1 Пет. 2:17), "почитайте таковых (усердных служителей Церкви)" (1 Кор. 16:18) и т.п. Все, о ком здесь говорится - люди, а значит, Библия прямо учит нас человекопочитанию, но протестанты не могут никак этого понять и увидеть очевидного. Как они не отличают святыни от идолов, так не отличают они Богоугодное почитание Божьих рабов от почитания идолов.
В возражение прославлению святых протестанты приводят ещё одно место из Псалтири: "Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу…" (Пс. 113:9), говоря, что вот, сами святые не желают себе славы, а только имени Божию. Но эти слова никак не отменяют других мест Библии, приведенных выше, где говорится о славе святых. Да, святой, живя на земле, никогда не ищет себе славы, а только славы имени Божия. Более того, часто он даже избегает славы и чести, делая добрые дела тайно именно с тем, чтобы никто из людей его не славил. Многие хорошие священники, монахи и прихожане, с которыми я знаком, имеют стойкий навык сразу прекращать или менять тему разговора, если только кто-либо начинает их за что-то хвалить. Об этом всем православным хорошо известно. Одна монахиня привратница, с которой мне довелось говорить, даже не хотела мне назвать своего имени, и всё по причине смирения и скромности. В таком духе - забывать о себе и всё делать только во славу Божию - и живёт всякий истинных христианин. Но этот путь смирения и есть кратчайший путь к небесной Божественной вечной славе! Ап. Павел пишет, что "тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия" Бог воздаст "жизнь вечную" (Рим 2:7).
То есть, искать себе истинной вечной славы и чести не только не осудительно, но, напротив, Богоугодно, и к этому и призывает нас всё Евангелие. И как раз те, кто, живя на земле, "отвергались себя" и искали славы Божией получат от Бога вечную славу и честь. Поэтому, Пс. 113:9 никак не противоречит тому, что Церковь прославляют святых Христовых, которые уже совершили своё земное поприще, и почитает тех, кого сама Библия заповедует почитать.
Нужно здесь сказать, что протестантизм не понимает (или почти не понимает) суть величайшего библейского и богословского понятия об обожении,[Об обожении будет сказано также в гл. 15, ответ на возражение 5] которое заключается в том, что Бог, по Своей великой любви, в которой нет никакой зависти, пожелал разделить Свою любовь, радость бытия, славу и саму Свою Божественность со Своим творением, со Своей Невестой - Церковью.
Отцы Церкви говорили: "для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом"; "человек по благодати должен стать тем, кем Бог является по существу". О том, что Церковь станет с Богом одним неразрывным целым, свидетельствует и Св. Писание: "Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть" (1 Ин. 3:2); "…дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества…" (2 Пет. 1:4); "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви" (Еф. 5:31-32). Бог по Своей чудной и умом не постигаемой любви соединяется со Своими святыми всецело, уподобляет их Самому Себе, делает их причастниками (частью) Своего Божеского естества, разделяя с ними Свою честь и славу, а протестанты всё боятся, как бы не прославить кого из святых. Господь по бескорыстной любви даёт славу Своим святым, а протестанты противятся и уничижают эту славу. Они как бы говорят Богу: "возьми Свою славу назад; не нужно ею делиться с Церковью, ибо только Ты достоин славы и хвалы". Что и говорить о том, что такое их "смирение" и "беспокойство" о Божьей славе в ущерб святым только прогневляет Бога. Это всё равно, как если кто-либо из рабов фараона, оказавшему честь Иосифу и возвысившего его, отказывались бы чтить его и говорили фараону: "мы не будем его чтить, ибо только ты достоин славы и чести". Понравилась бы это фараону? Вот так поступают и протестанты: отказываясь признавать, принимать, почитать и прославлять великих святых Божиих - отцов Церкви, даже древнейших, и других великих Божиих рабов - мучеников и святых - они тем самым только оскорбляют и отвергают Бога, пославшего и прославившего их, действовавшего и говорившего через них, а не увеличивают славу Бога!
Православные же не указывают Богу и принимают Его бесконечную любовь, поступая по Библии. Раз Сам Христос дарует славу Своим верным Апостолам, пророкам и святым, то Церковь их и прославляет. Прославляя святых, Церковь тем самим прославляет, прежде всего, Самого Бога, ту благодать Божию, которая сделала грешного человека святым и возвысила его до высоты обожения. Св. Писание говорит нам, что Христос "...приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших..." (2 Фес. 1:10), а также: "дивен Бог во святых Своих"[Цит. по церковно-славянскому переводу - буквальному переводу Септуагинты] (Пс. 67:36). В 3 Мак. 2:16 Бог также именуется "Святым во святых". То есть, через святых прославляется Сам Бог. Чем больше Церковь прославляет святых, тем больше Она прославляет Господа; через святых и верных прославляется Сам Бог, как пишет о том ап. Павел; слава Бога при этом только умножается, а не отнимается, как трактуют это протестанты.
Если мы теперь обратимся к вере древней Церкви, то увидим, что вопрос о почитании святых у протестантов поставлен вовсе не так, как у первых христиан, которые:
1) Устанавливали празднества и Богослужения в честь святых.
Книга Постановлений Апостольских, перечисляя дни, в которые рабов должно было освобождать от трудов, говорит: "Да не работают во дни Апостолов: ибо они были наставниками вашими во Христе и даровали вам Св. Духа; да празднуют в день первомученика Стефана и во дни прочих святых мучеников, которые предпочли Христа своей жизни"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 548].
Христиане начала II-го века, свидетели мученической кончины св. Игнатия Богоносца, по их собственным словам "заметили для себя день и час, дабы, собираясь во время его мученичества, иметь общение с подвижником[Общение, конечно же, молитвенное. Это еще одно важное свидетельство того, что Церковь с самого начала молилась святым] и доблестным мучеником Христовым, поправшим диавола, и совершившим путь своего Христолюбивого желания во Христе Иисусе Господе нашем"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 548].
Факт существования в древней Церкви подобного обычая признаёт С. Санников: "Основываясь на указаниях Апостола Павла (Евр. 13:7) и общепринятых нормах того времени, довольно рано возник обычай вспоминать мучеников и наставников. Обычно в годовщину страдания на месте погребения мученика собиралось общественное собрание, на котором читались его деяния, его письма и так называемые мученические акты, описывающие его героическую кончину. После этого служители увещевали к подражанию его добродетельности, возносили молитвы; иногда совершались хлебопреломление и агапа - общая трапеза"["Двадцать веков христианства", том. I, с. 148].
Конечно, С. Санников говорит в общем - "возносили молитвы", не указывая на то, что древние христиане обращались в молитве, особенно в день памяти мученика, не только к Богу, но и к самому мученику (о том, что древние христиане молились усопшим мученикам и святым, мы ясно видели выше).
Заметим, что древнехристианский обычай поминать дни кончины мучеников
1) совершением в этот день Богослужения;
2) чтением об их жизни и подвигах и
3) молитвами к ним - сохранился в Православной Церкви до сего дня; протестантизм же ничего подобного не знает.
Церковь смирнская II-го века в своем послании описывает мученичество св. Поликарпа, где в частности говорится: "Мы собрали его кости, - сокровище, драгоценнее дорогих камней и чище золота, - и положили их, где следовало. Туда, как только можно будет, мы станем собираться с веселием и радостью, - и Господь соизволит нам праздновать день его мученического рождения, как в память уже совершивших свой подвиг, так и в научение и утверждение будущих подвижников"["Православно-догматическое богословие", том II, стр. 548].
Евсевий Кесарийский (263-340 гг.): "У нас обычай и посещать гробы (святых), и совершать здесь молитвы, и чтить блаженные их души, - и это признаем мы делом справедливым"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 560].
Св. Василий Великий (IV в.) писал: "Памятью мученика (Маманта) вся страна пришла в движение; весь город принимает участие в празднике; не родственники сходятся к гробам отцов, но все приходят на место благочестия… Видишь, как чествуется добродетель, а не богатство. Так Церковь, чем чтит предваривших, тем самим возбуждает живущих еще. Не домогайся, говорит она, ни богатства, ни мудрости мира преходящей (1 Кор. 2:6), ни славы увядающей, - все это исчезает вместе с жизнью: но будь делателем благочестия; оно и на небо вознесет тебя, оно приуготовит тебе и бессмертную жизнь, и продолжительную славу у людей"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 551].
О том, что древняя Церковь имела обычай ежегодно праздновать и совершать Богослужения в дни кончины мучеников, подтверждают и другие Отцы и учителя Церкви - Тертуллиан, Киприан, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Августин[См. "Православно-догматическое богословие", том II, с. 548-549] (некоторые из них приводились в главе 1, раздел 3 "о святых мощах").
2) Древние христиане, также, сооружали Божьи Храмы во имя святых мучеников на местах их страдания и погребения. Такие Храмы назывались мартириями (от греч. ![]() (мартир) - мученик). О том, что такие мартирии существовали в древних городах Петре, Дафнах, Дрипии, Никомидии, Константинополе и других местах, упоминают Евсевий Кесарийский, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин. Известны знаменитые древние Храмы: во имя св. Апостола Фомы в Едессе, во имя св. ап. Иоанна Богослова около Константинополя, во имя св. Марии в Ефессе, где собирался Третий Вселенский Собор, и другие[См. "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 549-550]. Эта практика существует в Церкви и поныне. Баптисты же и прочие протестанты, не посвящают храмов ни мученикам ни другим святым, да и вообще не имеют храмов, что говорит о том, что и в этих вопросах они отступили от веры и жизни древней Церкви.
(мартир) - мученик). О том, что такие мартирии существовали в древних городах Петре, Дафнах, Дрипии, Никомидии, Константинополе и других местах, упоминают Евсевий Кесарийский, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин. Известны знаменитые древние Храмы: во имя св. Апостола Фомы в Едессе, во имя св. ап. Иоанна Богослова около Константинополя, во имя св. Марии в Ефессе, где собирался Третий Вселенский Собор, и другие[См. "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 549-550]. Эта практика существует в Церкви и поныне. Баптисты же и прочие протестанты, не посвящают храмов ни мученикам ни другим святым, да и вообще не имеют храмов, что говорит о том, что и в этих вопросах они отступили от веры и жизни древней Церкви.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) говорит: "Скажи мне, где гроб Александра (Македонского)? Укажи и скажи, в который день он умер? А гробы рабов Христовых славны, и находятся в царственном городе; дни кончины их известны, ибо составляют торжество[Свидетельство того, что христиане праздновали дни кончины святых] для целой вселенной. Александрова гроба не знают и свои; а гроб Христов знают и варвары. И гробы рабов Распятого блистательнее царских дворцов, не только по величине и красоте строений[Указание на то, что на местах захоронения святых строились храмы, под час весьма величественные], - ибо и в этом они превосходнее, - но, что гораздо важнее, по ревности приходящих к ним. Ибо и тот, кто носит багряницу (т.е., царь, правитель), приходит лобызать гробы сии, и стоит пред ними, и молит святых, чтоб предстательствовали за него[Указание на то, что древние христиане молились святым и верили в их молитвы и ходатайство пред Богом за нас] пред Богом. В предстательстве уже умершего, скинотворца[То есть, изготовителя палаток. И. Златоуст имеет ввиду Ап. Павла] и рыбака, имеет нужду облеченный в диадиму"[См. гл. 1, § 89].
Не знаю, как воспримет и оценит эти свидетельства почтительного отношения древней Церкви к своим святым мой читатель, но я скажу о себе. По мере ознакомления с этими и подобными свидетельствами, в моей душе возрастало тяжелое чувство и непреодолимое осознание того, что протестантское основополагающее убеждение в том, что "историческая Церковь" удалилась от истины, а протестантизм - это возвращение к вере древней Церкви, есть полнейшая ложь и иллюзия! (И главное, что эта ложь очевидна при изучении всех спорных вопросов!). Это убеждение протестанты просто имеют и веруют в его истинность, но оно совершенно не подтверждается историческими свидетельствами.
Но если протестанты хотят знать правду, а не выдавать желаемое за действительное, то необходимо признать, что древняя Церковь относилась к святым совершенно не так, как они сейчас к ним относимся. И Православная Церковь, а не протестанты, сохраняют веру и практику древней Церкви. Она до сегодняшнего дня, как и древняя Церковь,
1) празднует дни кончины Апостолов, мучеников и святых;
2) совершает в эти дни Богослужения;
3) обращается в молитвах к мученикам и святым, веруя в свою очередь в их молитвы о нас; и
4) называет Храмы именами святых.
Итак, протестанты весьма уничижают роль, славу и честь Ангелов и святых Божиих, искажают Писание, совершенно безумно относя Ис. 42:8 не к идолам, а святым, и попросту закрывают глаза на множество библейских и древнецерковных свидетельств о необходимости почитать и прославлять не только Бога, но и святых Его.
III. О ПОКЛОНЕНИИ АНГЕЛАМ И СВЯТЫМ
Последний вопрос, по смыслу близкий к вопросу о почитании святых, в отношении которого также у протестантов нет единого понимания православными, заключается в следующем: можно ли поклоняться Ангелам и святым?
Одна только постановка такого вопроса уже коробит слух протестанта, вызывая у него "праведный" гнев. Разве можно вообще задаваться таким вопросом, когда ясно написано: "Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Мф. 4:10). Вот, по мнению протестантов, исчерпывающий ответ Библии на поставленный вопрос. А если такового ответа кому-либо недостаточно, то протестанты напомнят, что Апостолы Павел и Варнава отвергли поклонение себе жителей города Листры (Деян. 14:8-18), ап. Петр - Корнилия (Деян. 10:25-26), а Ангел - Иоанна Богослова (Откр. 19:10; 22:6-9). Как же можно, недоумевают протестанты, имея такие ясные библейские свидетельства, поклоняться кому-либо, кроме Бога? По этому пункту протестанты особенно нападают на православных, считая их какими-то многобожниками, которые вместо Бога (или вместе с Богом) поклоняются также святым и Ангелам. В одной протестантской Библии в комментариях так прямо и написано: "В учение Церкви незаметно вкралось многобожие (святые угодники)"[FAR EAST BROADCASTING COMPANY, P.O. Box 1, La Miranda, California 90637. Приложение к книге Откровения, с. 63].
Нужно заметить, что одна из самых серьезных болезней всех сект есть построение своих доктрин на одной части правды, вопреки другой, что в итоге приводит к лжеучению. Вот так и здесь: протестанты видят и помнят одни стихи Библии, но совершенно не хотят ни знать, ни замечать, ни осмысливать множества других библейских свидетельств об обратном: когда люди поклонялись Ангелам и другим людям, и не осуждались за это Богом. Вот многоччеловекопочитаниеисленные тому примеры.
1) Лот поклонился пришедшим к нему Ангелам "лицем до земли" (Быт. 19:1).
2) Авраам кланялся сынам Хетовым (Быт. 23:7).
3) Иаков "поклонился до земли семь раз" Исаву, брату своему (Быт. 33:3).
4) "Иосиф… поклонился ему (Иакову) лицем своим до земли" (Быт. 48:12).
5) stbr /bsupr /rongБратья Иосифа "поклонились ему до земли" (Быт. 43:26).
6) Пророк Валаам "преклонился, и пал на лице свое" пред Ангелом Господним (Чис. 22:31).
7) Руфь "пала на лице свое и поклонилась до земли" Воозу (Руфь 2:10).
8) Иисус Навин поклонился Архангелу Михаилу[Толковая Библия "Лопухина" так объясняет личность явившегося: "Откровение сообщено было через Ангела Господня, явившегося в виде мужа с обнаженным мечом. Принятый за обыкновенного воина, явившийся открыл себя через объявление своего ангельского чина: вождь воинства Господня и указание на святость места"]: "Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?" (Нав. 5:14).
9) "Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю и трижды поклонился" своему любезному другу Ионафану (1 Цар. 20:41).
10) Авигея "пала пред Давидом на лице свое и поклонились до земли" (1 Цар. 25:23).
11) "И наклонилась Вирсавия лицем до земли, и поклонилась царю" Давиду (3 Цар. 1:31).
12) Праведный Авдий "узнал его (Илию) и пал на лице свое" (3 Цар. 18:7).
13) Пятидесятник, начальник военного отряда, "пал на колена свои пред Илиею, и умолял его" (4 Цар. 1:13).
14) Пророческие сыны поклонились пророку Елисею "до земли" (4 Цар. 2:15).
15) Женщина Сонамитянка подошла к Елисею "и упала ему в ноги, и поклонилась до земли" (4 Цар. 4:37).
16) Сам Христос обещает Ангелу[Здесь имеется в виду, во-первых, предстоятель - епископ Церкви, а во-вторых и Ангел, который есть у каждой поместной Христовой Церкви. Своего епископа православные до сего дня именуют "Ангелом Церкви". Почему так? Ангел, как известно, есть посланник Божий. Епископ также есть Божий посланник, ибо Христос послал в мир Своих Апостолов, а Апостолы послали своих преемников - епископов. В любом случае, как бы ни понимать данное место, для нашего разговора принципиально важно одно: Христос не только не против поклонения Ангелу (и/или) человеку, но Он Сам добьётся того, чтобы таковое поклонение произошло] Филадельфийской Церкви: "Вот Я сделаю, что из сатанинского сборища... приидут и поклонятся пред ногами твоими" (Отк. 3:9). Поклонятся не Богу, а Ангелу(!), и такое поклонение не грех, ведь Сам Христос "сделает", то есть устроит это поклонение.
Во всех этих случаях описаны факты поклонения не Богу, а людям и Ангелам, и Бог этого не осуждает[Несмотря на то, что сама Библия свидетельствует о благочестивом поклонении Ангелам, баптистский пастор П. Рогозин лжёт, что Ангелам стали поклоняться только с V в. (см. его "Хронологию"). На самом деле, кроме библейских примеров поклонения Ангелам, известно, что в древней Церкви таковое поклонение было распространено, что признаёт У. Баркли: "в ранней церкви существовала почти неизбежная тенденция поклоняться Ангелам - тенденция, которая так никогда и не была изжита" (толкование на Откр. 19:9, 10а). Заметим: 1) в Церкви издревле было поклонение Ангелам; 2) П. Рогозин опять противоречит истине и даже своим единоверцам протестантам]! И мы, несмотря на множество таких библейских мест, все равно не желаем их видеть и сделать совершенно очевидный вывод, что Библия не осуждает поклонение Ангелам и людям, а наоборот - дает множество тому примеров. Одно время, оглядываясь на свою жизнь в баптизме, я просто затруднялся понять, как все подобные места постоянно ускользали от моего внимания. Просто когда протестанты рассуждают о недопустимости православной практики поклонения Ангелам и святым, эти факты никогда не вспоминаются и не связываются с данной темой.
Но все же, как тогда примирить, казалось бы, противоречивые указания Библии о том, что поклоняться нужно только единому Богу, и о том, что поклоняться можно также Ангелам и людям?
Выход первый: просто не замечать вышеприведенных мест Св. Писания, как это делают многие протестанты.
Выход второй: во всех этих местах слово "поклонение" переводить как "почитание", то есть, пойти путём "исправления" Библии, подгоняя её под свою догматику, как сделали это расселисты в своём переводе Библии "новый мир".
Выход третий: считать, что те библейские персонажи, которые поклонялись Ангелам и людям, поступали так по невежеству, согрешая при этом грехом идолопоклонства. Тогда, конечно, придётся и Самого Христа отнести к таковым невеждам и грешникам, ибо Он Сам пообещал, что заставит неких людей "из сатанинского сборища" поклониться ни Самому Себе, ни Его Отцу, ни Св. Духу, а Ангелу филадельфийской Церкви.
Выход четвёртый: считать эти места не Богодухновенными или поздними вставками.
Если же наш разум и совесть не могут согласиться с такими безбожными вариантами решения данной дилеммы, то нужно найти другое решение. И оно уже давно найдено и выражено в Богословии Православной Церкви, которое объясняет, что
1) только Богу нужно поклоняться Божественным (Богопочтительным) поклонением, как Богу; людям же и Ангелам не должно поклоняться как Триединому Богу, а соответственным - человеко-и ангелопочтительным поклонением, не как Богу;
2) поклоняясь Ангелу, святому или даже простому человеку должно поклоняться через них Самому Богу, живущему в них, и Божьему в них образу.
Вот так просто решается этот вопрос. Ведь если нам заповедано любить Бога всей душой, то это вовсе не значит, что мы уже не можем любить ближнего. Если нам заповедано почитать Бога, то это вовсе не значит, что мы уже не можем почитать никого более, например родителей или служителей Церкви. Если нам заповедано быть послушными Богу, то и это также не значит, что мы не можем быть послушными никому более, например, отцу, пресвитерам или своему начальству. Если нам заповедано "Господу Богу… одному служи" (Мф. 4:9,10), то это не значит, что человек не может уже исполнять заповедь "служите друг другу" (1 Петр. 4:10), и, служа Богу, не может также "послужить святым" (Рим. 15:25). Более того, не только святым, но и нечестивым людям иногда нужно служить, к чему призывал израильтян в своё время пророк Иеремия: "служите царю Вавилонскому" "и народу его" (Иер. 27:17,12).
Как же объяснить то, что Библия нам заповедует служить лишь одному Богу, но, в то же время, повелевает служить и ближним? Это нужно понимать так: 1) мы должны служить (а также любить, почитать, слушаться, поклоняться) как Богу одному только Богу - Отцу, Сыну и Святому Духу; 2) Ангелов же и людей - святых, родителей, пресвитеров, начальство и т.п. - мы также должны любить, почитать, слушаться, служить им и, когда нужно, поклоняться, но не как Богу, а соответственно: священнику как священнику, наставникам как наставникам, Ангелу как Ангелу. И таковым почтением к людям и Ангелам мы выражаем своё отношение к их Владыке и Создателю - Богу. Ведь если мы "служим святым", то не есть ли это служение Самому Богу? Если мы любим братьев, то не есть ли это любовь к Самому Богу? - как пишет ап. Иоанн: "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего" (1 Ин. 20:21). Так вот, как любовь, почтение, послушание и служение нашим братьям есть любовь, почтение, послушание и служение Самому Богу, так и поклонение святым и Ангелам есть поклонение Самому Богу, в них обитающему.
В православной культуре, вообще, поклонение друг другу очень распространено. На каждой службе священник поклоняется народу, а народ - священнику. Священники приветствуют своего епископа (часто же и друг друга) поклоном. Нередко православные прихожане и друг друга приветствуют небольшим поклоном. В древней же Православной Руси, когда народ был намного более православным, благочестивым и богобоязненным, чем сейчас, обычай поклоняться людям был более распространён. Люди кланялись царям, различным чиновникам и господам[В "Домострое", знаменитом литературном памятнике XVI века, говорится: "Тем, кто старше тебя, честь воздавай и кланяйся…" (гл. 5). И о том, что русские люди действительно так поступали, мы находим у классиков множество сидетельств, например, у И.С. Тургенева: "Староста… поклонился барину в пояс", или: "Лаврецкий молча им поклонился; и они ему поклонились молча"], священникам[В "Домострое" заповедуется "подчиняться ему (духовному отцу) во всем, и почитать его, и бить челом ему низко" (гл. 6)] и учителям, гостям и нередко каждому встречному. Неужели всё это были акты идолопоклонства? Или мы действительно думаем, что православные не различают Богопочтительного поклонение, подобающее только Богу, от человекопочтительного поклонения людям; что они такие многобожники, которые кланяются всему и всем без различия, всем как Богу? Нет, конечно.
Церковь научает почитать (в том числе и поклонением) царя как образ Небесного Царя, и как начальника Богом установленной власти. Ибо написано: "существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13:1), а также: "царя чтите" (1 Пет. 2:17). И честь, оказываемая земному образу Царя Небесного, относится к Самому Богу, как говорится в "Домострое": "если земному царю с правдою служишь и боишься его, научишься и небесного царя страшиться" (гл. 5). Потому древние иудеи всегда чествовали своих царей, и поклонялись им. Православные, например в Византии и России, также с радостью поклонялись своим православным миропомазанным царям. Когда же римские императоры требовали поклонения себе не как образу Царя Небесного, а как самостоятельному языческому божеству (ведь император считался у римлян одним из богов), то православные шли на пытки и смерть, но отказывались от такого поклонения. Это говорит о том, что Церковь знает, кому и чему она кланяется.
Ангелам, епископам и священникам православные покланяются потому, что они есть Божьи служители и посланники: "Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня" (Ин. 13:20). Ведь всему миру понятно, что честь, оказанная слугам и послам царя, есть почтение самого царя, равно как и непочтение их есть оскорбление для него. И когда в "Домострое" (гл. 6) заповедуется повиноваться и почитать священника, а также "бить челом ему низко", то поклоняться ему призывают не как Богу, а как Его служителю и посланнику.
Святым православные поклоняются потому, что первые являются сосудами Духа Святого. Протестанты признают процесс освящения и постоянно говорят о том, что нужно возрастать во Христе. То есть мы понимаем, что хотя многие рождены свыше, но все по-разному "исполняются Духом" (Еф. 5:18). "Исполняются" значит: наполняются. Таким образом, одни, по разным причинам, прежде всего из-за духовной лености и теплохладности, наполнены Духом Святым немного, а другие, ревностные к исполнению Духом, много или даже предельно. И вот таких людей православные и называют святыми и почтительно преклоняются пред ними. И поклоняясь святым, они поклоняются прежде всего Духу Святому, живущему в них.
Друг другу православные поклоняются главным образом потому, что между собой они - духовные братья во Христе, ведь в Таинствах Крещения и Миропомазания они облеклись во Христа и получили дар Духа Святого. И даже если кто либо не исполняется Св. Духом и даже угашает Его (см. 1 Фес. 5:19), то все равно Он не покидает человека до конца. И этому Богу, живущему в каждом православном крещенном христианине, и поклоняются православные.
Каждому человеку, даже грешному[У древнего церковного писателя св. Климента Александрийского (150-215 гг.) мы находим замечательную историю об Иоанне Богослове и юноше, который после крещения стал разбойником, но которого Апостол, по великой к нему любви, вернул к покаянию. Так вот, умоляя его оставить грешную жизнь, "старец пал на колена, целовал очищенную раскаянием руку его и таким образом возвратил отпавшего от веры в Церковь" ("Кто из богатых спасётся", гл. 42). Так же и у Ф. Достоевского в "Братьях Карамазовых" мы читаем о том, как иеромонах, старец Зосима, поклонился Димитрию Карамазову, который был далеко не безгрешен] и не православному, также можно в некоторых случаях почтительно поклониться как образу Божию (Быт. 1:27)[Нужно заметить, что если человек известен своим нечестием, то его уже чаще всего не следует почтить и малым кивком головы, как пишет ап. Иоанн: "Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его" (2 Ин. 2:10), в том числе, естественно, и поклоном. Так, Мардохей не захотел преклониться пред нечестивым князем Аманом (Есф. 3:5). Евреи не всегда кланялись язычникам, считая их за нечестивцев и безбожников, хотя поклонялись своим царям и пророкам]. И такое поклонение живому образу Божию есть в некотором смысле поклонение Самому Богу. Кроме того, поклонение любому человеку есть выражение любви, уважения и почтения к нему, как писал о том святитель[Святитель - епископ (архиепископ, митрополит, патриарх: одним словом - представитель третьей степени священства), причисленный Церковью к лику святых] Игнатий Брянчанинов: "И слепому, и прокажённому, и повреждённому рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику я окажу почтение, как образу Божию. Что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь недостатка в любви"["Аскетические опыты", том I, изд. "Тираж-51", 2001 г., с. 138]. В таком смысле и кланялись люди друг другу во все времена, и сейчас кланяются. А если в советское время и сейчас люди стали намного меньше кланяться друг другу, то это из-за гордыни, оскудения простоты, веры, смирения, любви и уважения друг ко другу, а не потому, что люди наконец поумнели, освятились и перестали быть "многобожниками".
Итак, неужели все эти библейские и православные примеры поклонения людям и Ангелам нужно отнести к актам идолопоклонства? Неужели протестанты думают, что православные в одном достоинстве поклоняются как Христу, так и, например, св. И. Златоусту; как Духу Святому, так и Апостолу Павлу; как Отцу Небесному, так и Архангелу Гавриилу, считая всех без различия равноценными Богами? Нет. Церковь, во-первых, отличает поклонение Богу от поклонения Ангелам и людям. Во-вторых, Она учит, что всякое почтение (в том числе и поклонение) людям и Ангелам есть поклонение через них Самому Богу![Эти два пункта относятся и к вещественным святыням] Святой Василий Великий писал об этом так: "Честь, воздаваемая добрым из наших сослужителей, есть доказательство нашего благорасположения к общему Владыке". И еще: "Когда пересказываем жития прославившихся благочестием, прежде всего Владыку прославляем в рабах Его"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 550]. И в этом Церковь следует библейской практике, где есть место поклонению и Богу, и Ангелам, и людям. Протестанты же, не понимая, как примирить одни места Писания с другими, просто отвергли одну часть истины и не хотят ничего о ней слышать, смешав при этом почтительное поклонение людям и Ангелам, которому учит Библия, с идолопоклонством и многобожием.
Для большего уяснения сказанного приведем простой и ясный жизненный пример. В древней римской империи был император, который ставил над областями и разными покоренными народами правителей - своих наместников. Вопрос: угодно ли было императору, чтобы люди чтили и кланялись поставленным им правителям или нет? Конечно да! Ведь если люди воздавали почести слуге и ставленнику императора, то этим самим они признавали власть императора над собой и почитали его в лице наместника. И наоборот, непочтение и не признание слуги цезаря воспринималось как оскорбление самого императора. В этой ситуации любой нормальный человек понимает два момента, о которых идёт сейчас речь:
1) кланяющийся правителю отличает таковое поклонение от поклонения самому императору и не считает наместника самой личностью цезаря;
2) поклоняясь правителю человек в его лице поклоняется самому императору.
Теперь нужно сказать о тех трёх случаях (которые протестанты только и замечают в Библии), когда Апостолы и Ангел не приняли поклонение[Хотя в тексте Деяний прямо не сказано о том, что жители Листры поклонились апп. Павлу и Варнаве, но бесспорно, что если первые готовы были принести вторым жертвы, то они готовы были и поклоняться им] себе.
1) Деян. 14:8-18. Апостолы Павел и Варнава с негодованием отвергли поклонение себе от жителей Листры. Протестанты радуются: вот ясное доказательство тому, что людям, даже святым, нельзя поклоняться. Но если рассмотреть данный библейский текст объективно, без протестантской предвзятости, то без труда можно понять причину такого поступка Апостолов. Язычники города Листры приняли апп. Павла и Варнаву за языческих богов(!), и хотели поклониться им не как посланникам и рабам Христовым, а как языческим богам Зевсу и Ермию! (см. 11, 12 ст.) Это было идолопоклонством, и Апостолы, естественно, отвергли такую для себя бесовскую "честь". Но если бы жители Листры поверили проповеди Апостолов, и пожелали почтительно поклонился им как слугам и посланникам Божиим, как кланялись евреи своим пророкам, царям, родителям и т.п., то таковое поклонение Апостолы бы не отвергли, и не стали бы с ужасом рвать на себе одежды.
2) Деян. 10:25-26. Ап. Петр не принял поклонение себе Корнилия. Толковая Библия под редакцией Лопухина так комментирует этот случай: "Петр отстраняет преклонение пред ним Корнилия не только по смирению, но и уловив в этом преклонении почесть, воздаваемую Корнилием Петру как какому-то воплощению высшей силы, что было так свойственно языческим представлениям о богах в образе человеческом (Деян. 14:11)". Потому ап. Петр и говорит: "встань; я тоже человек". Эти слова первоверховного Апостола как раз и выявляют его опасение, что Корнилий мог принять его за некое высшее существо, потому он и отклонил поклонение Корнилия себе в таком качестве.
3) Откр. 19:10; 22:6-9. Ангел, через которого И. Христос передал Свое откровение ап. Иоанну, дважды отстраняет поклонение себе последнего. Почему он отклонил поклонение себе, хотя в других случаях, как мы видели, Ангелы его принимали? Ответ мы находим в самом тексте Апокалипсиса. В обоих случаях, когда Иоанн Богослов имел намерение поклониться Ангелу, они находились пред престолом Бога, слыша призывы старцев, гласов и громов восхвалить и поклониться Богу, о чем сам тайнозритель пишет: "Тогда двадцать четыре старца пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! И голос от престола исшел, говорящий: "хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца..." (19:4-7). И видя день славы Божьей, слыша отовсюду призывы поклониться Богу, сидящему на престоле Своем, ап. Иоанн "пал к ногам его (Ангела), чтобы поклониться ему"! Конечно, такое деяние совершенно не соответствовало ситуации, когда все ангельские чины и люди чествовали и поклонялись воцарившемуся Господу Вседержителю! Можно полагать, что Иоанн Богослов так поступил потому, что считал, что в этом видении он не участвует, а видит его со стороны, и слышанные призывы к нему не относятся; или же, видя славу Христа он от страха не знал, что делал, как в своё время Ап. Пётр, видя славу Христа, не знал, что говорил (Лк. 9:32-33).
Описанный в Откровении эпизод можно понять по примеру из земной жизни. Представим, что в царской России коронуют нового царя. По этому случаю собрано множество людей разного чина. Народ чествует царя, впервые воссевшего на свой престол. И вот какой-то простолюдин видит рядом стоящего барина и обращается к нему, чтобы выразить ему свое почтение и отвесить поклон. Но барин говорит ему: "сейчас не время, взирай на нашего царя и ему кланяйся". Понятно, что чествовать барина в такой ситуации, когда всё приветствуют и чествуют воцарившегося царя - несвоевременно, тогда как в другом случае барин, естественно, примет поклон от простолюдина. Ясно и то, что отклонив поклон простолюдина барин принципиально не против того, чтобы его чтили и отвешивали поклоны, но он против того, чтобы в присутствии царя, сидящего на престоле, кто-то ему кланялся. Таким же образом Ангелы желают, чтобы их люди чествовали благоговейным поклонением как посланников Божиих, но при виде Господа Царя Вседержителя уместно поклоняться только Ему. И в этом Ангел и поправил ап. Иоанна, сказав, что сейчас, когда ты находишься пред престолом воцарившегося Господа, и когда вся тварь Ему покланяется, ты не мне, а "Богу поклонись".
Можно и иначе - не на основании ситуации, в которой находился ап. Иоанн (пред престолом Божиим), а на основании ответа Ангела - объяснить причину отклонения им поклонения себе ап. Иоанна. Ангел, сказав "не делай сего" говорит дальше: "я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества" (Откр. 19:10). То есть, ап. Иоанн хотел почтить Ангела за то откровение, которое он ему показывал, но Ангел говорит, что не он источник сих пророческих видений, а "свидетельство Иисусово есть дух пророчества". Другими словами Ангел говорит: "то, ради чего ты сейчас желаешь мне поклониться (откровение последних судеб мира) принадлежит не мне, а Иисусу Христу; потому ты ему поклонись". И это было сказано Ангелом не только по смирению, но прежде всего для того, чтобы и ап. Иоанн, и вся Церковь через эти слова уразумела, что показанные откровения имеют высший авторитет, и исходят от Самого Христа!
Оба вышеприведенные толкования возможны, и не противоречат своему непосредственному и всему библейскому контексту. Протестантское же толкование отрывков Откр. 19:10 и 22:6-9 как принципиальное запрещение поклонения Ангелам совершенно невозможно, ибо оно противоречит и контексту книги Откровения, и всему библейскому контексту. Ибо если поклоняться Ангелам совершенно нельзя, то почему же Сам Христос сказал Ангелу: "они придут и поклонятся пред ногами твоими" (Откр. 3:9)? Если поклоняться Ангелам грех, то почему тогда праведный Лот, Иисус Навин и пророк Валаам поклонялись Ангелу, и Ангелы не отвергали этого поклонения?
Кроме того, протестанту нужно задуматься и над тем, как это мог возлюбленный ученик Христа, - один из трех столпов и главнейших Апостолов Церкви (см. Ин. 21:20; Гал. 2:9), уже далеко не юноша, каким мы его видим в Евангелии со Христом, а почтенный, умудренный опытом старец и великий евангелист и Богослов, отличающийся от остальных евангелистов, по всеобщему признанию, высотой богословской мысли, которого никак нельзя сравнить в познании истины с Корнилием и, тем более, с язычниками Листры, - мог впасть в идолопоклонство (ведь протестанты именно так классифицируют поклонение Ангелам), причем дважды! Если бы он верил как протестанты, что поклоняться можно только Богу и что поклонение Ангелам есть идолопоклонство, недопустимое ни при каких обстоятельствах; если бы это убеждение было ему, как протестантам, глубоко присуще всю его жизнь, то как бы ему вообще могла прийти такая мысль - поклониться Ангелу, причем второй раз уже после предупреждения!
Получается, что любой новообращенный протестант твердо знает, что поклоняться Ангелам нельзя, что это есть идолопоклонство, а вот Иоанн Богослов не знал этого, а если знал, то не устоял в истине и впал в грех, причём дважды! Жаль, что он не так твердо веровал, как мы - думают протестанты - ну что ж, мы снисходительно ему прощаем, понимая, что он, наверное, был сильно взволнован, видя видения Божии. И протестанты без особого, естественно, желания, но всё же соглашаются с тем, что ап. Иоанн впал в тяжкий грех, поклонившись Ангелу: "В наш рассудок не может вмещаться понятие, что святой Апостол Иоанн мог неправильно поступить, тогда как ему Бог вверил величайшее откровение о будущих событиях мира. Но Иоанн, написав собственной рукой это повествование, признает, что поступил неправильно, и этим самим показал, что нам, христианам, поступать так не должно. С другой стороны, странно выглядит, что человек поклоняется тому, кто служит ему"[Василий Трубчик, "Вера и традиция", союз ЕХБ в Беларуси, 2007 г., с. 149].
То есть, под мягкими выражениями "в наш рассудок не может вмещаться понятие", "поступил неправильно" и "странно выглядит" протестанты признают, что Иоанн Богослов, достигший к концу жизни высочайшего духовного совершенства, впал в грубое идолопоклонство! Вот так протестанты думают, не понимая того, что обвинять Иоанна Богослова, даже мягко и косвенно, в жутком грехе идолопоклонства - просто кощунственно!
Если же признать, что ап. Иоанн - также как Сам Иисус Христос, Иисус Навин, Лот и Валаам (Отк. 3:9; Нав. 5:14; Быт. 19:1; Чис. 22:31), иудеи и вся древняя Церковь - считал поклонение Ангелам вполне допустимым и благочестивым делом, то тогда двукратное его поклонение Ангелу было не идолопоклонством, а просто не своевременным и не уместным, по описанным выше причинам, деянием, в чем он и был поправлен Ангелом. А то, что в древней Церкви существовало поклонение Ангелам признаёт, как мы уже видели, даже протестантский учёный У. Баркли, говоря, что "…в ранней Церкви существовала почти неизбежная тенденция поклоняться ангелам - тенденция, которая так и не была полностью изжита". Конечно, У. Баркли как протестант не понимает, что таковое поклонение библейски и богословски оправдано, и его не нужно изживать.
И здесь важен вопрос: откуда же взялась эта тенденция? Ответ очевиден: из ветхозаветного иудаизма, от Божьего народа.
Второй вопрос: как же могли Апостолы допустить существование в древней Церкви этой тенденции? Ответ опять очевиден: Апостолы считали поклонение Ангелам вполне Богоугодным делом, причём полностью основанном на Св. Писании. И слова У. Баркли, что "Иоанн инстинктивно хотел поклониться ангелу-посланнику…"[Толкование на Откр. 19:9, 10(а)] ещё раз подтверждают то, что для ап. Иоанна поклонение Ангелам было делом совершенно обычным и привычным! Ибо как мог у него выработаться "инстинкт", если бы он никогда не поклонялся Ангелам и считал бы, как протестанты, таковое поклонение страшным грехом и идолопоклонством? Разумного ответа на этот вопрос у протестантов нет и быть не может.
Еще протестанты, возражая против возможности поклонения Ангелам, иногда приводят следующие места Писания: "Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному" (Деян. 7:42); "и пойдёт и станет служить иным богам и поклонятся им, или солнцу, или луне, или всякому воинству небесному, чего я не повелел" (Втор. 17:3; ср. 4 Цар. 23:5). Но в этих местах под "воинством небесным" имеются в виду звезды и прочие светила небесные ("солнцу, или луне, или всякому воинству небесному"), а не Ангелы Божии. И если поклонение и обожествление светил небесных по справедливости осуждается Богом как невежественное идолопоклонство, то достойное поклонение Ангелам как Божьим посланникам, Библией утверждается и одобряется.
Таким образом:
1) поклоняться Божественным поклонением, как Богу, можно только Святой Троице, но соответствующим (не как Богу) поклонением Св. Писание научает нас поклоняться и Ангелам, и царям, и пророкам, и святым, и даже обычным людям;
2) Ангелам и святым Церковь поклоняется как посланникам и слугам Божиим, как образам Божиим и сосудам Духа Святого; поклоняется Самому Богу, живущему в них.
Теперь стоит указать на главные причины, по которым протестантизм отвергают учения: 1) о молитвенном общении земной и небесной Церкви во всех её трёх составляющих, а также 2) о почитании и 3) поклонении Ангелам и святым. Причины эти очень сходны с теми, по которым протестанты отвергают учение о святынях (см. гл 1, § 154-158).
1) Протестантизм задуман как простая (упрощённая) религия (ср. гл. 1, § 155), а названные учения (особенно 1 раздел) довольно сложны, ибо 1) требуют способности довольно тонко мыслить и различать одно от другого (молитвы святым от спиритизма, молитвы к святым от молитвы к Богу, поклонение Божественное от поклонения почтительного, и т.п.); 2) требуют знания многих имён святых и их житий; 3) связанны с довольно сложной наукой иконописи, и т.д., а всё это протестантизму не нужно.
2) Отвержение этих учений есть лёгкий способ борьбы с Церковью (ср. гл. 1, § 156), ибо малообразованных людей очень нетрудно запутать в понятиях, показать некоторые места Писания и внушить, что обращаться в молитве нужно только к Богу; что поклонение людям и Ангелам недопустимо, ибо написано "Господу Богу Твоему поклоняйся"; что прославлять нужно Бога, а не людей, как написано "не дам славы Моей иному", и т.п. При этом очень легко обвинять Православие в таких жутких грехах, как спиритизм, многобожие и язычество. Всё это даёт также возможность и в дальнейшем удерживать своих членах в своих рядах, ибо поскольку протестант убеждён, что Церковь впала в такие жуткие грехи, то Её обличения в адрес протестантов в расколе, в самозванстве, в отсутствии преемственности их священства, в их человеческом происхождении и прочих заблуждениях ничего для него не значат. "О каких заблуждениях вы мне тут говорите, если вы - идолопоклонники, многобожники и спиритисты?" - отвечает словесно или мысленно сам себе протестант. И один этот аргумент, как правило, всегда бывает достаточным, чтобы протестант даже не смотрел в сторону Православия.
3) Протестантизм - религия не соборная (как Церковь), а индивидуальная (ср. гл. 1, § 158), основанная на идее "личного спасения" и "личного Спасителя". Протестант, для своего спасения, не нуждается, по сути, в Церкви - это важнейшая аксиома протестантизма, и главная причина, по которой он так исказил учение о Таинствах (об этом много будет говориться во II части книги). Он спасается сам - уверовав во Христа и обратившись к Нему с молитвой покаяния. Церковь же спасение мыслит как соборное дело, для которого нужны не только Таинства Церкви, но и святые, как соработники Божии, их молитвы и их духовный опыт. Протестантам же всё это чуждо и обременительно.
4) Почитание святых весьма связывает Церковь с Её историей и является ярким выражением и свидетельством Её преемственности и непрерывности, ибо Она имеет в своих святцах святых из каждого века. Протестантизму же нужно прервать эту цепочку. Он вообще не любит связывать себя с историей. У протестанта есть Бог, Библия и он, спасённый по своей вере и принадлежащий невидимой небесной Церкви, а всё остальное не важно и, как правило, обременительно для него. Кроме того, он думает, что Церковь более 1000 лет находилась в отступлении, и у неё в эти века по определению не могло быть святых.
Итак, изучemенвпасть в идолопоклонствоие Библии, свидетельств жизни и веры древней Церкви, а также богословских аргументов сторон (Православия и протестантизма) по вопросам молитвенного общения небесной и земной Церкви, а также почитания и поклонения Ангелам и святым, дают нам возможность сделать ясный вывод: Православная Церковь учит по библейски, и верует так, как верпоклонятся пред ногами твоимиовали древние христиане, и ученemие её последовательно, разумно и здраво.
Протестанты же отвергают множество самых ясных и прямых библейских свидетельств об этих вопросах; отвергают и свидетельства веры древней Церкви, изобретя при этом массу нелепейших, богопротивных и противоречивых аргументов в защиту своих суетных мудрований. Веровал я всем этим протестантским хитросплетённым басням, поскольку родился в баптизме и не знал библейски и богословски обоснованного, истинного и мудрого православного учения. Теперь же у меня, говорю честно, пред Богом, нет никакой возможности хранить добрую совесть и в тоже время оставаться протестантом.
Отношение Православия и протестантизма к Деве Марии очень разнится. Внешне самое заметное различие состоит в том, что православные молятся и поклоняются Деве Марии, посвящают Ей [Многие протестанты привыкли к тому, что с большой буквы пишутся (кроме, естественно, названий, имён и прочих случаев, оговоренных грамматикой) только слова, обозначающие Бога и Его местоимения: такой обычай соблюдается почти всеми христианскими издательствами Библии. Поэтому, протестантов может смутить, что личные и указательные местоимения, относящиеся к Марии, и другие слова, такие как Дева, Матерь, Богородица и пр., православные также пишут с большой буквы. Сей факт не нужно толковать так, что православные чтят Марию как Бога: это просто знак глубокого почтения. Например, в многотомных толкованиях на Новый Завет У. Баркли, изданных "Всемирным союзом баптистов", Мария также называется "Матерью" с большой буквы (равно как и слово "Крест"). Смотреть, например, толкование на Ин. 19:25-27] храмы, помещая и чествуя в них (а также в своих домах) Её иконы; протестанты же ничего этого не делают. Но так как вопросы эти относятся к темам иконопочитания, молитвенного общения со святыми и возможности почтительного им поклонения, которые в предыдущих двух главах мы достаточно подробно обсудили, то здесь мы не будем к ним возвращаться. В учении о Деве Марии и в самом отношении к Ней у нас с православными есть и другие серьезнейшие разногласия, которые заключаются в том, что православные:
I) свято верят в приснодевство [Присно - всегда; приснодева значит: всегда (вечно) дева] Марии, утверждая, что Матерь Христа до, во время и после рождения нашего Спасителя пребыла девой (то есть осталась девственной); что Она никогда не вступала в супружеские отношения с Иосифом, и что Иисус Христос был Её единственным Сыном;
II) называют Её Богородицей и Божьей Матерью;
III) весьма возвеличивают и прославляют Деву Марию в различных службах, песнопениях и, прежде всего, в своей душе, считая Её самой святой из всех тварных существ - Ангелов и людей, усваивая Ей при этом (кроме "Приснодева" и "Богоматерь") множество и других величественных титулов и наименований, таких как: "Царица Небесная", "Владычица", "Ходатаица усердная", "Заступница рода христианского", "Пресвятая", "Пречистая", "Преблагословенная", "Пренепорочная", "Палата Святого Духа", "Вместилище Невместимого", "честнейшая ["Честнейшая Херувимов" значит: "превосходящая по чести Херувимов"] Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов", "вторая Ева" и пр. Кроме того, православные находят в Ветхом Завете немало прообразов Девы Марии. Православные, также, постоянно молятся Богородице, обращаясь к Ней такими, например, известными словами: "Пресвятая Богородице, спаси нас", а также: "не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица".
Протестантское же отношение к Деве Марии отлично от православного во всех трёх обозначенных пунктах.
I) Мы считаем, что девой Мария пребыла только до рождения Сына. При рождении младенца Христа девство Её, естественно, упразднилось, после чего Она вступила в супружеские отношения с Иосифом и имела других детей от него. П. Рогозин, конечно же, не упускает возможности повторить данное верование протестантов: "Иногда она (Мария) была в кругу младших (своих) сыновей от Иосифа" ["Откуда всё это появилось", глава "Непорочное рождение самой девы Марии"]. Также и У. Баркли говорит, что Христос был не единственным, а лишь "старшим Сыном Матери"" [Толкование на Ин. 19:25-27].
II) Марию мы категорически отказываемся называть "Богородицей" и "Матерью Божьей", ибо, по мнению протестантов, Она родила не Бога, а только человеческую сущность Христа - Иисуса человека, но не Христа Бога.
III) Глубокое почтение к Марии, которое так отличает православных людей, для нас совершенно чуждо, как чужды и неприемлемы для нас и все вышеперечисленные наименования и выражения, которые православные относят к Деве Марии. Никаких прообразов Девы Марии протестантизм в Ветхом Завете не видит. Протестант не признаёт молитв к Богородице, и, как правило, никаких православных молитв к Ней и не знает, но если мы вдруг услышим такие молитвы, которые были процитированы выше, то для всякого протестанта они покажутся крайне неприемлемыми и еретическими. Мы не возвеличиваем и не прославляем Марию, не слагаем Ей песнопений, не совершаем в Её честь служб и вообще не придаем Ей большого значения, считая, что Она была обычная женщина, которая лишь хорошо исполнила свое служение, как другие христиане исполняют каждый свое.
Вот об этих вопросах мы и поговорим в данной главе в изложенной последовательности, и постараемся выяснить истину.
I. Является ли Мария приснодевой?
II. Праведно и правильно ли называть Деву Марию Богородицей и Богоматерью?
III. В каком качестве почитает Церковь Деву Марию, и почему православные так любят Матерь Божью, и в чём видят Её такую исключительную святость?
I. Является ли Мария приснодевой?
Осталась ли Матерь Иисуса девой при рождении Христа и после того? Протестанты с иронией вопрошают: как мог младенец Иисус пройти утробу Своей Матери, не нарушив её девственности? Православный ответ прост: "Богу все возможно" (Мф. 19:26; ср. Иер. 32:17).
Боговоплощение во всех своих аспектах есть тайна и чудо. Как Христос по воскресении Своем мог дважды войти в дом с запертыми дверями, не разрушив ни дверей, ни стен (см. Ин. 20:19,26), так же Он мог пройти и чрез ложесна Девы, не нарушив их целостности. По той же самой силе Божьей, по которой терновый куст мог гореть и не сгорать (Быт. 3:2); верные Богу юноши могли остаться невредимыми в огненной печи (Дан. 3:46-49); солнце могло остановить свое обычное течение (Иис. Нав. 10:12), а из скалы могла истечь вода (Числ. 20:8) - было совершено и это чудо. Как зачат, так и рожден И.Христос был чудесно. И новое чудо, о котором доселе мы просто не знали, не должно приводить нас в неверие.
В Библии есть, по крайней мере, четыре важных отрывка, которые подтверждают православное учение о приснодевстве Марии и совершенно не согласуются с протестантским преданием о том, что Дева Мария не осталась девой и имела детей от Иосифа.
1) В Иез. 44:2 мы читаем замечательное пророчество о приснодевстве Марии, и о том, что Христос будет единственным Её Сыном: "И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены". Церковь с древних времен относит это пророчество к рождеству И.Христа. Это Он есть Господь, Бог Израилев, Который пришел в этот мир через врата святилища. Святилище (храм) есть утроба Девы Марии, которая "вместила Невместимого", ибо как в храме пребывает Господь, так Он пребывал и во чреве Своей Матери. Врата же святилища есть ложесна Девы Марии, через которые вошел в этот мир Господь. И в этом пророчестве сказано, что "никакой человек не войдет ими", то есть - никто уже не родится от Девы Марии.
Протестанты, конечно же, не желают принимать данное пророчество в таком толковании, и считают, что действительное исполнение сих слов произошло тогда, когда Христос на ослёнке въехал в Иерусалим через Золотые Ворота, после чего вскоре они были заложены камнем, то есть, навеки затворены, что достоверно известно из археологии. Так, в известной книге Роберта Т. Бойда "Курганы, гробницы, сокровища. Иллюстрированное введение в библейскую археологию" к фотографии, где изображены иерусалимские ворота, заложенные камнем, подводится именно рассматриваемое нами пророчество:
"На фото 268 - замурованные городские ворота как раз в том месте, где Иисус вступил в город (…) Пророк Иезекииль предсказал, кстати, что ворота будут затворены после того, как Господь Бог войдёт ими (Иез. 44:1-2)" [Изд. "Свет на востоке", 1991г, стр. 255]. Но как можно принимать данное толкование, тем более как главное или вообще единственное, если эти врата были замурованы султаном Сулейманом лишь в 1541 году? Как в этом случае исполняются слова пророчества: "никакой человек не войдет ими"? Очевидно, что никак не исполняются! Ведь за полтора тысячелетия до затворения ворот в них вошло огромное множество людей! Да и если бы эти врата были затворены не через 15 веков, а на следующий день после входа Господа в Иерусалим, то и тогда это пророчество не исполнилось бы, ведь вместе со Христом при Его входе в Иерусалим через Золотые Ворота прошёл не один человек (см. Мф. 21:8,9).
Кроме того, в пророчестве говорится о вратах святилища, то есть вратах храма, а не Иерусалима. И когда Православная Церковь под святилищем понимает Деву Марию, то для этого есть ясные библейские основания: Св. Писание не редко называет человека храмом Божиим: "вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас" (1 Кор 3:16; ср. 2 Кор. 6:16; Еф. 2:20-22; 1 Кор. 6:19). Так если каждый верующий во Христа есть храм Божий, то тем более храмом для Бога была Дева Мария, когда в Её пречистой утробе не только Духом, но и Плотью пребывал Христос-Бог. Иерусалим же нигде в Библии не называется святилищем или храмом. Поэтому, протестантская версия того, как исполнилось пророчество Иезекииля, весьма не состоятельна. В лучшем случае, в закладке иерусалимских врат камнем можно усматривать лишь далёкое и второстепенное исполнение пророчества Иезекииля, лишь слабый намёк. Главное же (если не вообще единственное) исполнение слов Иезекииля произошло именно при рождении Христа. В этом случае через врата святилища действительно никто, кроме Господа, не вошёл.
В возражение сказанному вдумчивый и не желающий принимать истину протестант может изобрести такой аргумент: "в Иез. 44:2 сказано, что врата после входа через них Господа будут затворены, а значит, при входе Его они отворялись. Как же тогда Православная Церковь учит, что Дева пребыла Девой не только до и после, но и во время рождения Христа"? Выше уже было упомянуто о чудесном входе Христа в дом сквозь двери, и сравнение этого прихода Христа с Его приходом в этот мир будет лучшим ответом на поставленный вопрос. О приходе Его в дом после Своего воскресения мы читаем: "Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!" (Ин. 20:26). Вот как здесь Христос вошёл чрез двери, не отворяя и не разрушая их, так вошёл Он и в этот мир через ложесна Девы, которые оставались закрытыми и не разрушенными. В обоих случаях (и при рождении и при входе в дом) Христос прошёл, не открывая и не разрушая ни того, ни другого. Двери дома открылись и впустили Христа, но в другом - метафизическом смысле: видимо же они оставались закрытыми. Вот так же произошло и при рождении Христа: врата святилища, конечно же, в некотором метафизическом смысле отворились перед Христом и впустили Его в этот мир, но в то же самое время, они, как и двери дома, остались закрытыми и не повреждёнными.
2) В Ветхом Завете есть ещё одно замечательное пророчество о том, что Христос будет единственным Сыном Своей Матери: "ибо я был сын у отца моего, нежно любимый, и единственный у матери моей" (Прит. 4:3). Эти слова произнес царь Соломон. Но как же Соломон мог такое сказать, если он на самом деле не был единственным сыном у своей матери Вирсавии: "и сии родились у него (Давида) в Иерусалиме: Шима, Шовав, Нафан и Соломон, четверо от Вирсавии" (1 Пар. 3:5)? Это совершенно очевидное противоречие между вышеприведенными свидетельствами Библии прекрасно разрешается тем толкованием, что Прит. 4:3 есть один из мессианских стихов в Ветхом Завете, который пророчествовал о том, что Христос будет единственным Сыном у Своей Матери. А если мы не хотим таким образом понимать данное место, то вразумительного ответа на вопрос: "почему Соломон называет себя единственным сыном своей матери, если он не был таковым?" мы дать не сможем. А если он говорит о Христе, что очевидно, то значит, мы противоречим Библии, когда утверждаем, что у Девы Марии были и другие дети, кроме Христа.
3) Лк. 1:34. Здесь Дева Мария в ответ Ангелу, благовестившему Ей о рождении Сына, вопрошает: "как будет это, когда Я мужа не знаю?". Ведь если думать (как думают протестанты), что Дева Мария не давала Богу обета девства, и собиралась вскоре вступить в обычный брак с Иосифом, то какой смысл имел бы Её вопрос? Ведь если ангел, пророк или прозорливец скажет обрученной невесте, что она родит сына, которому нужно наречь такое-то имя, то разве она станет спрашивать: "как будет это, когда я мужа не знаю"? Такого вопроса даже возникнуть не может, и он вызвал бы у собеседника только недоумение. Ведь девица эта готовится к замужеству, обычным следствием чего является рождение детей. И любая обрученная невеста поняла бы эти слова только так, что она благополучно выйдет замуж и родит сына от своего мужа. Но если поверить преданию Церкви о том, что Дева Мария дала обет девства и не готовилась жить супружеской жизнью с Иосифом, то Её недоумение от таких слов Ангела вполне закономерно.
4) Иисус Христос, Сын Божий, называется в Библии Единородным (Ин. 1:18; ср. Зах. 12:10). Конечно, Единородный Он прежде всего по Своему Божеству. Но и по человечеству Он также Единородный, ибо человеческое Его рождение уподобляется рождению Божественному и собой отображает его. И нет никаких библейских или богословских причин не относить единородность Сына как к первому Его рождению по Божеству от Отца, так и ко второму Его рождению по человечеству от Духа Святого и Девы Марии; иначе - нет никаких причин не понимать единородность Сына в полном смысле этого слова.
Итак, пророк Иезекииль возвестил о том, что никто, кроме Христа, не родится от Девы Марии, и царь (и пророк) Соломон подтверждает эту мысль. Также и сама Дева Мария вопросом, заданным Ею Ангелу, показала, что она посвятила своё девство Богу, и не намеревалась вступать с Иосифом в супружеские отношения, а значит, не могла иметь и детей от него. И, кроме того, Библия называет Христа Единородным, что следует относить как к первому, так и ко второму Его рождению.
И тут закономерен вопрос: для чего же тогда Мария была обручена Иосифу?
На вопрос этот блаж. Августин, например, отвечает так: "Девство Марии тем многоценнее и приятнее, что Она посвятила его Богу ещё прежде, нежели Он зачался. Это показывают её слова Ангелу-благовестнику: как будет это, когда Я мужа не знаю? Поистине, она не сказала бы сего, если бы ещё прежде не дала Богу обета пребыть девою. Но так как это было не согласно с нравами израильтян, то Она обручилась мужу праведному, который не только не нарушил сам того, что Она уже посвятила Богу, но и охранял бы её от других" [Августин, "О Деве", IV].
И здесь уместно выдуманному протестантскому преданию (о том, что Дева Мария по рождестве Христа лишилась своего девства, вступила в обычный брак с Иосифом и имела от него других детей), старательно и последовательно передаваемому протестантами из поколения в поколение вот уже несколько веков, противопоставить истинное апостольское предание, которого держится Церковь из древности. И начало своё ведёт оно, естественно, от Самой Девы Марии; от Ап. Иоанна, который как ближайший ученик Христа, к тому же Им Самим усыновлённый Деве Марии ("Жено! се, сын Твой" - Ин. 19:26), был посвящен в тайну чудесного рождения Иисуса; от Иакова, которому как сыну Иосифа были известны многие обстоятельства Его жизни и рождения; от евангелиста Луки, который для написания своего Евангелия провел "тщательное исследование всего сначала" (Лук. 1:3) и много беседовал обо всех событиях, связанных со Христом, с Его Матерью.
Итак, как всё было на самом деле?
У родителей Марии, Иоакима и Анны, долго не было детей, и данное обстоятельство, как мы знаем, предшествовало рождению многих святых Божьих людей, таких как патриарха Исаака, пророка Самуила и предтечи Господня. Праведные супруги весьма скорбели о своей бездетности. Особенную печаль о своём безчадстве ощутили будущие родители Девы Марии, когда Иоаким намеревался принести жертву Богу в числе первых (как и полагалось ему по его положению), но был остановлен священником, который сказал ему, что не оставивший наследства Израилю не может приносить жертву в числе первых. Скорбь Иоакима и Анны была безмерной, и они со слезами как никогда стали просить Бога даровать им ребенка, обещая посвятить его Господу. И Бог услышал их молитвы, и у них родилась девочка, будущая Матерь нашего Спасителя. Родители исполнили свое обещание, и в возрасте 3-х лет посвятили Её Господу, приведя в Иерусалимский Храм и оставив на воспитание. Мария всецело посвятила себя Богу и дала обет девства, который и сохранила до конца жизни. Священники одобрили этот обет, и по вдохновению от Духа [Можно ли сомневаться в том, что все, касающееся пришествия в этот мир И. Христа, было под особым водительством Духа Божия?] нашли для Марии пожилого вдовца Иосифа, которому соо значит: бщили об обете Марии, и поручили ему заботиться о ней и быть хранителем Её девства. На таких условиpях и была Дева Мария обручена ИосифуЖено! се, сын Твой.
Таким образом, Дева Мария обручилась Иосифу не для того, чтобы вступить с ним в обычное супружество, а для того, чтобы он был Её попечителем и охранителем Её девства; чтобы у окружающих не возникало вопросов о Её социальном статусе. И блаж. Августин в вышеприведенной цитате как раз и указывает на эти обстоятельства, связанные с обручением Девы Марии.
Мы же ничего об этом не знаем, и знать не хотим все по той же своей приверженности лживому и внутренне противоречивому лозунгу "только Писание" [Этот тезис будет подробно разбираться в третьей части книги]: "раз об этом не сказано в Евангелии, то это все выдумки". Но если в Писании не сказано о том, что Ап. Павла казнили мечом, а Ап. Петра распяли вниз головой, то это еще не значит, что это выдумки: эти и многие другие факты мы признаем. В Библии не сказано и о том, что Иосифу было 15 лет на момент его обручения Марии, но на курсе по Новому Завету во время моей учёбы в ДХУ нам преподавали именно такую теорию [Кстати, если этот факт не взят из Библии, то откуда же? Православные, говоря о том, что Иосиф на момент обручения с Марией был пожилым вдовцом, основывают своё мнение на свидетельствах многих древних христианских источниках. На чём же, как не на фантПравославно-догматическое богословиеазии и голом предположении, основана протестантская теория о том, что Иосифу на момент обручения было 15 лет?].
Но если мы с Вами хотя бы теоретически допустим, что вышеприведенное предание достоверно, то какая при этом обнаружится мудрость Божьего промысла! Ведь если Господь желал, чтобы И.Христос родился от Духа Святого и Девы Марии без участия мужа; чтобы Матерь Иисуса навсегда осталась девой и ни с кем не имела никогда супружеских отношений, но чтобы при этом Её не признали блудницей (когда обнаружится ребенок у не имеющей мужа) и не побили камнями; чтобы до времени тайна "бессеменного зачатия" Сына Божия была скрываема, и чтобы у Иисуса был земной отец, то именно вышеописанное церковное предание прекрасно отвечает всем этим многочисленным требованиям!
Теперь в очередной раз зададим весьма важный для нашего исследования вопрос: а что думали о Марии древние христиане? Считали ли они Её приснодевой, как блаж. Августин и современные православные, или они думали как мы, что девой она оставалась только до рождения Сына?
Как ни хотелось мне, ещё баптисту, в своё время найти подтверждение своей вере, но и здесь истина со всей очевидностью оказалась на стороне Православия. Вот некоторые свидетельства из древних документов и творений отцов Церкви, из которых явствует вера первых христиан в приснодевство Марии.
Св. Ипполит Римский (II-III вв.) говорил: "Всё Сотворивший, из всесвятой приснодевы (греч.  ) Марии… родился человеком" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 72].
) Марии… родился человеком" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 72].
Св. Мефодий Патарский (III-IV вв.) в отношении к Марии употреблял такие слова и выражения, как: "деваматерь" (греч. ![]() ); "матерь дева" (греч.
); "матерь дева" (греч. ![]() ) и "матерь дева и дева матерь" (греч.
) и "матерь дева и дева матерь" (греч. ![]() ) ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 69].
) ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 69].
В древнейших литургиях, известных под именами ап. Иакова, Ап. Петра и евангелиста Марка, в отношении Марии употребляется титул "Приснодева". Это же слово мы видим и в более поздних литургиях IV-го века - святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, которые ничего нового по существу не вводили, а лишь сократили, как известно, древнюю литургию ап. Иакова. Слово "Приснодева" встречается и в литургии преждеосвященных даров св. Григория Богослова (IV в.). Всё это говорит о том, что вера в приснодевство Марии была присуща Церкви из начала, и она никогда не знала и не держалась иного предания по этому вопросу.
Св. Григорий Нисский (IV в.): "Одна и та же и Матерь, и Дева; ни девство не воспрепятствовало Ей родить, ни рождение не нарушило девства" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 69].
Кирилл Александрийский (IV в.): "Единородное Слово Божие... происходит от Девы, не разрушив своим зачатием девического пояса и не расторгнув его рождением, но сохранив целым и неприкосновенным" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 70].
Иоанн Златоуст (IV в.): "…мы еще многого не знаем, например: как Невместимый вмещается в утробе? Как все Содержащий носится во чреве жены? Как Дева рождает и остается Девою?" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 70].
И в другом месте: "Девственная утроба Девы и после рождения осталась невредимой... Дева и после рождения осталась Девою и рождением не нарушила девства... (Христос) вышел из утробы, и утроба осталась девственной, потому что Тот, Кто без семени устроил Себе в Деве одушевленный храм, Сам и сохранил, как Бог, утробу целою. Дела Божественные не подлежат природе вещей, но повинуются повелению Бога Слова".
А также: "В Адаме не потерпело вреда соотношение членов после того, как взято было ребро, ни печать девственности не нарушилась после того, как вышел Младенец" [Беседа: "Против еретиков, и о святой Богородице"].
Св. Ефрем Сирин (IV в.): "Очистил (Бог) Деву, предъуготовив Духом Святым; и потом утроба, став чистою, зачинает Его. Очистил Деву при ея непорочности; почему, и родившись, оставил Девою" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 70, 76].
И ещё: "…потому рождённое не нарушило печати девства, и Дева пребыла без болезней". О том, что Дева родит Мессию безболезненно, пророчествовал ещё пророк Исаия: "Ещё не мучилась родами, а родила; прежде, чем наступили боли её, разрешилась сыном" (Ис. 66:7). Но несмотря на такие ясные и буквальные слова пророка, протестанты не относят их к рождению Христа. Церковь же из древности утверждала, что Дева Мария родила Иисуса именно без болей.
Так, уже св. Ириней Лионский, известный христианский апологет и исповедник II-го века, относил приведенное пророчество Исаии к рождению Христа: "Также и о рождении Его тот же пророк говорит в другом месте: "Прежде, чем мучиться родами, она родила; прежде, чем наступили боли, она родила сына" (Ис. LXVI, 7); этим он возвестил неожиданное и недомыслимое рождение Его от Девы [Ириней Лионский, "Доказательство апостольской проповеди", п. 54]. И если признать, что Христос прошёл через утробу Своей Матери так, как было объяснено выше при рассмотрении Иез. 44:2, то очень понятно, почему Мария не испытывала болей при рождении.
Как видим, православное учение о приснодевстве Марии очень последовательно и во многих подробностях хорошо согласуется со Словом Божиим и голосом древней Церкви. Наше же протестантское учение об этом предмете находится в противоречии как с Библией, так и с верой древней Церкви.
Св. Амвросий Медиоланский (IV в.): "Невозможно, чтобы Сын Божий избрал для Себя Матерью ту, которая, родив Его, восхотела потом нарушить свое девство" [Ambros de instit. virgin с. 6].
А также: "сказавшая слова: "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему", и после того, как родила, Дева: ибо и пророк (Ис. 7,14) возвестил не только то, что зачнёт Дева, но и то, что родит Дева" [Цит. по "Православно-догматическое богословие", том. II, с. 69].
Здесь следует обратить особое внимание ещё на одно пророчество Исаии, на которое ссылается великий и славный пастырь Церкви, что зачнёт и родит Дева. В Никео-Цареградском Символе Веры, который признают и протестанты, также сказано о том, что Иисус Христос воплотился "от Духа Святого и Марии Девы". То есть, Христа родила Дева, а значит, в рождении Она осталась Девой. Если при рождении младенца девство Девы упразднилось бы, то уже нельзя было бы сказать, что Дева родила. Это очень понятно, если только трезво оценить, что значат слова "Христос родился (воплотился) от Девы". И Церковь, как видим, от древних времён понимала эти слова именно таким образом.
Анализируя учение древней Церкви [Некоторые другие указания и цитаты из древних церковных писателей о приснодевстве Марии см. "Православно-догматическое богословие", том II, с. 67-70, 76] о Марии митр. Макарий делает ясный и совершенно справедливый вывод: "…св. Церковь, со времён Апостолов, постоянно исповедывала её Девою в своих Символах, постоянно исповедывали её Девою и все частные пастыри Церкви и все верующие, так что, по свидетельству св. Епифания, имя Девы соделалось как бы собственным именем Марии" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 72].
Но, несмотря на многие ясные свидетельства древних христиан, протестанты упорно не хотят соглашаться с этим догматом и утверждают совершенно противное вере древних, в гордыне думая, что мы лучше их знаем, пребыла ли Мария девой, и были ли у неё другие дети, кроме Христа. (И это всё при том, что важнейшим богословским положением протестантизма является утверждение, что он возвратился к вере древней Церкви - вот верх [Впрочем, ради справедливости замечу, что ещё более значимой ложью протестантизма является его самое важное основополагающее утверждение, что он проповедует чистое Евангелие и основан на Библии. На самом деле, протестантизм крайне искажает учение Библии, что я и показываю в каждой главе своей книги. Перечень главных ересей протестантизма см. в конце книги] протестантского цинизма и лжи). Для подтверждения же этой своей позиции протестанты прибегают к излюбленному способу всех сектантов - неуместным ссылкам на Св. Писание (не будем забывать, что сам дьявол доказывал Христу правильность своих предложений не праведными ссылками на Св. Писание). Существует три главных отрывка из Библии, которыми мы пытаемся подтвердить своё учение.
Первый - Мф. 1:25, где сказано, что Иосиф "не знал Её, как наконец Она родила Сына Своего...". Буквально с греческого: "И не знал Её, доколе (греч. ![]() - эос) не родила Сына Своего". Отсюда протестанты делают вывод, что Иосиф не знал Деву Марию только до времени, пока Она не родила Христа, а после того вошел с Нею в супружеские отношения, в результате чего у Марии родились другие дети. Но это не правда. Здесь евангелист Матфей описывает два отдельных факта, не связанных между собой так, как может показаться при прочтении русского перевода. То есть, наступление второго события не прекращает действия первого; факт рождение Сына не говорит о том, что первый факт ("не знал Её") перестал иметь место. Здесь мы сталкиваемся с гебраизмом (еврейским выражением), смысл которого на русский язык можно передать так: "И не знал Её. Наконец Она родила Сына". И в Новом Завете мы находим несколько мест, где греческое слово
- эос) не родила Сына Своего". Отсюда протестанты делают вывод, что Иосиф не знал Деву Марию только до времени, пока Она не родила Христа, а после того вошел с Нею в супружеские отношения, в результате чего у Марии родились другие дети. Но это не правда. Здесь евангелист Матфей описывает два отдельных факта, не связанных между собой так, как может показаться при прочтении русского перевода. То есть, наступление второго события не прекращает действия первого; факт рождение Сына не говорит о том, что первый факт ("не знал Её") перестал иметь место. Здесь мы сталкиваемся с гебраизмом (еврейским выражением), смысл которого на русский язык можно передать так: "И не знал Её. Наконец Она родила Сына". И в Новом Завете мы находим несколько мест, где греческое слово ![]() употребляется таким же образом, как и в Мф. 1:25.
употребляется таким же образом, как и в Мф. 1:25.
Например, в Мф. 28:20 Христос говорит Своим ученикам: "И се Я с вами во все дни до скончания века". И хотя здесь стоит в греческом тексте тоже слово ![]() , но протестанты, конечно же, не считают, что после скончания века Христос уже не будет со Своими учениками в Царстве Небесном. Здесь, также как и в Мф. 1:25, наступление второго события не прекращает действия первого; факт скончания века не говорит о том, что первый факт (Христос будет со Своими учениками) перестанет иметь место.
, но протестанты, конечно же, не считают, что после скончания века Христос уже не будет со Своими учениками в Царстве Небесном. Здесь, также как и в Мф. 1:25, наступление второго события не прекращает действия первого; факт скончания века не говорит о том, что первый факт (Христос будет со Своими учениками) перестанет иметь место.
Подобные обороты речи мы встречаем и в Ветхом Завете. Например, в Ис. 46:4 Бог говорит иудеям: "и до старости вашей Я тот же буду". Уверен, что мы не будем спорить с тем, что Бог остался тот же и во время старости и после смерти тех, кому были обращены приведенные слова, хотя здесь и употреблено еврейское слово ад (до), аналогичное греческому ![]() [В Септуагинте, древнем переводе еврейских Писаний на греческий язык, в этом месте стоит именно слово
[В Септуагинте, древнем переводе еврейских Писаний на греческий язык, в этом месте стоит именно слово ![]() ]. В другом месте мы также читаем: "И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти её" (2 Цар. 6:23). Хотя и здесь стоит то же самое слово до (по Септуагинте
]. В другом месте мы также читаем: "И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти её" (2 Цар. 6:23). Хотя и здесь стоит то же самое слово до (по Септуагинте ![]() ), но это вовсе не значит, что у Мелхолы не был[Многие протестанты привыкли к тому, что с большой буквы пишутся (кроме, естественно, названий, имён и прочих случаев, оговоренных грамматикой) только слова, обозначающие Бога и Его местоимения: такой обычай соблюдается почти всеми христианскими издательствами Библии. Поэтому, протестантов может смутить, что личные и указательные местоимения, относящиеся к Марии, и другие слова, такие как Дева, Матерь, Богородица и пр., православные также пишут с большой буквы. Сей факт не нужно толковать так, что православные чтят Марию как Бога: это просто знак глубокого почтения. Например, в многотомных толкованиях на Новый Завет У. Баркли, изданных о детей только до смерти, а после родились. Это ещё один отличный пример, который показывает, что хотя между emдвумя утверждениями стоит слово до, но первое (Мелхола не имела детей) остаётся в силе и после свершения второго события (её смерть). Во всех таких местах (см. также Втор. 34:6) Слово Божие указывает только на обстоятельство, которое было или будет до такого-то события, не утверждая того, что после этого события данное обстоятельство изменится. И Мф. 1:25 - одно из таких мест. Поэтому, этот стих не содержит мысли о том, что после рождения Христа Иосиф познал Марию.
), но это вовсе не значит, что у Мелхолы не был[Многие протестанты привыкли к тому, что с большой буквы пишутся (кроме, естественно, названий, имён и прочих случаев, оговоренных грамматикой) только слова, обозначающие Бога и Его местоимения: такой обычай соблюдается почти всеми христианскими издательствами Библии. Поэтому, протестантов может смутить, что личные и указательные местоимения, относящиеся к Марии, и другие слова, такие как Дева, Матерь, Богородица и пр., православные также пишут с большой буквы. Сей факт не нужно толковать так, что православные чтят Марию как Бога: это просто знак глубокого почтения. Например, в многотомных толкованиях на Новый Завет У. Баркли, изданных о детей только до смерти, а после родились. Это ещё один отличный пример, который показывает, что хотя между emдвумя утверждениями стоит слово до, но первое (Мелхола не имела детей) остаётся в силе и после свершения второго события (её смерть). Во всех таких местах (см. также Втор. 34:6) Слово Божие указывает только на обстоятельство, которое было или будет до такого-то события, не утверждая того, что после этого события данное обстоятельство изменится. И Мф. 1:25 - одно из таких мест. Поэтому, этот стих не содержит мысли о том, что после рождения Христа Иосиф познал Марию.
Второй отрывок, это упоминание в Евангелии о братьях и сестрах Христа (Мр. 6:3; Лк. 8:20; Ин. 7:5). Протестанты считают, что они непременно были детьми Марии. Но из евангельского прочтения этих стихов ни на языке оригинала, ни в русском переводе такой вывод вовсе не является единственно возможным; и, более того, плохо согласуется с другими евангельскими свидетельствами (о чём будет сказано ниже). Братьями в Библии называются отнюдь не всегда дети обоих тех же самых родителей, то есть родными братьями в нашем современном смысле слова. Лот назван братом Авраама, а Иаков - братом Лавана (Быт. 13:8; 29:12) [В еврейской Библии в этих местах стоит слово ах, что значит брат. Также и в греческом переводе Септуагинте используется слово ![]() (аделфос), что значит брат. В церковно-славянском переводе, известном своей буквальностью, также в Быт. 13:8 и 29:12 стоит именно слово брат], хотя на самом деле первые были племянниками вторым. Все сыновья Иакова назывались братьями Иосифа (Быт. 42:3,4,6), хотя десять из них не были сыновьями его матери Рахили. Поэтому, если Евангелие называет кого-то братьями Христа, то это вовсе ещё не доказывает, что они были сыновьями Девы Марии, ведь греческое слово
(аделфос), что значит брат. В церковно-славянском переводе, известном своей буквальностью, также в Быт. 13:8 и 29:12 стоит именно слово брат], хотя на самом деле первые были племянниками вторым. Все сыновья Иакова назывались братьями Иосифа (Быт. 42:3,4,6), хотя десять из них не были сыновьями его матери Рахили. Поэтому, если Евангелие называет кого-то братьями Христа, то это вовсе ещё не доказывает, что они были сыновьями Девы Марии, ведь греческое слово ![]() , как и русское слово "брат", может означать отнюдь не только одноюродных братьев. Да и не маловажным обстоятельством в данном случае является тот факт, что в Евангелии нигде братья и сёстры Христа не называются детьми Марии.
, как и русское слово "брат", может означать отнюдь не только одноюродных братьев. Да и не маловажным обстоятельством в данном случае является тот факт, что в Евангелии нигде братья и сёстры Христа не называются детьми Марии.
Потому, из евангельского повествования мы никак не можем заключить, что братья Христа были непременно родными Его братьями и детьми Девы Марии. Места Евангелия, где упоминаются братья и сёстры Христа, не дают нам точного указания степени их родства со Христом. Теоретически (если рассматривать только эти места Евангелия) они могли быть детьми Марии, но могли быть и просто близкими родственниками - детьми Иосифа от первого его брака, двоюродными и троюродными братьями и даже племянниками и дядями Христа, как мы видим на примере Лота и Авраама, и Иакова и Лавана (Быт. 13:8; 29:12).
Но если в Евангелии не сказано точно о том, были ли братья Христа детьми Девы Марии, то ветхозаветные пророчества и голос древней Церкви с ясностью говорят нам - в чём выше мы имели возможность убедиться - о том, что Христос был единственным Сыном у Своей Матери, и что Она навсегда пребыла девственной. Из этого православные богословы делают вывод, что братья и сестры Христа были Ему либо названными (сводными) братьями и сестрами, по Иосифу [Если какой либо протестант захочет на это возразить, что сыновья Иосифа от первого брака не могли называться братьями Христа, так как Иосиф не был отцом Христа, то таковое возражение никоим образом нельзя брать во внимание. Ведь социально Иисус был сыном Иосифа: "Иисус… был, как думали, Сын Иосифов" (Лк. 3:23). Ведь и сама Дева Мария, прекрасно знавшая, что Иисус не является сыном Иосифу, называла его, тем не менее, отцом Иисуса: "отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя" (Лк. 2:48). И если всеми и самой Марией Иосиф назывался отцом Иисуса, то и сыновья Иосифа, конечно же, могли быть с полной справедливостью названы братьями Иисуса. Ведь и в нашей культуре если семья, уже имеющая своих детей, усыновляет чужого ребенка, то хотя он и не состоит с ними в кровном родстве, всё равно называется их братом] (от его первого брака, ибо он был вдовец, когда обручился с Марией), либо троюродными [Двоюродными по Марии они быть не могли, ибо известно, что Дева Мария была единственным ребёнком в семье] по Марии, но ни в коем случае не детьми Девы Марии. И вывод этот никак не противоречит Евангелию. О том, кем именно - сводными по Иосифу или троюродными по линии Марии были братья и сёстры Христа, в православном богословии есть разные предположения, имеющие право на существование, поскольку, по всей видимости, среди братьев Христа были и дети Иосифа, и троюродные Его братья. Но это не так существенно. Догматически весьма важно именно то, что Христос был единственным Сыном Марии, и что Дева навсегда пребыла девой!
Здесь следует заметить, что протестанты отрицают не только догмат о приснодевстве Марии, но и саму его важность, считая этот вопрос богословски незначительным [Хотя незначительным протестанты считают этот догмат только на словах, и такое отношение к делу есть часть протестантской борьбы против почитания Богородицы. На деле же, они никогда не признают православного взгляда по этому вопросу, и никому не позволят в своих рядах держаться не протестантских убеждений о Божьей Матери, хотя теоретически считают его не важным. Почему это так? Потому, что если протестант сознательно и не понимает важность вопроса о приснодевстве Марии, то он понимает его подсознательно, на духовном уровне. Иначе говоря, важность этого догмата хорошо понимают духи протестантизма, которые никогда не позволят человеку, ими пойманному, отступать от важнейших ересей, которые им удалось утвердить в протестантизме]. И не понимаем мы важности этого догмата по многим причинам, одна из которых заключается хотя бы в том, что протестанты очень недооценивают добродетель девства и не понимают его великой ценности пред Богом [Да и как нам понимать её после того, как главный наш основатель, католический монах Лютер, отрекся от данных им обетов безбрачия и женился на монахине?]. Поэтому, ниже будут указаны причины великой значимости веры в приснодевство Марии.
Итак, в Евангелии мы нигде не найдём свидетельства, что братья Христа были детьми Марии, а считать их непременно Её родными детьми, исходя из значения как русского слова "брат", так и греческого ![]() , нет никакого основания. Евангельские места, где упоминается о братьях Христа, даёт нам, как уже было сказано, не одну возможность для толкования. И мы уже увидели, что древняя церковная традиция полностью отвергает версию, которой держатся протестанты. Но если даже строить свои догадки на одном только Евангелии, что очень свойственно протестантам, без учёта мнения древней Церкви (хотя это мнение всегда, а особенно в таких вопросах, должно быть для нас авторитетным, ибо древние, очевидно, лучше знали семейные обстоятельства жизни Христа, нежели реформаторы XVI века), то Новый Завет, при внимательном его изучении, как раз таки хорошо выявляет неправду протестантского предания насчёт Девы Марии, но в тоже время прекрасно согласуется с преданием православным. Подтверждением этому заявлению служат два обстоятельства.
, нет никакого основания. Евангельские места, где упоминается о братьях Христа, даёт нам, как уже было сказано, не одну возможность для толкования. И мы уже увидели, что древняя церковная традиция полностью отвергает версию, которой держатся протестанты. Но если даже строить свои догадки на одном только Евангелии, что очень свойственно протестантам, без учёта мнения древней Церкви (хотя это мнение всегда, а особенно в таких вопросах, должно быть для нас авторитетным, ибо древние, очевидно, лучше знали семейные обстоятельства жизни Христа, нежели реформаторы XVI века), то Новый Завет, при внимательном его изучении, как раз таки хорошо выявляет неправду протестантского предания насчёт Девы Марии, но в тоже время прекрасно согласуется с преданием православным. Подтверждением этому заявлению служат два обстоятельства.
1) Евангелист Матфей в 13:55 сообщает нам, что братьями Иисуса были Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Но далее (в 27:56; ср. Мк. 15:40) он говорит, что у Креста Христова стояла кроме Матери Иисуса другая Мария, которая была матерью Иакова и Иосии. Очевидно, что эти Иаков и Иосия не другие, а те же самые лица - братья Христа. Иначе, если бы это были другие люди, то зачем вообще упоминать о том, что эта Мария есть мать таких-то не известных сыновей, не имеющих отношения ко Христу и о которых раньше не упоминалось? Итак, если первые двое из братьев Христа, Иаков и Иосия, были сыновьями не Матери Христа, а другой Марии, то, очевидно, не были сыновьями Девы Марии и Симон и Иуда, иначе (если бы они являлись Её детьми), то, как более близкие родственники Христа, были бы у Матфея названы первыми.
2) И.Христос, умирая на кресте, усыновил Иоанна Своей Матери. Причем сам Иоанн замечает: "И с того времени ученик сей взял Её к себе" (Ин. 19:27). Если у Девы Марии были бы еще сыновья и дочери, то Христос не стал бы (тем более в такой трудный час, находясь в предсмертной агонии) заботиться о Матери и поручать Её заботам Иоанна, так как другие дети сами бы позаботились о Ней. Ещё св. Иоанн Златоуст видел в истории с усыновлением Иоанна Марии указание на то, что Христос был единственным Её Сыном: "Если бы он (Иосиф) познал Её, и действительно имел женою; то для чего бы Иисусу Христу поручать Её ученику, как безмужнюю, никого у себя не имеющую, и приказывал ему взять Её к себе?" [Толкование на евангелие Матфея, беседа 5, п.3]. Таким образом, все эти обстоятельства склоняют к той именно мысли, что других детей у Девы Марии просто не было.
Контраргумент же, который иногда высказывают протестанты в данном случае, что дети эти, братья Христа, были ещё маленькими и не могли позаботиться о своей матери, не выдерживает никакой критики, ибо совершенно не соответствует, во-первых, евангельскому повествованию, где о них повествуется как о людях вполне совершеннолетних (см. Ин. 7:3-8; Мк. 3:21), и, во-вторых, историческому факту (который признают и протестанты), что Иаков, брат Господень, вскоре после смерти Христа стал епископом Иерусалимским.
Итак, если Иаков был достаточно зрел, чтобы управлять и заботится о духовных нуждах целой Иерусалимской Церкви, то он, конечно же, мог бы позаботится и о Матери Христа, если бы Она была и его матерью. Но если признать, что Иаков попросту не был сыном Девы Марии, и Христос был Её единственным Сыном, а Иосиф к тому времени уже умер, то и забота Христа и решение Ап. Иоанна взять Её к себе в дом вполне понятны и естественны. И здесь следует обратить также внимание на тот факт, что во время общественного служения Христа об Иосифе ничего не говорится в Евангелии, а только о Матери и братьях. Это обстоятельство наводит на мысль, что Иосиф уже к тому времени умер, и протестанты согласны с этим. Но ведь этот факт, опять же, отлично согласуется с церковным преданием о том, что Иосиф был уже в преклонных годах, когда обручился с Девой Марией, и до выхода Христа на служение уже не дожил, а с преданием протестантским согласуется плохо, заставляя предполагать преждевременную смерть Иосифа, что намного менее вероятнее смерти своевременной, по старости.
Итак, рассмотренные нами места Евангелия дают нам больше оснований полагать, что Христос был единственным Сыном Девы Марии, чем думать, что они у Неё были. А если к евангельскому повествованию присовокупить, во-первых, ветхозаветные пророчества, рассмотренные выше (Иез. 44:2 и Прит. 4:3); во-вторых, ответ Девы Марии Ангелу (который звучит крайне странно и даже безумно, если думать, что она собиралась жить супружеской жизнью с Иосифом); в-третьих, факт именования Христа в Библии Единородным Сыном, которое нет причин не относить к обоим Его рождениям; в-четвёртых, ясные свидетельства древних христиан (которые куда ближе чем мы, живущие в XXI веке, отстояли по времени от Девы Марии и Апостолов, а потому и лучше чем мы знавшие, осталась ли Мария девой после рождения Христа, или нет); и, в-пятых, мысль о полной богословской необходимости предполагать, что Мать Иисуса не должна была иметь супружеские отношения с мужчиной (о чём будет сказано двумя страницами ниже), то православный догмат о приснодевстве Марии становится неоспоримым, по крайней мере, для всякого разумного и ищущего не "своего" (ср. Флп. 2:21), а Истину.
И если протестант проповедует против данного догмата по незнанию истины, то есть, православных аргументов и свидетельств древней Церкви, то он ещё может иметь некое извинение, как всякий, согрешающий по неведению. Но если Вы, мой уважаемый протестантский читатель, узнав хотя бы только сейчас об истинном положении вещей, продолжите говорить, что Дева Мария не пребыла девой и имела других детей от Иосифа, то это будет не больше и не меньше, как хула на Духа Святого, на Духа Истины; и одно это будет более чем достаточным основанием для Вашей вечной погибели - можете нимало в этом не сомневаться.
Третий евангельский отрывок, который приводят протестанты в пользу того, что И.Христос не был единственным сыном Пречистой Девы, это Лк. 2:7, где Христос именуется Первенцем: "и родила Сына своего Первенца". Раз Христос назван в Евангелии первенецем, то есть первым, то очевидно, говорят протестанты, что у Марии были и другие дети, от Иосифа.
В действительности, такой аргумент выдаёт только богословское невежество его изобретателей. Известно, что понятие о первенцах взято из Ветхого Завета. Господь повелел Моисею: "освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, (потому что) Мои они" (Исх. 13:2; ср. Числ. 3:13). И когда в иудейской семье рождался первый мальчик, его посвящали Богу как первенца и он назывался первенцем, хотя на восьмой день его жизни родителям еще не было известно, будут ли у них другие дети. И если других детей не было; если мать вообще умирала при родах, то этот единственный сын все равно являлся и назывался первенцем! Другими словами, первенцем является всякий перворожденный, независимо от того родились после него другие дети или нет [Богу, также, посвящался всякий первородный из скота, и он назывался первенцем независимо от того, будет ли его матка еще рождать, или нет].
Таким образом, наименование Христа Первенцем говорит о том, что Он первородный и принадлежит Господу, а не о том, что у Девы Марии были еще дети. Поэтому, возражения протестантов при внимательном рассмотрении оказываются неосновательными и не имеющими никакой силы.
Теперь нужно сказать о важности догмата о приснодевстве Марии.
Мы не понимаем того, что даже если не брать во внимание ни евангельские тексты, ни ветхозаветные пророчества, ни свидетельства древней Церкви, приведенные выше, которые прямо или косвенно утверждают данный догмат, то нам всё равно следовало бы полагать, что Матерь Иисуса должна была остаться навеки девой, ибо в том есть ясная богословская необходимость. Нужно осознавать, что значат слова: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя" (Лук. 1:35). Об этом предмете нужно рассуждать со всяким благоговением, в духе целомудрия, не плотски, но нужно ясно понять, что Сам Бог соединился с Девой Марией, "нашел" и "осенил" Её, то есть в определённом смысле взял Её Себе в супружество. И как плодом супружеского соединения мужа и жены является рождение ребёнка, так и плодом сего чудного осенения Марии Духом Святым явилось рождения Иисуса Христа - Сына Божия и Сына Девы. Потому православные в своём символе веры, который признают и протестанты, провозглашают, что Христос родился "от Духа Святого и Марии Девы", и потому Дева Мария называется в Православии "Богоневестой" и "Невестой неневестной" [Это выражение передает мысль о том, что будучи невестой Бога, она осталась в тоже время девственной, "неневестной"]. Посему, Дева Мария, особеннейшим образом соединившаяся с Самим Богом, никак не могла соединяться с человеком. Зачавшая от Жениха небесного не могла зачинать от жениха земного; родившая от Духа Святого не могла рождать от иного. Если женщина родит сына от своего мужа, а потом (при живом муже) вступит в связь с другим и родит детей также и от него, то подобное поведение всегда является и пред Богом и пред людьми изменой и прелюбодеянием. И если такое является грехом, то какой же был бы грех для Девы Марии и оскорбление для Бога, если Она, родив от Самого Бога, вступила бы в связь с иным и стала бы рождать ещё и от другого?
Из Библии мы видим, как ревностно относится Бог к тому, чтобы посвящённое Ему не использовалось для других целей. Чаши и все принадлежности для храма должны были быть новыми, и после посвящения их не позволялось уже использовать для других целей. И если эти сосуды увозили с собой разные завоеватели и употребляли для своих нужд, то тем самим они совершали великий грех и оскверняли эти сосуды. Например, царь Валтасар переполнил меру своих грехов именно тем, что приказал принести сосуды, вынесенные из Иерусалимского Храма его отцом Навуходоносором, желая, чтоб из них пили он и все, пировавшие с ним, за что был наказан смертью (Дан. 5 гл.). Так если взять и использовать для себя один из многочисленных посвященных Богу сосудов есть для человека такое великое святотатство и кощунство, то какой ужасный грех был бы для него взять себе в жену Ту единственную, Которую особенным образом освятил для Себя Бог из всего рода человеческого, с Которой Он Сам в исключительном смысле соединился и соделал Её Матерью Своего Сына?! Такого греха и осквернения не могли допустить ни Бог, ни Пресвятая Дева, ни праведный Иосиф. Поэтому, как никто иной не может сидеть на престоле Христовом [Престол Христа огромный и на нём со Христом восседают многие святые (см. Откр. 3:21; 4:6; 5:6), но на высочайшем месте, на месте Самого Христа никто не может сидеть] или висеть на Его Кресте, так никто больше не мог быть носимым во чреве Его Матери.
Это становится совершенно очевидным, если только связать одни факты с другими, если понимать, чему на самом деле нас научает Слово Божие. Но в том наша беда, что Библию мы читаем много, но мало понимаем её смысл. И хотя кощунство [Сергий Страгородский по этому поводу замечает: "Значит, став однажды Матерью воплотившегося Сына Божия, Дева Мария потом повела обычную семейную жизнь и даже имела детей от Иосифа. В этой совершенно не приемлемой и даже кощунственной для православного сознания мысли возражатели не видят ничего несообразного" ("Хрестоматия по сравнительному богословию", изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005 г., с. 608)] самой мысли о том, что Пресвятая Дева зачинала и рождала не только от Бога, но и от человека, должно быть очевидно для всякого духовно здравомыслящего христианина, протестанты без зазрения совести положительно учат о том, что Пресвятая Дева сначала зачала и родила от Духа Святого, а потом стала зачинать и рождать и от Иосифа! Поэтому, одна только эта ересь показывает, что протестантизм не/em есть часть Церкви Христовой, ибо Церковь не может учить такому богохульному догмату.
II. Теперь рассудим о том, праведно и правильно ли называть Деву Марию Богородицей и Богоматерью?
Протестанты категорически отказываются называть Деву Марию подобными словами, и в подтверждение своей позиции говорят, что alt=Мария родила Иисуса человека, но не Бога, ведь Бог Сын вечный и не имеет начала, и Его родил только Бог Отец. С.В.em Санников пишет об этом так: "У Бога нет и не может быть матери. В древних преданиях термин "Богородица" к Деве Марии применяется только как благочестивая метафора. Мария была матерью только человеческого естества, в которое воплотился Христос, но от неё Он не родился как Сын Божий и как Бог" [С.В. Санников. "Начатки учения". изд. Одесской библейской школы 1991 г., стр. 186]. П. Рогозин пишет о том же: "Дева Мария была призвана Богом дать Его Единородному Сыну только плоть человеческую, так как Христос, будучи Богом, был един с Отцом и Духом предвечно" [П. Рогозин, стр. 16]. Потому, наименование Богородица есть, по мнению протестантов, ересь.
Итак, суть протестантского не признания термина "Богородица" можно выразить так: "Мария родила не Бога, а только человеческое естество Христа, и потому её нельзя называть Богородицей и Божьей Матерью". Вот с этим утверждением нам и предстоит разобраться.
Для того, чтобы разбор данного вопроса был конструктивным, необходимо сразу выяснить терминологию, и понять, о чём говорят православные и протестанты. Прежде всего, нужно осознать, что у Сына Божьего, второго Лица Троицы, есть два рождения: одно извечное, от Отца, вне времени, а второе - от Духа Святого и Девы Марии при Его воплощении, во времени. Так вот, когда православные говорят о том, что Дева Мария родила Бога и потому является Богородицей, они никогда не утверждают, что Она является Матерью Сына Божия от вечности; или, тем более, что до рождения Христа от Девы Сына Божия в Троице не существовало. Эта нелепейшая мысль совершенно чужда Православию. Чтобы много не доказывать сей тезис, достаточно привести второе правило Пятого Вселенского Собора (а все семь Вселенских Соборов имеют в Православии непререкаемый авторитет), которое гласит: "если кто не исповедует двух рождений Бога Слова, - первого - предвечного, не во времени, бесплотного рождения от Отца, и второго рождения в последок дней сего же Бога Слова, сошедшего с небес и воплотившегося от святой, преславной Богородицы и Приснодевы Марии, да будет анафема".
Но ведь протестанты, - когда в споре с православными доказывают, что "у Бога нет и не может быть матери"; что "от неё Он не родился как Сын Божий и как Бог"; что "Христос, будучи Богом, был един с Отцом и Духом предвечно" - ставят вопрос так, как будто бы православные утверждают, что Мария есть Матерь Сына Божия, второго лица Троицы, от вечности! Это полная ложь, извращение и совершенное не понимание (а больше - нежелание понимать [Непониманию этому служит, конечно же, не сложность самого догмата о Богородице, а нежелание его понимать, или, если сказать ещё правильнее, активное и страстное желание не понимать и превратно толковать учение Церкви. На этой страсти зиждется весь протестантизм в целом и каждая его ветвь в частности, ибо если протестанты не будут постоянно преподносить учение Церкви как жуткое язычество и безумную ересь, то в глазах протестантов пропадёт сам смысл и моральное право на их существование (как протестантов). Ведь если Церковь учит правильно, то почему тогда мы не вместе с ней, и зачем враждуем против неё? Вот для того, чтобы мне оправдывать и одобрять в своей душе появление и существование моей церкви, я, как русский баптист, например, должен всегда думать о Православии, от которого откололся баптизм, плохо, и толковать его учение только негативно. Это обстоятельство нужно хорошо понимать, ибо оно является ключевым для разумения того, почему во многих случаях протестанты так упорно, вопреки уже, казалось бы, самым очевидным аргументам и свидетельствам Библии, веры древней Церкви и здравого смысла, так упорно противятся догматам истины. И тот факт, что баптисты ставят вопрос так, как будто бы православные утверждают, что Дева Мария родила Бога по самой Его природе, от вечности, является одним из многочисленных примеров того, как протестанты принципиально не хотят понимать догмата, о котором проповедует Церковь, и представляет его в извращённом и еретическом виде, а затем уже с удовольствием разбивают эту ими же самими придуманную ересь, чем оправдывают свой раскол и пребывание в секте: ведь если Православная Церковь учит такой ереси, то разве не правильно я сделал, что отделился от этого нечестия? Такова главная суть духовного состояния баптиста и его отношения к Православию. Потому православным с таким трудом приходится порой объяснять протестантам простейшие вещи, и доказывать, что православные чужды тех ересей, которые им баптисты приписывают]), что на самом деле утверждают православные. А они совершенно отвергают мысль (она и а ум нормальному человеку не придёт), что Дева Мария родила Бога из вечности, как Отец родил Сына, а имеют в виду только второе рождение Христа, во времени.
Поэтому, разговор о первом извечном рождении Сына нужно сразу оставить, ибо здесь нет никакого разномыслия между православными и протестантами, и обе стороны полностью согласны в том, что Дева Мария не родила в таком смысле Бога, и не является в таком смысле Богородицей. И в своём главном Символе Веры, где выражены главнейшие догматы, Церковь внесла о первом рождении Сына такие слова: "Верую… во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца [Заметим, от одного Отца, а не Отца и Марии Девы] рожденного прежде всех веков". Поэтому, с утверждением "Мария не родила Бога" православные полностью согласны, если говорить о первом рождении Сына Божия. Если же говорить о втором Его рождении, то данное утверждение совершенно ложно - говорят православные. Но протестанты категорически не хотят соглашаться даже с тем, что "Мария родила Бога" и в таком - втором смысле. Вот здесь и заключается действительное и важное догматическое разногласие православных и протестантов, о чём следует поговорить подробнее.
Итак, протестанты говорят: Мария не родила Бога. Кого же Она тогда родила? "Только плоть человеческую" [П. Рогозин, "Откуда всё это появилось", глава "Молитва святым угодникам и деве Марии"]; "человеческое естество" Христа; Иисуса, но не Христа - отвечают протестанты. Чьей Матерью была Мария? "Матерью Его человеческого естества". Говоря так, мы как будто не видим, какую глупость и ересь утверждаем, и как противоречим своей же вере. Ведь рождение человека есть всегда рождение не просто плоти и безличностного человеческого естества, но прежде всего личности. Священник В. Рубский обращает внимание на то, что в разговоре о Богородице крайне важно правильно поставить вопрос: "Всё зависит от качества вопроса: "что рождено?" или "Кто рождён?". Рождая человека, невозможно родить что-то, не родив кого-то. И если мы неверно спросим: что родила Мария? Ответом будет - плоть младенца. Но правилен вопрос: кого она родила? Ответ однозначен - Того, Кто сотворил небо и землю!" [Священник Вячеслав Рубский, "Православие - протестантизм. Штрихи полемики", глава "Почитание Божией Матери"].
Посему, для правильного ответа на вопрос: "есть ли Дева Мария Богородица?" прежде всего, нужно правильно его поставить: кого (а не что) Она родила? И на такой правильный вопрос будет правильный ответ: Христа, Который есть истинный Бог и Человек. Таким образом, Мария родила Бога. Или Она родила мёртвого Христа, одно тело без души? Вдумаемся в слова С. Санникова: "Мария была матерью только человеческого естества, в которое воплотился Христос". Как можно родить "человеческое естество"? Что хотят сказать протестанты? Что Мария родила какую-то "заготовку", какую-то плоть без души и без личности, в которую потом, уже после рождения, "воплотился Христос"? Но именно такой вывод следует из слов С. Санникова. А если баптисты с этим не согласны; если мы признаём, что Мария родила живого Христа, с личностью, в которой от самого зачатия соединилось человечество и Божество Христа, то как можно говорить, что Мария родила не Христа, а некое "человеческое естество"? Это же извращённое мышление и попросту какое-то богословское хулиганство. А если протестанты хотят сказать, что Мария родила человека-Христа, но не Бога-Христа, то это тоже ложь, ведь человечество и Божество было соединено во Христе от самого зачатия. Поэтому, Дева Мария родила в одном лице Иисуса Христа и Человека и Бога, только божественное Его рождение было не первым, а вторым. Поэтому, протестанты очень неправы, когда хотят признавать Христа Богом, но не признавать Деву Марию Богородицей.
Протестантское отрицание термина "Богородица" можно было бы понять, если бы мы верили, что во Христе Божество соединилось с человечеством не в момент зачатия, а после рождения. Это было бы, по крайней мере, логично. Например, очень понятно, когда Богородицей не признают Марию "свидетели Иеговы". Ведь они не верят, что Христос есть Бог-Иегова, а потому и Мария не может быть у них Богородицей. И хотя эти сектанты проповедуют ложь и ересь, но они, по крайней мере, здесь просто последовательны. Но как хотя бы логически объяснить нашу позицию, когда мы верим, что Христос есть истинный Бог; что Мария, конечно же, родила не одну мёртвую и безликую человеческую плоть Христа без души, а живого Христа, личность; что Божество и человечество во Христе было соединено не от рождения, а от самого зачатия, но сказать, что Мария родила Бога отказываемся?
В решении вопроса о присвоении Марии наименования Богородица не маловажно знать, конечно же, историю христологических споров, связанных с этим словом. Церковный обычай именовать Марию Богородицей окончательно утвердил [Протестанты часто представляют дело так, что Третий Вселенский Собор именно ввёл как новшество термин "Богородица". Так, в приложении к одному изданию протестантской Библии сказано: "На III-ем Вселенском соборе (431 г. по Р.Х.) в городе Ефесе было утверждено молитвенное почитание… Его Матери, Которая названа Богородицей (FAR EAST BROADCASTING COMPANY, P.O. Box 1, La Miranda, California 90637. Приложение к книге Откровения). Но на самом деле, этот Собор ни в коем случае не ввел термина "Богородица", а только своим авторитетом подтвердил правильность уже давно существующей церковной практики именовать этим словом Деву Марию, в чём ниже мы полностью убедимся] Третий Вселенский Собор (431 г.) в связи с осуждением ереси Константинопольского патриарха Нестория, который стал проповедовать, что И.Христос есть не Богочеловек, а только богоносец - то есть, простой человек, но исполненный Духа Святого, подобно Моисею и древним пророкам, - и, соответственно, Дева Мария не Богородица, а Христородица. То есть, Несторий как современные расселисты, не хотел признавать, что Христос есть истинный Бог. Потому, совершенно логическим следствием этого явилось отрицание терминов "Богородица" и "Матерь Божья". Вот что в частности писал Несторий: "Бог Слово ипостасно не соединялся с естеством человеческим и не рождался от Девы Марии, а родился от нея простой человек-Христос, с которым Бог Слово соединён был только внешним образом, нравственно, - в котором обитал, как во храме, как прежде обитал в Моисее и других Пророках, и который, следовательно, был только Богоносец (![]() - феофорос), а не Богочеловек, равно как и пресв. Дева - только Христородица (
- феофорос), а не Богочеловек, равно как и пресв. Дева - только Христородица (![]() - христотокос), а не Богородица" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 45].
- христотокос), а не Богородица" ["Православно-догматическое богословие", том II, с. 45].
Через эту ересь дьявол хотел лишить Церковь веры в божественность Христа. Но Вселенский Собор отверг это лжеучение и определил исповедовать Христа совершенным Богом и совершенным человеком, а Деву Марию продолжать называть Богородицею, утвердив при этом как безусловную истину слова Кирилла Александрийского (IV в.): "кто не исповедует, что Еммануил есть истинный Бог, а потому и святая Дева - Богородица: ибо Она плотски родила Слово Божие, соделавшееся плотью: тот да будет анафема" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 109, 110].
По поводу постановления Собора блаженный Федорит (который, кстати, был в дружеских отношениях с патриархом Несторием) говорил: "Первой степенью нововведений Нестория было мнение, будто Святую Деву, от которой заимствовал плоть и родился по плоти Бог Слово, не должно признавать Богородицею, а только Христородицею, тогда как древние и древнейшие провозвестники истинной веры по преданию апостольскому, учили именовать и исповедывать Матерь Божию Богородицею" [Haerеt Fab IV, с. 12. "Творения", том IV, стр. 245].
Епископ Антиохийский Иоанн, еще более близкий друг Нестория, желая отвратить его от пагубной ереси писал ему о слове "Богородица" так: "имя это никто из церковных учителей не отвергал. Напротив, многие, и притом достоуважаемые, пользовались им, а те, которые не пользовались им, не укоряли пользовавшихся... если по причине сего рождения (Гал. 4,4) именуется у отцов Дева Богородицею, как и действкто не исповедует, что Еммануил есть истинный Бог, а потому и святая Дева - Богородица: ибо Она плотски родила Слово Божие, соделавшееся плотью: тот да будет анафемаительно именуется, то не вижу никакой надобности входить в споры и нарушать мир Церкви. Мы не подвергаемся никакой опасности, когда говорим и мудрствуем так, как издревле говорили и мудрствовали в Церкви Божией богомудрые учители" [Aqud. Harduin.Act. Concil. Том I, часть I, стр. 1329].
Поэтому, термин Богородица, по сути, только утверждает догмат о Божественности Христа, и является попросту логическим его следствием (и, конечно же, вовсе не содержит мысли, что Дева Мария есть Матерь Бога Сына в вечности). Владимир Лосский по этому поводу пишет так: "Догматическая тема ![]() (Богородица), утверждённая в борьбе против несториан, есть тема прежде всего христологическая: в противопо border=ложность тем, кто отрицал Богоматеринство, здесь отстаивается ипостасное единство Сына Божия, соделавшегося Сыном Человеческим. Таким образом, здесь всё сосредоточено на христологии" ["Хрестоматия по сравнительному богословию", изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005 г., с. 583].
(Богородица), утверждённая в борьбе против несториан, есть тема прежде всего христологическая: в противопо border=ложность тем, кто отрицал Богоматеринство, здесь отстаивается ипостасное единство Сына Божия, соделавшегося Сыном Человеческим. Таким образом, здесь всё сосредоточено на христологии" ["Хрестоматия по сравнительному богословию", изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005 г., с. 583].
Христос есть истинный Бог, а не просто человек, как учил Несторий, и потому Мария родила не простого человека, а истинного Бога - вот причина, по которой Мария именуется Богородицей. Таким образом, это наименование не только не содержит в себе лжи, но, напротив, уберегает от ересей Нестория, "свидетелей Иеговы" и им подобных, отвергающих Божество Христа.
Поэтому, отказ протестантов называть Марию Богородицей приводит нас именно к христологической ереси. В. Лосский дальше пишет: "Но в то же время косвенно получает догматическое подтверждение и почитание Церковью Той, Которая родила Бога по плоти, а из этого следует, что все те, кто восстаёт против имени "Богоматерь", все, кто отвергает это именование Марии, приписываемое Ей благочестием, не могут считаться подлинными христианами, ибо они тем самим восстают против догмата воплощения Слова" [Там же, СС. 583, 584].
Чтобы ещё больше убедиться в неразумности и еретичности пр/supотестантского отказа признавать Марию Богородицей, проанализируем слова П. Рогозина: ""Иисус" - имя земное, в переводе на русский язык означает "Спаситель". "Христос" - имя Божие, означающее "Помазанник" [Нужно заметить, что рогозинские суждения об именах "Иисус" и "Христос" - самые огульные и произвольные. "Иисус" буквально значит "Иегова спасает", и именно это имя было бы правомернее считать именем Божиим. "Христос" же значит "помазанник", и это слово более земное, так как помазанниками "христами" были многие цари и пророки Израильские]. Дева Мария была матерью Иисуса, матерью Его человеческого естества, а не матерью Христа, Сына Божия. Поэтому такие наименования, как "Богоматерь", "Матерь Божия" или "Богородица" не соответствуют св. Писанию. Еще в 428 году по Р.Х. Несторий, епископ Константинопольский, решительно восстал против того, чтобы Деву Марию называли Матерью Божией…" [Рогозин, с. 16].
Итак, мы видим, как в своем не желании называть Марию Богородицей П. Рогозин (и все протестанты) впадают в серьезную ересь несторианства, которая отвергает величайший христологический догмат о том, что "Божество и человечество соединились в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно" [IV-ый Вселенский Халкидонский Собор 451 г.].
Ибо, что значат слова П. Рогозина (и подобные вышерассмотренные слова С. Санникова): "Дева Мария была матерью Иисуса, матерью Его человеческого естества, а не матерью Христа, Сына Божия"? Именно то, что протестанты не веруют (до конца) в то, что Божество и человечество в Иисусе Христе соединилось "неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно" с самого Его зачатия! Что значит утверждение, что Мария родила Иисуса, а не Христа; человека, а не Бога? Значит, Иисус Христос в утробе Матери был человеком, а Божественность на Него сошла только после рождения? Нет, протестанты и этого не хотят сказать, но и признать, что Мария родила не просто человека, а Бога отказываются. Мы хотим совместить несовместимое: считать Иисуса Христа Богом от самого зачатия, но и не признавать, что Мария родила Бога. И мы уже, вместе с П. Рогозиным, даже страшного ересиарха Нестория, который отрицал Божественность Христа, готовы взять себе в друзья [Этот факт ещё раз показывает то, как сильна ненависть протестантов к Церкви, которой они подражают и которой себя противопоставляют, что нам даже страшный ересиарх Несторий дорог только потому, что и он противился Церкви. По истине, не знают протестанты, по словам Христа, какого они духа; что водимы они отнюдь не Святым Духом, а духом противления] (какой ужас!), лишь бы противится очевидному и не называть Марию Богоматерью.
И, кстати сказать, П. Рогозин, приводя в пример Нестория, даже не удосужился согласовать с ним терминологию, ибо Несторий, отвергающий Божественность Христа и не желающий называть Марию Богородицей, называл Её Христородицей. По Рогозину же Богородицу нужно было бы назвать Иисусородицей, ибо по его словам Мария не была Матерью Христа, а Матерью Иисуса. Так что еретики, сами с собой не имея согласия, едины только в своей ненависти и противлении Истине, Божьей Матери и спасительным догматам Церкви Христовой.
Теперь приведём свидетельства из Библии о том, что Дева Мария действительно родила Бога (и потому по праву именуется Богородицей и Божьей Матерью), а не просто "человеческое естество" Христа.
1) Пророк Исаия возвестил: "се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емануил" (Ис. 7:14). "Емануил" значит "с нами Бог". Потому Дева Мария родила Емануила (Бога с нами), а не простого человека, и не просто "человеческое естество".
2) В другом месте тот же пророк говорит: "Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира" (Ис. 9:6). Если Дева Мария родила Младенца, который есть "Бог крепкий", то она родила Бога и есть Богородица; если рождённый Ею Сын есть Бог, то Она по праву есть Матерь Божья, и никак иначе.
3) Также и ангел Гавриил сообщил Деве Марии: "вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына… Он… наречется Сыном Всевышнего" (Лук. 1:31,32). Если мы верим, что Сей родившийся от Марии "Сын Всевышнего" есть ни кто иной, как второе Лицо Пресвятой Троицы и истинный Бог, то Дева Мария воистину есть Божия Матерь.
4) Ап. Павел пишет: "Бог послал Сына Своего, Который родился от жены" (Гал. 4:4). Слава Богу, мы верим, - и нам не нужно, как расселистам, доказывать, - что рожденный от Жены Сын Божий также есть истинный Бог-Иегова. Итак, Ап. Павел говорит: Сын Божий (Который есть тоже Бог) родился от Жены (т.е., Девы Марии); иначе - Бог родился от Девы Марии. Здесь Апостол использовал медиальный залог глагола "родить", но если тоже самое сказать в активном залоге, то Ап. Павел утверждает: Дева Мария родила Бога. А соглашаться с медиальным залогом какого-либо утверждения и отвергать при этом тоже самое утверждение, поставленное в активную форму, совершенно нелепо и безумно. Если верно утверждение в медиальном залоге, например: "Иоанн Креститель родился от Елизаветы", то и утверждение с глаголом в активном залоге: "Елизавета родила Иоанна Крестителя" так же верно. Но протестанты, несмотря на совершенную справедливость этого факта, в отношении к Деве Марии отказываются его признавать. Мы согласны сказать, что Сын Божий (Бог) родился от Жены (Девы Марии), но сказать "Дева Мария родила Бога" категорически отказываемся. Разумно ли это?
Итак, если справедливо, что Бог родился от Жены, то справедливо и то, что Жена родила Бога. Поэтому, Дева Мария есть воистину Богородица. И отказываться усвоять Деве Марии такое именование примерно так же не разумно, как отказываться называть строителя дома домостроителем, а проводящего трубопровод - трубопроводчиком.
5) Видимо первой, кто назвала Деву Марию Богородицей, была праведная Елизавета, когда не просто от себя, но исполнившись Святаго Духа, воскликнула: "И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?" (Лк. 1:43). Протестанты не хотят понимать, что назвать Марию Матерь Господа, как назвала Её праведная Елизавета, или Матерь Божия, Богоматерь, Богородица как чаще называют Её православные, есть по сути одно и тоже. Ведь Елизавета знала, что под именем "Господа моего" она имеет в ввиду Бога-Иегову, Бога Израилева. Она с детства хорошо знала слова: "Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть" (Втор. 6:4). Но протестанты понимают, что когда Елизавета употребила такое выражение, то никакой ереси в этом не было, и она не утверждала, что Мария есть Матерь Господа Бога в вечности. Но когда подобные выражения употребляют православные, то мы считаем это ересью - праведная ли это логика?
Теперь обратимся к вере древней Церкви и убедимся, что христиане от начала считали, что Дева Мария родила не просто "человеческое естество" Христа, а именно Самого Бога, и потому именовали Её Богородицей (по греч. ![]() - феотокос). Вот некоторые свидетельства об этом.
- феотокос). Вот некоторые свидетельства об этом.
1) В городе Помпее, который был в 79 г. захоронен при извержении вулкана, найдена наскальная надпись, которая гласит: "Мария - Богородица из Назорета" (см. рис. 1). Особо обратим внимание на то, что Богородицей Марию называли христиане 70-х или ещё более ранних лет, когда были живы многие Апостолы.

2) Выше, в разговоре о приснодевстве Марии, упоминалось о древних литургиях, где Мария называется Приснодевой. И в этих же литургиях мы встречаем и термин "Богородица".
3) Св. Игнатий Богоносец (ум. 107 г.) писал: "Бог наш Иисус Христос был во чреве Марии по усмотрению Божию" [Посл. к Ефесянам, 16]. Заметим, во чреве Марии был Бог, а не просто человеческая плоть и естество Христа, а значит и родился Бог, а не один человек. Посему, если во чреве Марии был Бог, то и родила Она Бога, и по праву именуется Богородицей.
4) Св. Ириней Лионский (130-202 гг.) писал: "Для того, чтобы возглавить в Себе Адама, Бог Слово Сам родился от девственной Марии, и по истине воспринял на Себя такое рождение, какое нужно было для восстановления Адама" [Против ересей, III, 21]. Если от Марии родился ни кто иной, как Бог Слово, то значит, Она родила Бога, и Церковь никак не заблуждается, когда именует Её Богородицей.
В другом месте сей святой отец говорил: "Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным созданием… Мария чрез слова Ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь Его Слову" [Ириней Леонский, "Против ересей", книга 5, гл. 19:1]. Заметим, Дева в утробе носила не безликое "человеческое существо", и не просто человека-Христа, но Самого Бога. А если Она носила Бога, и родила, конечно же, тоже Бога, и потому справедливо именуется Богородицей.
5) Ориген (II-III вв.) именовал Марию Богородицей. О нём историк Сократ (V в.) свидетельствует так: "Ориген в первом томе толкований на послание Ап. Павла к Римлянам входил в изъяснение того, почему святая Дева именуется Богородицею и написал о том пространное толкование" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 108].
6) Св. Дионисий (ум. 265 г.) с другими пастырями александрийскими писал к еретику Павлу Самосатскому: "Скажи, почему ты называешь Христа отличным человеком, а не Богом истинным и, наравне с Отцем и Св. Духом, Которым вся тварь поклоняется, воплотившемуся от св. Девы Богородицы Марии?" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 108].
7) Св. Александр, епископ Александрийский (III-IV вв.): "…И. Христос, восприявший истинно, а не призрачно, тело от Богородицы Марии, и при исполнении веков пришедший к роду человеческому для истребления греха" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 108].
8) Св. Афанасий Великий (IV в.): "…Он от века был и есть Бог Сын, будучи Словом, сиянием и премудростью Отца, и что Он, "в последние дни" (Евр. 1:2), ради нас, восприняв плоть от Девы Богородицы Марии, соделался человеком".
И в другом месте: "Иоанн, ещё носимый во чреве матери, взыграл радостно на приветственный глас Богородицы Марии" [Против Ариан. Слово III, п.33; III, 14; lV,32].
9) Св. Ефрем Сирин (IV в.): "Кто отрицает, что Мария родила Бога, тот не увидит славы Божества Его" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 109].
10) Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) в слове на Сретение Господне говорит: "Ныне небесный Жених с Богоматерью, брачным Своим чертогом, приходит во храм".
А также: "Много есть, возлюбленные, истинных о Христе свидетельств: свидетельствует с небес Отец о Сыне. Свидетельствует Дух Святый, сходящий телесным образом в виде голубя (Лк. 3, 22). Свидетельствует Архангел Гавриил, благовествуя Mapии. Свидетельствует Дева Богородица" [Святитель Кирилл, Архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. - М.: Синодальная библиотека Московского Патриархата, 1991. Огласительное поучение десятое, часть 19].
11) Св. Григорий Богослов (IV в.): "Если кто не признает Марию Богородицей, то он отлучен от Божества" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 109].
12) Св. Григорий Нисский (IV в.) жалуясь на некоторых христиан, уклонившихся от Церкви, говорит: "За что ненавидят нас, и что значат эти новые жертвенники, воздвигаемые в противоположность нашим [Прямое подтверждение того, что в древней Церкви были жертвенники, как и сейчас у православных, чего в помине нет у протестантов]? Или мы возвещаем другого Иисуса?... или дерзает кто либо из нас св. Деву Богородицу называть человекородицею, как некоторые из них называют Её с потерею всякого благоговения" [Митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том II, с. 109].
13) Св. Иоанн Златоуст (IV в.). В его литургии есть такие слова о Деве Марии: "Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию...", а также: "Достойно это, ублажать Тебя, Богородица, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего". Эти слова можно найти в православном служебнике, и они до сих пор произносятся и поются на каждом православном богослужении.
Я хорошо помню, как сильно я удивился этим словам, когда во время учёбы в ДХУ впервые их прочёл. Эти слова так величали и прославляли Деву Марию, и так ясно свидетельствовали о том, что отношение автора этих строк к Матери Христа было совершенно иным, чем протестантское, - ибо подобных слов не скажет никогда ни один протестант, - что первое, о чём я подумал, было: "этого не мог написать Златоуст; это написали позже, а ему приписали". И чтобы успокоить свою совесть, я спросил об этом одного из наиболее мною тогда уважаемых преподавателей, Андрея Пузынина. Но к моему удивлению он опроверг моё предположение и сказал: "да, это написал Златоуст, и что?". Этот факт меня очень поразил, так как я уже читал труды И. Златоуста, и видел необычайную его мудрость, глубину мыслей, искренность и любовь к Богу, и полагал, что его вера идентична моей и вообще протестантской. И как усилилось моё удивление, когда со временем я узнал, что, во-первых, эти слова о Богородице И. Златоуст не сам от себя написал, ведь литургию, известную под его именем, он вовсе не изобретал сам, а лишь сократил древнюю литургию ап. Иакова; во-вторых, И. Златоуст и в других своих трудах неоднократно называл Деву Марию Богородицей; и, в-третьих, подобные выражения о Матери Христа говорил не только он, но и многие другие именитые учителя Церкви, в том числе и самые древние, которые (слова) мы отчасти привели выше. Таким образом, со временем я совершенно ясно понял, что моё убеждение в том, что протестантизм есть возврат к вере древней Церкви, есть жестокий и душепагубный обман.
К приведенным свидетельствам можно также присовокупить уже знакомые нам цитаты из писем блаж. Федорита и епископа Иоанна к впавшему в ересь патриарху Несторию, которые в своей аргументации ссылались на тот факт, что Церковь издревле называла Марию Богородицей: "древние и древнейшие провозвестники истинной веры по преданию апостольскому, учили именовать и исповедывать Матерь Божию Богородицею"; "имя это никто из церковных учителей не отвергал. Напротив, многие, и притом достоуважаемые, пользовались им… Мы не подвергаемся никакой опасности, когда говорим и мудрствуем так, как издревле говорили и мудрствовали в Церкви Божией богомудрые учители".
Итак, то, что Церковь издревле называла Матерь Христа Богородицей и Богоматерью есть очевидный и бесспорный факт, и в вышеприведенной цитате С. Санников словами "в древних преданиях термин "Богородица" к Деве Марии применяется только как благочестивая метафора" сей факт признаёт. Но это неудобное для протестантов признание он, естественно, постарался преподнести в самом неприглядном виде.
Во-первых, зная, как ужасно режет баптистский слух слово "предание", он использовал именно этот термин, вместо того, чтобы сказать, например: "у древних церковных писателей" или: "в документах древней Церкви".
Во-вторых, С. Санников затушевывает свои слова утверждением, что древние использовали слово "Богородица" как "благочестивую метафору". Но что значит "благочестивая метафора"? К слову "Богородица" вообще невозможно применить понятие метафоры, , а также: ибо метафора это перенос значения с одного объекта на другой. Например, метафору использует А.С. Пушкин, когда пишет: "Пчела из кельи восковой летит за данью полевой", где "келья" заменяет слово улей, а "дань" - нектар. Но как "Богородица" может быть метафорой? Что если кто не исповедует двух рождений Бога Слова, - первого - предвечного, не во времени, бесплотного рождения от Отца, и второго рождения в последок дней сего же Бога Слова, сошедшего с небес и воплотившегося от / святоstrongй,strong преславной Богородицы и Приснодевы Марии, да будет анафемаможет скрываться под этим словом? "Человекородица" или "Иисусородица"? Но это совершенно лживое предположение. С литературной точки зрения никак невозможно сказать "Богородица", а иметь в виду "Иисусородица", то есть человекородица в противоположность Богородице, ибо, во-первых, по смыслу здесь нет никакой метафоры. Во-вторых, в метафоре некое понятие скрывается под определённым образом, с которым у данного понятия есть ясная связь и единство. Так, у кельи и улья есть та связь, что оба они тесны, а у дани и нектара есть та связь, что их собирают. Понятия же "Богородица" и "человекородица" есть противоположности, и потому первое слово никак не может метафорически обозначать второе. Да и все протестанты за всю свою историю никогда не использовали и не могут использовать подобной "метафоры", что говорит о том, что аргумент С. Санникова совершенно невежествен и попросту взят из воздуха, ибо он никак не сможет доказать, что древние использовали это слово "метафорически". А в том, что они использовали его так же, как и современные православные, легко убедиться хотя бы по вышеприведенным цитатам. Как древние, так и современные православные, именовали Деву Богородицей буквально, вкладывая в это слово тот смысл, что Мария родила Христа, который есть не просто человек и не просто богоносец, а Сам истинный Бог.
Поэтому, нет никаких богословских оснований не называть Деву Марию Богородицей. И лучше нам следовать примеру праведной Елизаветы, древних христиан и учителей Церкви, называя Деву Марию Богородицей, чем идти вслед за Нест, глава орием, П. Рогозиным, С. Саниковым и прочие, которые, вопреки внушению Духа Святого, Библии, учению древней Церкви и очевидной логике, упиваясь духом противления и безумия, противятся этому именованию.
Напоследок важно добавить следующее рассуждение, которое поможет искренно ищущему истину протестанту отбросить последние сомнения относительно правомерности применения к Деве Марии термина "Богородица".
Богословские причины, выставляемые протестантами против использования этого слова, заключаются, как мы видели, в том, что Бог не может быть рождён человеком, что "у Бога нет и не может быть матери". Это выражение одновременно и правда, и ложь, в зависимости от того, что имеется в виду. Ведь когда Бог воплотился и стал человеком, то совершилась великая и непостигаемая тайна, некий логический парадокс. Бог по Своей природе не только не может быть рождён человеком и иметь матери. Бог, также, не может страдать, ибо Он бесстрастен; Он не может умирать, ибо Он бессмертен; Он не может алкать, жаждать, уставать, томиться и прочее, так как Он всегда в совершенстве и в полном блаженстве. Но когда Бог "явился во плоти" и стал человеком, то всё, что невозможно было раньше сказать о Боге, теперь стало возможно - в определённом, конечно же, смысле. То есть, Сын Божий, став Сыном Человеческим, уставал, алкал и жаждал, томился, страдал и умер. Потому, мы с полным правом можем сказать, что во Христе Бог жаждал, страдал и умер. Поэтому, распинавшие Христа распинали не иначе, как Самого Бога. И Апостолы так об этом прямо и говорят, что убившие Христа "распяли… Господа славы" (1 Кор. 2:8) и "Начальника жизни убили" (Деян. 3:15). Кроме того, видевшие Христа видели Бога: "видевший Меня видел Отца" (Ин. 14:9).
Таким образом, распявших Христа с полным правом можно назвать Богоубийцами, а видевших Христа - Боговидцами. И протестанты с этим, конечно же, согласны. Но если это так, то по этой же логике и родившая Христа родила Бога и есть Богородица. Почему мы признаём, что видевшие Христа есть Боговидцы; что распявшие Христа есть никто иной как Богоубийцы, но что родившая Христа есть Богородица, категорически отказываемся признать? Логично ли это, и не свидетельство ли это того, что мы противимся слову "Богородица" именно по духу безумия и слепого противления?
Думаю, что для разумного человека одного только сказанного в данном абзаце достаточно, чтобы понять, что протестантизм крайне неправ и непоследователен в своём противлении называть Деву Марию Богородицей; Церковь же, с другой стороны, совершенно справедливо называет Матерь Христа Богородицей.
III. Теперь скажем о том, в каком качестве почитает Церковь Деву Марию, и почему православные так любят Матерь Божью, и в чём видят Её такую исключительную святость? И, кроме того, кратко скажем о некоторых других известных именованиях, которые Церковь относит к Деве Марии (помимо уже рассмотренных "Приснодева" и "Богородица"), рассудив о правомерности их использования, а также узнаем, какие прообразы Пречистой Девы находит Церковь в Ветхом Завете. Кроме того, поговорим о том, не является ли такие православные молитвы, как "Пресвятая Богородица, спаси нас" и "не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица" грехом, и не подменяют ли православные Христа Богородицей?
Итак, для начала нужно понять, что почитание Богородицы в Православии есть неотъемлемая часть почитания святых вообще, где Она почитается как величайшая из всех святых и тварных существ, но не в качестве Бога - ни в коем случае. Св. Иоанн Дамаскин пишет об этом так: "То, чему мы поклоняемся, это - Бог истинный", а "Матерь Божию мы чествуем и почитаем… И, зная эту Деву как матерь Божию, мы никак не объявляем Её богинею - ![]() (потому что такие мифы приличествуют эллинской глупости), ибо мы возвещаем и смерть Её; но мы Её знаем как Матерь Божию, потому что Бог воплотился (из Неё)" ["Гомилия на успение", II,15].
(потому что такие мифы приличествуют эллинской глупости), ибо мы возвещаем и смерть Её; но мы Её знаем как Матерь Божию, потому что Бог воплотился (из Неё)" ["Гомилия на успение", II,15].
Нужно заметить, что протестанты очень плохо понимают величайшую евангельскую истину об обожении, которую обильно проповедует Православие. И это непонимание постоянно рождает обвинения Православия в многобожии. На самом же деле, православное понимание обожженного человечества не имеет с языческим многобожием ничего общего, и чём мы уже говорили в предыдущей главе.
Таким образом, Деву Марию православные почитают не как Бога, и не как одну из языческих богинь, а как святую, и от почитания других святых Её отличает лишь степень, но не качество почитания. Православные, молясь Деве Марии, молятся и другим святым; помещая в храмах Её иконы, оставляют место и для образов иных верных рабов Христовых; слагая Ей песнопения, не забывают воспевать труды и веру и прочих подвижников благочестия; именуя Матерь Христа различными величественными титулами, дают славные наименования и прочим друзьям Христовым.
О возможности же почитания святых, возможности (почтительного) им поклонения, возможности молитв к усопшим святым мы также уже говорили в предыдущей главе. Поэтому, здесь скажем лишь о том, действительно ли Дева Мария есть величайшая из всех святых? Для Вас, мой уважаемый православный читатель, это настолько очевидно, что Вы даже можете не понять необходимость ставить такой вопрос, но как бы странным для Вас это не показалось, протестант действительно и часто искренне не понимает, почему Дева Мария есть большая из всех святых, и я, как бывший баптист, тому свидетель.
Итак, действительно ли Дева Мария является величайшей после Христа святой в Церкви? Для начала посмотрим, что в Св. Писании сказано о величии Богородицы.
1) Сама Дева Мария пророчествовала о том, что Её будут весьма почитать христиане всех веков: "Отныне будут ублажать меня все роды" (Лк. 1:45). Протестанты говорят, что "ублажать" значит просто "считать блаженной, счастливой". И мы, конечно, считаем Марию блаженной. Но мы как будто не понимаем, что никто, даже Апостолы, не пророчествовали о том, что их будут ублажать все роды. Блаженных у Христа много, но степень блаженства святых - различна. И Мария, безусловно, пророчествовала об особом и исключительном ублажении Её родом христианским.
2) Смиренная Дева, понимая, какой благодати сподобилась в Благовещении, характеризует это так: "...сотворил мне величие Сильный" (Лк. 1:49). Если Сам Бог сотворил Деве Марии величие, то как можно нам не величать Её? И опять же, здесь говорится об особом, исключительном величии; не о том, конечно величии, которым облекает Христос каждого верного, например в крещении. Величие Богоматери совершенно не обычное, ибо только Она сподобилась зачать от Бога и родить Бога, и только для Неё единственной во Вселенной Христос есть не только Бог, Господь, Творец и Спаситель, но и Сын! И православные действительно величают Богородицу, слагая Ей, между прочим, песнопения, которые так и начинаются: "Величаем Тебя, Пресвятая Дева".
3) Архангел Гавриил приветствовал Пречистую Деву словами: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою" (Лк. 1:28). Протестанты говорят: "ну и что с того? Все христиане, которые приняли благодать Христову - благодатны, и с ними со всеми Господь". Это так, но, опять же, степень принятия благодати, и сама благодать - "многоразлична" (см. 1 Петр. 4:10). Всю благодать, которую принимают верующие во Христе, приняла и Дева Мария, при этом, максимально усвоив её, но Ей благовествовалось о принятии иной, совершенно исключительной благодати - зачать от Духа Святого и родить Сына Божьего. Благодатны у Бога многие, но никому не дано такой благодати, которая была дана Пречистой Деве, и отнюдь не каждому посылается от Бога Архангел Гавриил для засвидетельствования о наделении столь великой благодатью.
4) Сначала Гавриил, а затем и праведная Елизавета засвидетельствовали Пренепорочной Деве о том, что Она "благословенна между женами" (Лк. 1:41,42). Этот гебраизм значит, что Мария есть самая благословенная среди всех женщин, а посему - и самая святая, ибо одно от другого неотделимо. Протестанты на это говорят всё то же самое, что эти слова не говорят об исключительной святости Марии, ведь те же слова были сказаны и Иаили за то, что она убила врага Израиля, полководца Сисару: "Благословенна между женами Иаиль" (Суд. 5:24). Но, во-первых, Иаиль была самой благословенной в своё время, когда Девы Марии ещё не было. Во-вторых, если по форме об Иаили и о Деве Марии сказано одно и тоже, то это вовсе не означает, что Иаиль и Матерь Христа равны в святости, и равно благословенны. Бог называется святым, и все верующие называются святыми, но это не значит, что святость Бога и всех христиан одинакова, как не одинакова святость и самих верующих между собой. Ведь очевидно, что святость Ап. Павла больше, чем святость такого христианина, который будет спасён "как бы из огня" (1 Кор. 3:15), хотя оба они - святые. И Дева Мария настолько святее и благословеннее Иаили, насколько Она была душой чище её, насколько большую благодать от Бога приняла, и насколько более важное и высокое служение исполнила. Считать же равно блаженным для человека и важным для Бога и судеб Церкви и мира убийство Сисары и рождение Сына Божия может только питающий крайне необоснованную неприязнь к Богородице протестантский дух, стремящийся любыми способами низвести Деву Марию в ряды обычных людей.
Именно в целях опровержения православного почитания Девы в качестве самой святой из людей протестанты выдвигают два главнейших аргумента, безуспешно пытаясь, как обычно, поссорить Слово Божие с учением Церкви.
Первый аргумент таков: Христос сказал, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11:11). Поэтому, говорят протестанты, самый великий святой - Предтеча Господень, а не Дева Мария, как учат православные. На самом же деле, эти слова Христа никоим образом не доказывают, что Иоанн Креститель больше и святее Девы Марии, и вот почему.
Во-первых, как часто это бывает, чтобы понять, о чём здесь говорит Христос, нужно прочесть приведенную цитату в её контексте. Ведь дальше Христос говорит: "но меньший в Царстве Небесном больше его". Иоанн Креститель был величайшим пророком Ветхого, но не Нового Завета. Ведь он умер раньше дня Пятидесятницы и не принял, как все христиане, новозаветного дара Духа Святого, "Духа усыновления" (Рим. 8:15). Он не был, также, крещён во Христа, и, самое главное, он не причащался в Евхаристии Тела и Крови Христовых, как причащаются правоверные христиане. И благодаря таким великим дарам и благодати, явленной Богом только для Церкви, каждый христианин по благодати больше Иоанна Крестителя.
А если же говорить не о каждом, а о 3) Также и ангелsup Гавриил сообщил Деве Марии: великих святых Церкви, то ещё проще понять, что Апостолы Пётр и Иоанн, например, по святости, по благодати, по близости к Богу, по откровению и ведению Истины, по водительству Духа были больше Иоанна Крестителя. Поэтому, Дева Мария, дожившая до дня Пятидесятницы и принявшая всю новозаветную благодать, хотя бы как член новозаветной Церкви больше Иоанна Крестителя. И Она стала святее его не только после принятия Духа Святого: она была больше Иоанна и на момент произнесения слов Христа, ибо во время плодоношения Она уже имела в Себе Бога, так как была соединена с Ним теснейшим образом, таким, каким Иоанн Креститель никогда не был соединен с Богом. А кто ближе к Богу и теснее с Ним связан, тот, бесспорно, больше в святости. Христос же, говоря об Иоанне Крестителе, просто не имел в виду Свою Матерь, как Он не имел в виду и Себя Самого, хотя Он ведь Сам, а не Иоанн, был наибольший из рожденных женами.
Во-вторых, Христос здесь вообще говорит только о мужчинах, в мужском роде: "из рожденных женами не восставал" [Если в русском языке деепричастие "рожденных" не имеет рода и может означать "из рождённых мужчин и женщин", то в греческом языке это слово здесь имеет род, , а также: и означает "из рождённых мужчин" (![]() )]. Среди мужчин во время Христа Иоанн Креститель был больший; о женщинах же Христос попросту ничего не говорит.
)]. Среди мужчин во время Христа Иоанн Креститель был больший; о женщинах же Христос попросту ничего не говорит.
Итак, Христос в Мф. 11:11 говорит только о пророках и праведниках Ветхого Завета, и только о мужчинах. Поэтому, сей стих никак не доказывает, что Иоанн Креститель больше Девы Марии. Напротив, Сам Христос сказал о том, что не только Его Матерь, но и многие другие, кто вступит с Богом в Новый Завет, будут большими величайшего праведника Ветхого Завета.
Второй аргумент, приводимый протестантами против особого почитания Девы Марии не реже первого, это евангельские места, где Христос как бы отказывает Своей Матери в каком-то особом почтении. Так, в Лк. 8:19-21 мы читаем: "И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему: Мать и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его". Подобный случай произошёл ещё раз, когда "одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его" (Лк. 11:27,28). Вот, говорят протестанты, Сам Христос сравнял Марию со всеми верующими в Него. Если читать Евангелие в "очках" протестанта, то действительно, трудно не согласится с тем, что здесь Христос относится к Марии чуть ли не пренебрежительно. Но православным эти места вовсе не видятся в таком свете, и эти отрывки Евангелия читаются при Богослужении именно на Богородичные праздники, как будто Церковь в них видит не уничижение, а наоборот - возвеличивание Девы Марии. Так как же на самом деле обстоят дела? Христос возвышает или, наоборот, восстаёт против особого почитания Своей Матери?
Для решения этого вопроса мы вновь должны исследовать контекст. В первом случае, Лк. 8:19-21, перед тем, как Христу доложили о приходе Его Матери и братьев, Он рассказывал притчу о сеятеле, где сравнивал слушающих слово с четырьмя видами почвы: придорожной, каменистой, заросшей терниями и доброй. Закончил же Христос Свою речь словами: "А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении". И когда пришли к Нему родные, то Он, пользуясь случаем, для того, чтобы усилить Своё слово и наглядно показать, в какие близкие отношения с Ним вступят те, которые будут слушать и хранить Его слово, и приносить плоды, сказал, что таковые будут Ему как мать и братья. Но разве здесь Христос противопоставил Свою Матерь хранящим слова Божии? Разве Он отверг Её достоинство? Разве Он сказал, что Его Мать не исполняет Его слова? Он лишь указал на то, что, во-первых, духовное родство больше плотского, и, во-вторых, что каждый слушающий и исполняющий Его слова может стать родным и близким Ему, как близки человеку мать и братья.
Теперь же зададимся вопросом: а внимала ли и хранила ли слова Божии Матерь Христова; и насколько хорошо хранила?
Оказывается, настолько хорошо, что само Евангелие неоднократно свидетельствует и подчёркивает именно это качество Марии: "А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своём"; "И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своём" (Лк. 2:19, 51). То есть, Христос говорит, что мать и братья для Меня, на самом деле близкие Мне не те, кто родственники Мне по плоти, но те, кто по духу, кто хранит слова Божии в сердце своём. Но ведь ни о ком другом, как о Деве Марии, само Евангелие говорит, что именно Она особо усердно слагала и сохраняла слова Христа и слова о Христе! Поэтому, Она стала не только по плоти, но и по духу самая близкая и родная Христу, как более всех других сохранявшая и исполнявшая Его слова. И в том и слава Богоматери, что Её материнство было и плотским, и духовным. То есть, духовное состояние Пречистой Девы полностью соответствовало Её высочайшей миссии - быть Матерью Сына Божия.
Во втором месте (Лк. 11:27,28) Христос говорит тоже самое - о блаженстве тех, кто слушает и соблюдает Его слово. Но ведь именно по этому определению Дева Мария есть самая блаженная, ибо более всех слушала, сохраняла и исполняла слово Христа. И Христос именно педагогически переводит акцент со Своей Матери на Своих слушателей. Ведь если бы Христос на реплику той женщины сказал, например: "да, Матерь Моя, конечно же, блаженна, что родила и вскормила Меня", то каково было бы в том назидание слушающим? Такого пресного ответа не могло быть в устах Христа, ибо Он всегда говорил с солью, часто переводя жизненные образы и ситуации на духовную плоскость (ср. Мф. 16:6-12; Ин. 5:7-15). Ведь если бы Он ответил так, то у слушающих осталось бы только то впечатление, что быть Матерью Христа - блаженно, и этого блаженства им никогда не испытать. Христос же ободряет слушающих, и использует сложившуюся ситуацию для того, чтобы дать им великую надежду и цель. Он как бы говорит им: "Вы сами признали, что быть Моей Матерью есть великое блаженство. Но и Вы можете стать такими же родными Мне, и такими же блаженными, если будете исполнять слово Божие!". Такой по смыслу ответ Христа естественен, исполнен благодати, мудрости, надежды, и полностью соответствует целям и методам Его служения. Но переместив акцент с плотского родства на духовное, Христос нисколько не уничижил Свою Матерь, а наоборот - возвысил, ибо именно Она не только по плоти, но и по духу явила Себя самой родной Христу. Ведь если Христос говорит слушающим только о возможности стать блаженными, если они соблюдут Его слово, то о блаженстве Марии праведная Елизавета Духо, но если тоже самое сказать в активном залоге, то Ап. Павел утверждает: м Святым засвидетельствовала: "блаженна Уверовавшая" (Лк. 1:45).
Но - скажут не унимающиеся и не желающие соглашаться с истиной протестанты - если мы и знаем, что Мария хранила слова Божии, и даже особенно ревностно, то откуда мы можем знать, что Она сох, а раняла и исполняла их больше и лучше всех остальных христиан?
Мы можем знать это, во-первых, из тех мест Св. Писания, которые мы выше рассмотрели (Лк. 1:45; 49; 28; 41,42) если прочесть их с любовью, а не с протестантской душевной неприязнью к Пречистой Деве.
Во-вторых, мы можем понять это по самому существу дела. Если Бог избрал Марию для наитеснейшего соединения с Ней, для того, чтобы Она стала Матерью Его Сына, то значит, Она была самая святая и самая достойная. Если бы была дева более святая, чем Мария, то Бог бы избрал её. Но таковой не было и не будет. Бог мог соединиться только со святой и непорочной во всех отношениях.
Таким образом, Боговоплощение (а значит и само спасение человека!) было бы невозможным, если бы Дева Мария своим личным усилием воли не пожелала бы сохранять Себя в такой чистоте. И когда мы, протестанты, отказываем Деве Марии в особом почтении, мы грешим именно тем, что совершенно не придаём значения Её роли в спасении человека. Бог не спасает человека без самого человека, без его воли. Спасение совершается только в синергизме Божественной и человеческой воли. И добрая воля, чистота, святость и послушание Девы дало Богу возможность совершить искупление человека.
Православный богослов Николай Кавасила совершенно правильно замечает: "Воплощение было делом не только Отца, Его Силы и Его Духа… но также делом воли и веры Девы. Без согласия Непорочной, без содействия веры, домостроительство это было столь же неосуществимым, как и без действия трёх Божественных Ипостасей. Только научив и убедив Её, Бог берёт Её Себе в Матерь и воспринимает от Неё плоть, которую Она соглашается дать Ему. Он желал, чтобы Матерь Его родила Его так же добровольно, как и Он воплотился добровольно" [Цит. по статье В. Лосского "Всесвятая"; "Хрестоматия по сравнительному богословию", изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005 г., с. 590].
Поэтому, христиане с древности сравнивали Деву Марию с Евой, называя Христа вторым Адамом, а Марию - второй Евой. Ибо если непослушанием Евы грех вошёл в мир, то послушанием Девы пришло спасение миру.
Св. Ириней Лионский (II в.) пишет об этом следующее: "Итак, явно Господь пришел к Своим и был носим Своим собственным созданием, которое носится Им Самим, и не послушание, бывшее по поводу древа, исправил Своим послушанием на древе; и обольщение, которому несчастно подверглась уже обрученная мужу дева Ева, разрушено посредством истины, о которой счастливо получила благовестие от Ангела также обрученная мужу дева Мария. Ибо, как та была обольщена словами ангела к тому, чтобы убежать от Бога, преступив Его слово, так другая чрез слова Ангела получила благовестие, чтобы носить Бога, повинуясь Его Слову. И как та была непослушна Богу, так эта склонилась к послушанию Богу, дабы Дева Мария была заступницею девы Евы. И как чрез деву род человеческий подвергся смерти, так чрез Деву и спасается, потому что непослушание девы уравновешено послушанием Девы" [Ириней Леонский, "Против ересей", книга 5, гл. 19:1].
В другом месте он пишет о том же: "Ибо необходимо было новое совершение Адама во Христе, чтобы смертное поглощено было бессмертием (ср. 1 Кор. ХV, 53); таким же образом и в отношении к Еве и Марии, чтобы Дева, ходатайствуя за деву, девственным послушанием разрушила и уничтожила девственное непослушание" [Ириней Леонский, "Доказательство Апостольской проповеди", п. 33].
Итак, как же можно сомневаться в исключительной святости Девы Марии? Как можно не почитать и не любить от всей души Пречистую, если воплощение Сына Божия и всё спасение человечества совершилось в огромной степени благодаря Ей? В определённом смысле можно сказать, что Бог не смог бы воплотиться, если бы Дева Мария не пожелала бы этого, если бы не явила такой чистоты, святости и послушания. Но сердца протестантов остаются закрытыми для любви и почтения Девы Марии. Вместо пламенной любви к Неё и достойной оценки Её великого подвига чистоты, мы сравняли Её со всеми остальными персонажами Библии, вспоминая о Ней, разве что, на Рождество.
Итак, только читая Библию в протестантском духе, только находясь в протестантской культуре и живя по его преданию, можно так искренне не понимать, в чём же такая исключительная святость Девы Марии, и что здесь особенного - родить Христа. Но если протестант станет отходить от человеческих преданий реформаторов, и начнёт входить в предание Истины, в предание Божественное, в предание Церкви, то величие Богоматери ему непременно будет открываться уже не на только словах, а на деле. Когда величие, святость и реальное присутствие Богородицы на Богослужении будет дано Вам, мой дорогой протестантский читатель, прочувствовать самому, то поверьте, все многие слова и аргументы, приведенные в данной главе, станут для Вас намного понятнее и убедительнее. Ведь доказательства о величии Бога, например, кажутся более убедительными, когда у человека уже есть вера и какой-то опыт, когда ему это величие было хотя бы в малой степени открыто.
Теперь кратко скажем о титулах, наименованиях и молитвенных обращениях к Деве Марии в Православии, которые смущают протестантов, и покажем, что они совершенно справедливы и правомерны, а все протестантские возражения против них необоснованны.
1) "Царица Небесная" и "Владычица". Титулы эти протестанты считают кощунственными и невозможными, говоря, что у нас один "Господь господствующих и Царь царей" (Откр. 7:14). Тот факт, что Христос именуется "Царём" или "Царем царей" не только не опровергает возможности того, что и люди могут быть названы царями и царицами, но напротив - именно название "Царь царей" и утверждает то, что у Христа есть цари, над которыми Он царствует. В Библии все искупленные Христом называются "царями и священниками" (Откр. 5:10).
Более того, Христос говорит: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откр. 3:21). Так если все искупленные называются царями и сидят на престоле Самого Христа и с Ним соцарствуют, то Дева Мария более всех соцарствует со Христом, и по праву может называться царицей хотя бы как одна из искупленных Христом. Но так как она не просто "одна из" спасённых, а самая великая святая из всех спасённых, то Она и называется Царицей в преимущественном смысле. Кто больше свят, тот больше и царствует со Христом. Но над всеми царями и царицами, в том числе и Богоматерью, царствует Христос. И называя Деву Марию Царицей православные не считают, что Она царствует наравне со Христом. Царствуя, Она, как и все остальные царствующие, поклоняется Сыну Своему и Богу Иисусу Христу, и Богу Отцу и Богу Духу Святому.
То же самое нужно сказать и о титуле "Владычица". Владыкой называет Библия Бога (Исх. 15:17; Иуд. 1:4; Откр. 6:10), но владыками позволительно называть и людей. Сам Бог именует владыкой Соломона (3 Цар. 11:34) и Езекию (4 Цар. 20:5). Если они могли именоваться владыками, то Богородица во много раз достойнее называться так.
2) "Заступница" и "Ходатаица". Протестанты, не желающие признавать Богородицу Ходатаицей, приводят место Писания: "Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус" (1 Тим 2:5), а также: "И потому Он есть Ходатай нового завета…" (Евр 9:15), и в протестантском понимании - Ходатай единственный.
Но говоря о превосходнейшем и главнейшем Посреднике и Ходатае Христе, Библия говорит нам и о других ходатаях-людях, чьё ходатайство также угодно Богу (см., например, 2 Кор. 1:10,11). И так как Бог прежде и более всех слушает молитвы праведников (см. Пс. 33:16), которые более всех возлюбили Его и исполнили Его волю, одним словом - более святых, поэтому, Дева Мария как самая святая из всех святых Христовых, есть первая после Христа Ходатаица пред лицом Божиим. О самой же возможности членов Тела Христова ходатайствовать друг за друга и на небесах мы подробно говорили в предыдущей главе и не станем всего повторять.
3) "Пресвятая", "Пречистая", "Преблагословенная", "Пренепорочная". О слове "Пресвятая" протестанты не редко иронизируют, говоря, что в Библии Бог называется святым (Откр. 3:7), а православные, называя Марию "пресвятой", ставят Её выше Бога.
На самом же деле, называя Марию "Пресвятой", православные вообще не сравнивают Её святость со святостью Бога. "Пресвятая" значит "самая святая" и "самая избранная" из людей, и это есть чистая правда. И, конечно же, Дева Мария есть самая чистая, самая благословенная и самая непорочная из людей, иначе Она не была бы избрана Богом в Матери для Своего Сына.
А чтобы протестанту было яснее, что прилагательными с приставкой "пре", обозначающую превосходную степень, православные не приписывают Марии "Божеские атрибуты" [П. Рогозин, стр. 16] и не ставят Её святость выше Божественной, можно привести в пример Соломона, который называется "премудрым", и протестанты не видят в этом титуле ничего предосудительного, сами часто именуя его так. Мы ведь не говорим, что термин этот кощунственный, так как делает Соломона мудрее Бога. Мы хорошо понимаем, что в данном случае "премудрый" значит "самый мудрый" из людей.
4) "Палата Святого Духа" и "Вместилище Невместимого". Если о каждом христианине сказано, что он есть "храм Духа Святого", то конечно же таковым храмом явилась и Божья Матерь, и по чистоте Своей жизни, и потому, что в Ней, как в храме, исключительным образом пребывал Сам Христос-Бог. Этой тайне Боговоплощения и удивляется Церковь: Бог, Которого не вмещают небеса, вместился в утробе Пречистой Девы!
5) "Честнейшая Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов". Чему здесь можно не верить или соблазняться, если каждый человек по своей природе и призванию есть больше Ангелов?
Как пишет о том Ап. Павел: "Не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово", а также: "Не все ли они (Ангелы) суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто имеет наследовать спасение?" (Евр. 2:17; 1:14). О человеке, а не об Ангелах сказано, что он сотворен по образу и подобию Божию. За Серафимов не умирал Бог, и не являл им такой жертвенной любви; и не Херувимы причащаются пречистых Тела и Крови Христовых. И не они будут Невестой Христовой на браке Агнца, а только избранные люди, которые станут "подобны Ему" (1 Ин. 3:2). Поэтому, если многие люди во Христе достигнут большей славы и чести, чем Херувимы и Серафимы, то тем более Дева, Которая в самом высшем смысле является Невестой Бога, имеет пред Ангелами больше славы и чести.
Теперь о молитве "Пресвятая Богородице, спаси нас".
Это короткая православная молитва есть просто концентрация соблазна для далеко ушедшего от Церкви сознания протестантов. Нас соблазняет здесь каждое слово: и (1) "Пресвятая", и (2) "Богородица", и (3) то, что православные молятся кому-то кроме Бога, и (4) что православные просят о спасении кого-то кроме Христа. Если на первые два соблазна уже был дан ответ в данной главе - о третьем же мы говорили в главе предыдущей, то на последнем остановим внимание.
О том, что не только Христос, но и слуги Христовы могут спасать людей, или, иначе - участвовать и сотрудничать со Христом в спасении, ясным образом говорит Библия. Ап. Павел, например, пишет о себе: "не спасу ли некоторых из них?" (Рим. 2:14). Тимофею же он говорит: "...так поступая (вникая в себя и в учение), и себя спасешь, и слушающих тебя" (1 Тим. 4:16). И не только Апостолы и служители Церкви, но даже обычная христианка может спасать: "Почему знаешь, жена, не спасешь ли мужа?" (1 Кор. 7:16).
Итак, не тоemлькemо Христос, но и Христовы, являясь "соработники у Бога" (1 Кор. 3:9), могут спасать других - своstrongей проповедью, своей жизнью и при, но не качество почитания. Православные, молясь Деве Марии, молятся и другим святым; помещая в храмах Её иконы, оставляют место и для образов иных верных рабов Христовых; слагая Ей песнопения, не забывают воспевать труды и веру и прочих подвижников благочестия; именуя Матерь Христа различными величественными титулами, дают славные наименования и прочим дрstemrongузьям Христовым.мером, своими делами, своей молитвой и ходатайством. Священник, например, буквально спасает человека, когда крестит его во Христа, когда низводит на него благодать Св. Духа через миропомазание, когда причащает его небесного Хлеба, когда отпускает ему грехи. Человека может спасти всякий христианин, если отвратит его от пути погибельного и наставит на путь правды: "…обративший грешника от ложного пути его спасёт душу /от смерти…" (Иак. 5:20). Спасение человека совершает Христос не Сам, но в сотрудничестве с самим человеком и Своими рабами.
Протестанты же часто считают кощунством мысль о том, что кто-то кроме Христа может спасать. Ведь святые Христовы спасают не отдельно от Христа, не сами по себе, а только в вместе и в связи со Христом. Потому, если священник совершением таинств и проповедью может спасать приходящих к нему; если обычая женщина чистотой жизни может спасти мужа; если каждый христианин отвращением от ложного пути своего ближнего может спасти его душу от вечной смерти, то тем более может спасать нас Богородица Своими молитвами и ходатайством о нас.
Очень соблазняет протестантов и такое известное нежное и любвеобильное молитвенное обращение православных к Богородице: "Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица" [Православные помнят эту молитву в церковно-славянском звучании: "не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве тебе, Владычице"]. (В Православии есть и другие подобные молитвы, например: "Всё упование на Тебя возлагаю, Матерь Божия", а также трогательнейшая и очень православными любимая молитва "Царице моя Преблагая", где есть такие слова: "…помоги мне… ибо не имею иной помощи кроме Тебя, ни иной Предстательницы, ни благой Утешительницы, только Тебя, о Богоматерь").
Главная мысль, по видимому, всякого протестанта при прочтении этих слов будет примерно такой: "ну вот, православные самым откровенным образом отрекаются от Христа и Духа Утешителя, заменив Их на Деву Марию, возлоemживши всю свою надежду и упование на Неё, а не на Бога. И если православные прямо отрекаются от Христа, то разве не правильно мы поступили, когда оставили это заблудившееся "православие" и создали свою правильную Церковь?". По крайней мере, известный баптистский богослов С. Санников оценивает эту православную молитву по сути именно так: "Это заявление выглядит кощунством по отношению к жертве Иисуса Христа и практически перечёркивает её значение" [С.В. Санников. "Начатки учения". изд. Одесской библейской школы 1991 г., стр. 187]. Может ли православное богословие дать достойный ответ на такое обвинение?
Перед тем как ответить на этот вопрос, пользуясь подходящим случаем, хочу поведать моему дорогому читателю о том, что в своё время, когда я поставил для себя цель доказать своей душе правоту баптизма и опровергнуть Православие, я с особой ревностью и скрупулезностью выявлял и записывал множество подобных аргументов против Православия, которые мне казались совершенно не опровержимыми, но всякий раз после исследования каждого вопроса я находил для себя такой удовлетворительный, библейский, богословски и логически (а где нужно, и исторически) правильный и веский православный ответ, что по совести уже не мог не признать своей не правоты и невежественности. И выше описанный аргумент против Православия - один из многих таких аргументов, который, если ещё не знаешь православных доводов, кажется мощнейшим и совершенно не разбиваемым, но который превращается попросту в прах, когда эти доводы узнаёшь. Итак, что же могут ответить нам на наше обвинение православные?
Ответ здесь совершенно прост. Данная молитва не есть догматическая формула, и не может быть оцениваема в догматических категориях. Эти слова к Богородице - поэзия, и обращение к Ней - поэтическая гипербола. Чувства, выражаемые в словах, песнях, стихах, зачастую не имеют научной и логической точности. Псалмопевец Давид, например, восклицает: "К святым Твоим, которые на земле, и к дивным Твоим - к ним всё желание моё" (Пс. 15:3). Если мы подойдём к данному выражению с методом, с которым подходят протестанты к оценке вышеприведенной православной молитвы, то мы обязательно должны будем обвинить Давида в отсутствии любви к Богу. Ведь он здесь сам откровенно и прямо признался, всё его желание направлено к святым, а раз всё, то, естественно, желания к Богу уже не осталось никакого. Но правильным ли будет такой вывод? Или мы понимаем, что если Давида так влечёт к святым Божьим, то значит, к Самому Богу душа его тяготит ещё больше?
Другой пример - мать-христианка, держа своего младенца на руках, приговаривает: "ты у меня самый лучший, самый дорогой, ты только мой". Какой протестант обвинит эту мать в том, что она любит своего сына больше Христа и подпадает ужасной участи по словам Спасителя: "кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мф. 10:37)? Но ведь эта мать буквально говорит, что не Христос, а сын её для неё самый лучший и самый дорогой? Если следовать логике протестантов, то эту мать можно обвинить ещё и в эгоизме, а также в том, что она не признаёт верховное владычество над всеми Бога, когда говорит сыну: "ты - только мой", ведь чадо её, как и каждый человек, принадлежит прежде всего Богу. И разве не очевидно безумие такого подхода и оценки отношения этой женщины ко Христу?
Можно привести и такой пример. У протестантов, как и всех людей, бывает период влюблённости, и многие говорят, или могут сказать, своей девушке такие слова: "ты - радость всей моей жизни; ты - моя единственная любовь; ты - свет моей жизни; без тебя мне весь свет не мил" и т.п. И это нормально, и никакой протестант обычно не увидит в этих словах ничего греховного. Но ведь если судить об этих словах так, как судят протестанты о поэтических православных молитвах к Богородице, то мы обнаружим здесь массу ересей. Любовные признания этого баптиста тоже выглядят "кощунством по отношению к жертве Иисуса Христа и практически перечёркивает её значение", ведь женщина не должна быть для человека радостью всей жизни; она не может быть и единственной его любовью, ведь он должен любить больше всех Бога; она не может быть и светом его жизни, ибо Христос есть "свет миру" (Ин. 8:12), и т.д.
Один из преподавателей ДХУ во время моей там учёбы сказал в аудитории примерно такие слова: "жениться нужно не тогда, когда ты понимаешь, что можешь прожить с этим человеком, а тогда, когда ты не сможешь уже без него прожить". Высказывание это, конечно же, не вызвало у студентов ничего, кроме умиления. Но опять же, если судить об этих словах строго догматически, то они явно кощунственны и содержат отречение от Христа, ведь только Бог есть и должен быть для человека тем, без кого он не должен мыслить своей жизни, а если есть некто ещё, без кого он не может жить, то значит, он для него стал богом.
Таким образом, на данных примерах хорошо видно, как безумно и нелепо брать поэтические выражения, излияния любви и буквально переносить их в догматическую плоскость. Таким образом, когда верные в избытке чувств взывают к Пречистой Деве: "не имеем иной помощи, не имеем другой надежды, кроме Тебя, Владычица" или подобными по смыслу словами, то их никоим образом нельзя понимать в том смысле, что православные отрекаются от Бога и буквально возлагают всю свою надежду на Богородицу. Ведь в других православных молитвах постоянно говорится о надежде и уповании на Христа. Например, в так называемой заамвонной молитве, читаемой при конце литургии, есть слова: "Благословляющий благословляющих Тебя, и освящающий уповающих на Тебя… не оставь нас, уповающих на Тебя".
И разве православные, говоря Богородице "не имеем иной помощи кроме Тебя", не надеются уже на помощь Божью? Вот одно выражение из православного молитвослова, из утренних молитв к Господу: "К Тебе, Владыка Человеколюбец, от сна восстав прибегаю, и… молюсь Тебе: помоги мне во всякое время, и избави меня… и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное".
В общем, приводить подобные примеры и доказывать, что православные уповают и надеются не на одну только Богородицу, но прежде всего на Бога, граничит уже с безумием. Можно взять православный служебник, требник, молитвослов и т.п., и убедиться, что Церковь более всего молится Богу, и на Него более всего возлагает надежду и упование, прося Его о многих душеполезных благах.
Чтобы окончательно убедиться в том, что выражения, такие как "не имеем иной помощи кроме Тебя, Владычица" есть поэтическое преувеличение и не понимается православными в буквальном догматическом смысле, можно указать на тот факт, что и ко всем другим святым православные обращаются с различными просьбами, а значит - надеются на их помощь. Так, в акафисте св. Николаю, например, есть слова: "Всякие утоли болезни, великий наш заступник Николай, …веселя сердца всех усердно к помощи твоей прибегающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа" [Кондак 9]. Поэтому, если православные обращаются с просьбами о помощи прежде всего к Богу, а также и к другим святым, то совершенно понятно, что "не имеем иной помощи" есть поэзия и гипербола. Слова эти можно понять и так: "не имеем иной такой помощи кроме Тебя".
То есть, православные как бы говорят Богородице, что у нас есть высший Помощник и Спаситель - Христос, есть и другие меньшие помощники на пути в Царствие Божие - святые, но такая Помощница как Ты у нас одна. И среди людей такие разговоры не редки. Так, бедный христианин может прийти к своему собрату и попросить о займе, и для пущей убедительности сказать: "ты - последняя моя надежда". И слова эти в острой ситуации вполне уместны, и глупо усматривать в них кощунство и отречение от Бога и надежды на Него.
Итак, даже краткий анализ данного вопроса вскрывает всю безосновательность протестантских выводов о том, что рассматриваемое нами поэтическое и любвеобильное обращение православных к Богородице "выглядит кощунством по отношению к жертве Иисуса Христа и практически перечёркивает её значение". Но печальнее всего, что при составлении подобных обвинений протестантами движет не столько не способность понять эти вещи, сколько предубеждённость и глубокая неприязнь к основанной Христом Кафолической Апостольской Православной Церкви, и дух противления, жаждущий даже вопреки Истине и здравому смыслу утвердить себя и свою "правду".
Теперь назовём главнейшие прообразы Богородицы в Ветхом Завете. В моём духовном пути от баптизма к Православию раскрытие этих прообразов имело не малое значение, так как сам факт их наличия в Библии свидетельствовал о великой значимости личности Девы Марии, которую (значимость) протестанты сильно пытаются умалить.
1) Лестница Иакова (см. Быт. 28:11,12) по разуму Церкви прообразовала собой Богоматерь, ибо как посредством лестницы сходили Ангелы, так посредством Девы сошёл с Небес Сын Божий при воплощении.
2) Богородицу называет Церковь также купиной неопалимой (см. Исх. 3:2), то есть, кустом несгораемым, в котором говорил Бог с Моисеем. Как терновый куст горел и не сгорал, так и Богоматерь носила в Себе Бога, Который есть "огнь поядающий" (ср. Исх. 24:17; Евр. 12:29), но ни сколько не была повреждаема.
3) Скала несекомая, то есть гора нерукосечная, о которой сказано в Дан. 2:34,45. В видении Навуходоносор видел, как от горы оторвался камень, который разрушил истукана и наполнил собою землю. Главное толкование этого пророчества таково: скала есть Бог, а камень - Христос, оставивший небеса и пришедший на землю, и Царство Его наполнит всю землю. То, что камень меньше горы, говорит о том, что Христос пришёл на землю в уничижении, "приняв образ раба" (Фил. 2:7).
Но у пророчества Даниила есть и другое важное толкование. Гора, от которой "оторвался" Иисус, есть Богородица. И как "камень был отторгнут от горы не руками", то есть не человеком, так и Христос был зачат и родился сверхъестественным образом, без участия человека. И камень потому меньше здесь горы, что Христос родился (пришёл на землю) младенцем.
4) Ковчег Завета также пробразовал собою Богоматерь, ибо как манна, "хлеб небесный" (Пс. 77:24) находилась в ковчеге (Евр. 9:4), так и Пречистая Дева носила в себе "хлеб живый, сшедший с небес" (Ин. 6:51). И Сам Христос, говоря о Себе как о хлemебе, сравнивает Себя именно с манной (Ин. 6:49).
5) Жезл Аарона расцветший. Как сухой жезл Аарона чудесным образом ожил, расцвёл и дал плод (см. Числ. 17:8)., так и Дева без мужеского семени дала жизнь и родила Сына.
6) Подобный прообраз - скала, из которой Моисей извёл воду (Числ. 20:11). Как безводная скала источила воду чудесным образом, так и Дева, пправославиео природе не способная без мужа родить, чудесно родила.
Теперь, чтобы глубже понять и объективнее оценить причины, по которым протестантизм так противится почитанию Божьей Матери, мы должны вспомнить историю его появления.
Протестантизм возник в католицизме именно как протест, отчего и получил своё имя. И важнейшей причиной, по которой реформаторы, многие из которых имели, наверное, искренние побуждения, стали предпринимать такие резкие шаги, были многие излишества, чрезмерности и нововведения папистов. Западная Церковь ещё в период своего единства со Вселенской Церковью начала увлекаться различными нововведениями, а после своего отпадения от Церкви пошла этим путём ещё быстрее. В итоге, очень скоро в католицизме появился целый букет далёких от Истины и нравов древней Церкви явлений, как то: 1) индульгенции; 2) учение о чистилище; 3) примат папы римского; 4) инквизиции; 5) запрещение мирянам читать Библию; 6) обязательное безбрачие всего духовенства, и т.п.
Эти искажения и чрезмерности реформаторы и намеревались отсечь и устранить, но так как они не стали искать воссоединения с Православием, хотя контакты и переписка с иерархами Православия велась; так как они не вошли в церковный дух соборности и не приняли Предания неразделённой Церкви; так как не получили через таинства Церкви дара Духа Святого и дара священства; так как они искали Бога не в духе смирения, но больше в духе гордыни, мня себя новыми Христовыми Апостолами, дерзнувшими приступить к священству и строительству Церкви без законного рукоположения - то не чувствуя должной меры, вместе с отсечением католических злоупотреблений отсекли также огромную часть Истины. Так что от одних крайностей они впали в другие.
Хочу подчеркнуть, что очень часто для понимания протестантизма, и причин, по которым он так яростно отрицает какой-либо догмат или явление духовной жизни, нужно помнить именно историю его происхождения. И сопоставляя католицизм с протестантизмом, можно легко заметить именно то, как он, в борьбе с католическими крайностями, впадал в крайности противоположные.
Так, если католицизм довёл заповедь Христа священству прощать грехи [Разбор этого вопроса см. в главе "О таинстве Исповеди"] до одной крайности, до индульгенций, то протестантизм довёл эту заповедь до противоположной крайности, совершенно отказав епископам и пресвитерам в праве совершения таинства исповеди.
Если католицизм довёл возможность добровольного безбрачия священства до непременной обязанности, то протестантизм вообще отверг безбрачие как особый подвиг, и требует от своего пресвитерства обратного - обязательно быть в браке.
Если католицизм довёл статус священства до учения о непогрешимости папы римского, которого сделал наместником Христа, то протестантизм заявил о полном равенствеem пастырей и овец, обосновав это учением о "всеобщем священстве".
Если католицизм довёл церковный дух соборности в толковании Св. Писания до полного запрещения мирянам читать Библию, то протестантизм позволил каждому читать и толковать Библию на своё усмотрение, "как откроет Дух Святой", без соборно разума Церкви, получив в итоге массу толков, течений и расколов - и т.д.
Таким образом, причины столь не почтительного отношение протестантизма к Божией Матери трудно понять вне этого контекста. Здесь, как и во всех почти главных вопросах, протестантизм оттолкнулся от католицизма. Католицизм довёл почитание Богоматери до чрезмерности и даже явной ереси, которая была закреплена догматом о непорочном зачатии Девы Марии. И хотя во время реформации этот догмат ещё не был католиками до конца оформлен и провозглашён, многие чрезмерности все же уже тогда проявлялись.
Протестантизм же, стремяcь отсечь излишества католицизма и в этом вопросе, впал как обычно в противоположную крайность, и вообще перестал почитать Деву Марию. При этом, был отвергнут и совершенно законный, как мы убедились, термин "Богородица", и вера в приснодевство Марии, ибо эти два догмата сильно выделяют Деву Марию из ряда обычных христиан, в разряд которых протестантизм решил низвести Матерь Христа.
Таким образом, вовсе не на Библии, и вовсе не на учении древней Церкви зиждется протестантское отношение к Деве Марии, а на чрезмерном увлечении реформаторов борьбой с католическими нововведениями и чрезмерностями, на чём сумел сыграть дьявол, уведя протестантизм от Истины ещё дальше латинства, ибо уклонения католицизма, по крайней мере, в вопросе о Богоматери, меньшие, чем протестантские.
Итак, протестанты совершенно безумно противятся истине о том, что Матерь Христа, зачав и родив от Духа Святого, не вступала с Иосифом с супружеские отношения, и не имела больше детей, навсегда оставшись Девой, хотя истина эта подтверждается Библией, верованием древних христиан и самим Логосом, требующим признания этого догмата. Не менее не разумна и богопротивна и борьба протестантов против наименования "Богородица", когда мы видевших Спасителя готовы назвать Боговидцами, и убивших Господа - Богоубийцами, а родившую Христа вопреки очевидной логике категорически отказываемся назвать Богородицей. Учение же протестантов о том, что Мария родила не Бога, а некое "человеческое естество Христа" есть безумие, граничащее с богохульством, ибо Библия и древние христиане с ясностью говорят нам о том, что Дева родила ни кого иного, как Бога. Об исключительной роли Пречистой Девы, и особом Её почитании родом христианским также ясно говорит Св. Писание и голос древней Церкви, ибо как из-за непослушания Евы вошла в человека смерть, так благодаря чистоте жизни, вере и послушанию Марии совершилось Боговоплощение и спасение человека.
Таким образом, все величественные титулы и наименования, а также прообразы Ветхого Завета, приписываемые Богородице Церковью, вся любовь и почтение, которые питают православные к Деве, вполне справедливы и заслужены. Забвение же, непочтение, низведение Девы Марии в ряды обычных христиан, отказ Ей во всех величественных благочестивых наименованиях есть великий грех протестантизма, ибо мы противимся Духу Истины, Которому весьма угодно, чтобы верные почитали Пресвятую Деву. И отношение протестантизма к Богородице продиктовано не объективным исследованием Св. Писания и веры древней Церкви, а прежде всего - противостоянием католицизму и его излишествам. И если католицизм в почитании Девы уклонился в одну крайность, дойдя до изобретения догмата о непорочном Её зачатии, то протестантизм удалился в крайность противоположную, отказавшись не только от чрезмерного почтения Богоматери, но и вообще от всякого должного почтения Преблагословенной Девы, которым живёт Церковь всю свою историю. Всё это есть очередная и весьма важная причина, по которой не только я, н/strongо и всякий, узнавший всё это и действительно любящий Истину протестант не сможет более остаться протестантом.
(о вере, делах, благодати, Таинствах, уверенности в спасении, предопределении, покаянии)
[1] Спасение - что в жизни есть важнее? Ради спасения человека воплотился, жил, принял позорную смерть и воскрес Сам наш Господь. Спасение есть единственная цель жизни человека, ради которой и существует Церковь со всем своим Богословием, Богослужением и Таинствами (да и всякая религия и секта объявляет своей целью ничто иное, как спасение человека). Потому крайне важно точно знать, каковы условия нашего спасения?
[2] Что, по учению протестантизма, необходимо для спасения? Уверовать во Христа и принять Его как своего личного Спасителя. Если человек сделал это, если обратился ко Христу в молитве, в которой признал себя грешником, а Христа - Богом и своим Спасителем и попросил Его войти в его сердце, то он спасся - вот формула спасения, которую твёрдо знает каждый протестант.
Кто знаком с протестантами, тот знает, что самое трепетное и желанное для них событие это именно момент произнесения грешником (желательно перед кафедрой и всем собранием) первой вот такой покаянной молитвы, после которой его всегда торжественно поздравляют, часто не без слёз, напутствуют и поют гимны (баптисты обычно поют: "Радостную песнь воспойте в небесах, найдена пропавшая овца…"). Протестанты совершенно уверены в спасении покаявшегося таким образом человека, ибо он:
1) уверовал во Христа, а Евангелие утверждает, что таковой спасён: "…верующий в Сына имеет жизнь вечную" (Ин. 3:36); "веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой" (Деян. 16:31); "Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную" (1 Ин. 5:13), и т.п.;
2) исповедал Его Сыном Божиим, а Апостол пишет: "кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге" (1 Ин. 4:15);
3) призвал имя Божье, а Библия ясно учит, что таковой спасён: "…всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Деян. 2:21)[О том, как нужно понимать эти стихи (1 Ин. 4:15 и Деян. 2:21) будет сказано в главе "О Таинстве Крещения"]. Кроме того, он
4) покаялся, по воле Христа: "покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мк. 1:15) и 5) принял Христа как своего Спасителя (то есть принял Его благодать), признав, что он нуждается в Спасителе и не может спастись своими делами и праведностью, а только благодатью Христовой по вере, как написано: "благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2:8-9); "человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа" (Гал. 2:16). Потому протестанты всегда противятся всякой мысли о том, что спасение человека зависит от его дел и исполнения заповедей.
Что касается Таинств, то они (крещение и хлебопреломление, которые признают протестанты) не влияют на спасение человека: в крещении человек не спасается, а лишь открыто пред всеми свидетельствует о своей вере и о том, что он уже спасся и находится в союзе со Христом. В крещении он становится членом не мистической Церкви Христовой (Тела Христа), ибо он уже присоединился к Ней в момент покаяния, а конкретной поместной общины. Также и хлебопреломление никоим образом не является средством и условием спасения - это лишь такое символическое воспоминание о смерти Христа. Также и Церковь (земная) в глазах протестанта не нужна для спасения; то есть, спасается он никак не через неё и не в ней - он может получить спасение и стать членом Тела Христа и без Церкви, например, читая Евангелие у себя дома и помолившись к Богу. К поместной же церкви он присоединяется не ради спасения, а потому, что такова воля Божия, чтобы уверовавшие и уже(!) спасённые общались и назидали друг друга[Хочу заметить, что человеку, которому протестанты рассказали свою модель спасения и показали нужные им места Писания со своими толкованиями, но который не знает учения Церкви, весьма трудно и почти невозможно бывает выявить всю лживость и искажённость данного взгляда].
[3] При знакомстве же с Православием не трудно заметить, что ко спасению Оно относится во многом принципиально иначе. Православные знают, что у некоторых людей бывают моменты яркого обращения от неверия к вере, и весьма приветствуют такое покаяние, но они явно воспринимают его намного сдержаннее, чем протестанты, и вообще обычно мыслят о покаянии не как об одном событии в начале христианского пути, а как о процессе длинною в жизнь - этот факт подтверждается хотя бы тем, что православные регулярно исповедуются. Они также полностью признают, что наше спасение совершается по вере и благодати, но признают для спасения и необходимость исполнения заповедей Христа.
А кроме того, они учат, что для спасения совершенно необходимо участие в Таинствах, прежде всего в Крещении, Миропомазании и Причастии, благодаря которым верующий спасается - получает прощение грехов, возрождается, принимает Духа Святого и соединяется со Христом, становясь Его Телом (Церковью). Участие же необходимо, естественно, в Таинствах истинных и законных (а не сектантских или каких ни будь), которые есть только в Христовой Церкви - Православной. Таким образом православные положительно утверждают, что для спасения человек должен принадлежать к Православной Церкви, и что в Ней и через Неё - Её священство и Таинства - он наследует спасение и единение со Христом.
[4] Итак, наша цель разобраться, кто же правильно разумеет путь спасения. Перед началом рассмотрения данной темы хочу обратить внимание моего протестантского читателя на всю остроту и серьёзность данного вопроса: ведь если не вы, а православные понимают доктрину спасения правильно, то вы явно оказываетесь вне спасения, по крайней мере, вне Церкви[О том, что в Царстве Христа отнюдь не все спасённые входят в число Церкви будет сказано в 21 главе]. (Для православных такой опасности нет, ибо если вдруг правы оказались бы протестанты, то православным, так сказать, нечего терять, ибо они веруют во Христа как своего личного Спасителя, а значит они, по учению самих же протестантов, спасены).
[5] Хочу начать с того, что с протестантским пониманием спасения по вере нельзя согласиться по той причине, что есть много мест в Евангелии, которые прямо говорят о том, что для спасения, кроме веры, необходимы:
1) дела, то есть исполнение заповедей Христа, и
2) Таинства - Крещение, Миропомазание и Причастие.
Начну с первого пункта[О пункте втором - о необходимости Таинств для спасения - будет сказано ниже (абзац 45-47) и во второй части книги ещё подробнее]. Вот некоторые стихи, говорящие о прямой зависимости спасения человека от его дел.
[6] Мф. 5:22: "А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной". Очевидно, что для того, чтобы спастись и избежать гиены огненной, необходимо не только веровать во Христа как своего Спасителя, но и не говорить на ближних своих оскорбительных слов.
[7] Мф. 6:15. Христос говорит: "...если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". Эту же истину более пространно донёс до нас Спаситель также в притче о царе и двух должниках (см. Мф. 18:23-35), из которой явствует, что "если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его", то и Бог не простит человеку его грехов, даже тех, которые уже были ранее прощены. Ведь не милостивого должника царь уже простил, но узнав о его жестокосердии, отменил своё прощение и оставил на нём его долг. То есть, можно верить во Христа как своего личного Спасителя, но не простить некоторым людям их согрешений и обид, и, придя на Суд, узнать, что и Бог не прощает нас, хотя ранее, возможно, и простил.
Так достаточно ли для спасения только веровать, или нужно ещё и делать, в частности прощать ближним прегрешения? И не зависит ли наше спасение самым прямым образом от наших дел?
[8] Мф. 7:2. Христос поучает: "Ибо каким судом судите - таким будете судимы". О том же говорится и в других местах Библии: "Суд без милости не оказавшему милости" (Иак. 2:13); "с милостивым Ты поступаешь милостиво" (Пс. 17:26). Опять же, нам ясно даётся понять, что мы будем помилованы Богом только в том случае, если сами будем миловать людей. Если мы поступаем с людьми немилостиво, то и Бог на Страшном Суде нас не помилует и нас ждёт "суд без милости", несмотря даже на то, что мы верили и признавали Христа своим личным Спасителем.
[9] Мф. 7:20-23: "Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие".
Вот одна из картин Страшного Суда. Христос ясно объясняет, что спасётся не всякий верующий, но только "исполняющий волю Отца". Ведь неужели все те, которые именем Христа пророчествовали, изгоняли бесов и многие чудеса творили не веровали в Него? Очевидно, что если и не все, то многие веровали и думали, что они спасены, но, тем не менее, были отвергнуты Христом. Так достаточно ли для нашего спасения одного признания Христа Своим личным Спасителем, и не нужны ли для спасения и дела - исполнение воли Божией?
[10] Мф. 10:37-38. Христос говорит: "Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня", а также: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26).
Может ли так статься, что некоторые люди, признавая Христа своим личным Спасителем, не возлюбили Его больше всего, в том числе и своей жизни? Конечно, такое очень возможно. Мы знаем, что многие, называющие себя верующими, преданы душой жене, детям, карьере, материальным ценностям или чревоугодию настолько, что трудно сказать, любят ли они Христа превыше всего, и готовы ли они отказаться от всего ради Христа, если понадобится. Все ли из тех, кто верует во Христа как своего личного Спасителя, согласятся умереть и не отречься от Него, или же, если придут гонения, окажется, что многие любят свою жизнь больше Христа? И если это так, то по словам Самого Спасителя таковые недостойны Его и не могут быть Его учениками. Так можем ли мы спастись, если мы будем верить во Христа как своего личного Спасителя, но не будем любить Его больше самой жизни? Ап. Павел пишет: "Если имею… и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто" (1 Кор. 13:2). Очевидно, что для спасения нужна не только вера, но и любовь ко Христу превыше всего, потому что человек без любви ничто, а "ничто", пусть и имеющее какую-то веру, в Царство Божие не войдёт.
[11] Мф. 10:32-33: "Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным", а также: "ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов" (Лк. 9:26). Ап. Павел пишет о том же: "сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению" (Рим. 10:10).
Из этих слов ясно, что для спасения необходимо не только веровать во Христа как своего личного Спасителя, но и исповедовать Его пред людьми. И если человек сердцем верует во Христа, но стыдится при людях выявлять свою веру, то он не спасется - Христос также его постыдится. Опять выходит, что одной веры (в протестантском её понимании) недостаточно для спасения - нужны и дела.
[12] Мф. 25:42-45. Христос говорит: "Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и вы не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и вы не посетили Меня: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне".
"Но так как Вы верили в Меня как Своего личного Спасителя - войдите в радость Господина Моего", - так ли закончился этот разговор? Нет: "...и пойдут сии в муку вечную"! Так не зависит ли наше спасение от наших дел? Здесь опять наше отношение к ближнему, наши добрые дела по отношению к нему, ставятся в прямую зависимость к нашему спасению!
[13] Лк. 16:16. Христос говорит, что в Царствие Божие "всякий усилием входит", а также: "От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11:12). Из сего явствует, что для спасения человеку нужно не только веровать во Христа, но и трудиться, прилагать усилия, делать.
[14] Мф. 5:20: "…если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное". Итак, для спасения нужно не только признавать Христа своим личным Спасителем, но и иметь праведность. И здесь под праведностью имеется в виду не "оправданность", как могут истолковать протестанты, то есть - не вменение Богом грехов человека ради его веры во Христа, но личная праведность человека, потому и сказано "праведность ваша". Хотя приобрести Богоугодную праведность человек не может сам, но только с помощью благодати Божьей, но и Бог не может сделать человека праведным без его воли и усилий. Потому, для приобретения праведности, а значит и для входа в Царство Небесное, совершенно нужны усилия человека, т.е. дела.
[15] Рим. 2:13: "потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут". Из этих слов очевидно явствует, что для оправдания, то есть спасения, совершенно необходимо исполнение закона, то есть заповедей Христа, главная из которых - любовь.
[16] 2 Кор. 1:6. Ап. Павел утверждает, что спасение "совершается перенесением… страданий". Таким образом, для спасения нужно не только веровать, но и переносить страдания, то есть делать, совершать подвиг, нести крест.
[17] Откр. 2:7,11,17; 3:5,12,21; 21:7. Господь Иисус даёт многие славные обетования побеждающему! Только побеждающий дьявола и все виды соблазнов и искушений будет вкушать сокровенную манну и от древа жизни, не потерпит вреда от второй смерти, облечется в белые одежды, сядет со Христом на престоле и т.д., а не просто верующий в Него как своего личного Спасителя. Опять же, для спасения явно нужны победоносные дела, и только делающий, сражающийся и побеждающий, наследует Царство Небесное.
[18] Откр. 22:12; 2:23; 20:13: "Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его"; "воздам каждому из вас по делам вашим"; "судим был каждый по делам своим". Ясно сказано, что Бог будет судить и воздавать каждому человеку по делам. Значит, дела совершенно необходимы для спасения, и именно в зависимости от своих дел, добрых или худых, будет оправдан человек.
[19] Иак. 2:14-24. В этом отрывке, пожалуй, наиболее прямо и убедительно говорится о совершенной необходимости дел для спасения; что человек спасается не верою только, но и делами: "Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва". Вот именно так понимают веру и спасение православные. Слова ап. Иакова "человек оправдывается делами, а не верою только" являются ключевыми для понимания православного отношения ко спасению.
[20] Итак, из Евангелия совершенно ясно видно, что для спасения необходимы дела. Чтобы спастись (получить Божье прощение) нужно и самому прощать; чтобы спастись (не быть осуждённым Богом) нужно и самому не осуждать; чтобы спастись (не быть вверженному в гиену) нужно не оскорблять ближних; чтобы спастись (получить милость Божью) нужно и самому миловать; чтобы спастись (войти в радость Господа) нужно творить добрые дела; чтобы спастись (быть учеником Христа) нужно возлюбить Христа больше самой жизни; чтобы спастись (чтобы Христос исповедал нас пред Отцом Своим) нужно самим исповедовать Христа пред людьми; чтобы спастись (войти в Царствие Божие) нужно исполнять волю Отца, то есть все заповеди Христа; чтобы спастись нужно не только веровать, но и делать, прилагать усилия ко своему спасению, переносить страдания, побеждать дьявола и свою плоть.
[21] Но протестанты игнорируют данные места Писания, точнее - как бы не замечают в них той ясной мысли, что наши дела и исполнение заповедей Христа являются прямым условием нашего спасения, и утверждают, что для спасения нужна лишь "вера во Христа как своего личного Спасителя", что нужно, если ты так веруешь, быть полностью уверенным в своём спасении. Это свойственно всему западному и подавляющему числу[Некоторые русские баптисты, например, иногда не склонны (в том числе и из-за влияния Православия) так оголтело заявлять о своей спасённости, но и они хотя и более спокойно, но учат тому, что если человек уверовал во Христа как своего Спасителя, то он должен веровать в свою спасённость на основании лишь этой веры] русскоязычных протестантов. Особенно это характерно харизматам, которые не только совершенно уверены в том, что они уже навеки спасены, но и в том, что имеют самые близкие и даже панибратские отношения со Христом. Так, они не редко заявляют о том, что когда они придут в Царство Небесное, то подойдут ко Христу, похлопают Его по плечу и скажут Ему: "ну как Ты? я рад Тебя видеть!". И кроме такой своей уверенности в своём спасении протестанты осуждают православных за то, что они учат о необходимости дел для спасения, чем, якобы, пытаются заслужить своё спасение, отвергая благодать Христову.
Так, Сергей Санников, характеризуя апокрифический апокалипсис ап. Петра (который согласуется с общеправославным учением о спасении), пишет: "Важность этого апокалипсиса состоит в том, что его автор первым внедрил в христианство языческие идеи об адских мучениях за грехи в связи с греховным поведением людей на земле, а с другой стороны - превозносил райское блаженство тех, кто проводил добродетельную жизнь. Таким образом, новозаветное представление о спасении по благодати благодаря жертве Иисуса Христа начало отходить на "задний план", а главное место в сознании стала снова занимать привычная, дохристианская картина спасения за добрые дела и наказания за злые"["Двадцать веков Христианства", Одесса Санкт-Петербург, 2001 г., том 1, с. 169].
Нет, протестанты: постоянно читая Библию вы не видите в ней многих мест, ясно говорящих именно о том, что Бог будет наказывать людей за "греховное поведение на земле" и вознаграждать праведных за "добродетельную жизнь", то есть, "воздаст каждому по делам его". Эта идея не языческая, а вполне христианская и новозаветная… Но попробуем подробно во всём разобраться.
[22] Первая проблема, которая возникает при чтении одних и других мест Писания (то есть, когда в одних местах Писания говорится о том, что для спасения нужна лишь вера, а в других - что для спасения нужны также дела и исполнение заповедей) такова: как же их можно согласовать? Как же понимать многие уверения Евангелия в том, что верующий во Христа имеет спасение и жизнь вечную, на которых и основывают своё учение о спасении протестанты, и которые и служат для них источником известной их уверенности в своём спасении? Естественно, Писание не может противоречить само себе, а значит, что в одних и других местах Евангелия говорится об одном. Иначе говоря, нужно признать, что спасающая вера - тождественна делам, то есть, она является, в известном смысле, тем же самым, что и дела.
Протестанты же очень ущербно понимают и трактуют суть веры. Для них спасительная вера, как было сказано, заключается в формуле: "веруй во Христа как своего личного Спасителя и ты спасён". Эту формулу, повторю, знает наизусть каждый протестант, при том, что её, как и выражения "личный Спаситель", нет в Евангелии. Такое определение спасающей веры это ложное протестантское предание, ибо в Предании Церкви оно нигде не встречается - ни в каких древних документах Церкви и писаниях святых отцов подобной формулы мы не находим.
[23] Но именно такое толкование сути спасающей веры является для протестантов важнейшим в их богословском сознании, и именно оно (толкование) и приводит протестантов к полной уверенности в своём спасении, и именно оно более всего делает протестантов легкомысленными как в вопросах догматов веры, так и в выборе церкви, к которой они примыкают: как не обличай неправые догматы протестантизма и их несоответствие жизни и учению древней Церкви, как ни указывай на его бесчисленные расколы, на самозваное происхождение его пресвитеров, на отсутствие даже самозваных епископов, Таинств и пр., протестанта всё это, как правило, мало трогает. Он думает в себе (или отвечает на всё это) так: "Всё это малозначащие полемические вопросы, которые "не влияют на моё спасение"[Протестанты очень часто используют это выражение во многих случаях. Что им ни скажи о неправильности их веры, они часто отвечают: "на спасении это не влияет"]. Главное, что верую во Христа, а потому, по обетованию Евангелия, я спасён и имею жизнь вечную".
[24] На самом деле, спасающая вера есть намного более широкое понятие, чем то, как понимают её протестанты, чем "вера во Христа как своего Спасителя". Такая вера это лишь признание того, что Христос умер в том числе и за меня, но это есть лишь малая часть веры. Истинная спасительная вера есть не только признание Христа Своим Спасителем, но и Господом: иначе говоря, вера есть исполнение воли и всех заповедей Христа. Митр. Макарий совершенно правильно определяет веру как "свободное принятие и усвоение человеком, всеми силами души, тех истин (в том числе и нравственных), которые Бог благоволил открыть нам во Христе для нашего освящения и спасения"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 298].
"Верить в Господа Иисуса" значит исполнять все Его заповеди! Раб тогда признаёт своего господина господином, когда исполняет все его приказания, иначе он, говоря евангельским языком, не верует в своего господина (или настолько не верует, насколько не исполняет). Поэтому, слова "веруй в Господа и спасёшься" означают: "исполняй заповеди Христа, и спасёшься". Тоже самое означают и другие подобные места: веровать и исповедовать Иисуса Сыном Божиим и Христом значит жить по Евангелию, исполняя волю Христа. Потому, кто говорит, что верует во Христа и исповедует Его Спасителем и Сыном Божиим, но не творит Его волю, тот не верует, как должно веровать, и такая вера не может его спасти. Ведь и бесы веруют, что Иисус есть Христос и Сын Божий, но они совершенно вне спасения, так как не творят воли Христа.
[25] "Зачем ты нам это говоришь? - спросит меня мой читатель протестант - разве ты не знаешь, что мы и сами постоянно говорим о том, что вера без дел мертва?". В том и суть, что протестанты, признавая, что за истинной верой должны следовать дела, не понимают глубины этого вопроса и не делают из этого должных выводов, иначе они не твердили бы постоянно о том, что для спасения нужно лишь признать Христа своим Спасителем, и что они спасены, поскольку имеют веру, и не спорили бы с тем, что для спасения нужны дела, как делает это С. Санников в вышеприведенной цитате и все протестанты постоянно.
Протестанты не понимают также и обратной стороны утверждения (которое они теоретически признают) "дела есть выражение веры", а именно: если исполнение заповедей есть выражение и плод веры, то справедливо и то, что всякий грех есть выражение и плод неверия! А это значит, что чем больше человек грешит, тем больше он не верует во Христа и Евангелие (то есть душой не приемлет его и не сообразуется с ним), и никак иначе. И поскольку многие грехи человека не видны, и только Бог есть истинный сердцеведец, то окружающим людям обычно не дано точно знать, в вере ли находится человек. Если протестанты скажут, что нужно судить по плодам, то и этот критерий весьма субъективен, ибо с одной стороны человек может лицемерить, с другой же, чтобы право судить кого-то по делам нужно самому быть в святости.
Но протестанты этого не понимают, и признают всех верующих во Христа как своего личного Спасителя спасёнными! Они просто разделяют людей на верующих и возрождённых, то есть тех, кто покаялся и принял Христа как своего Спасителя, и не верующих и не возрождённых. На самом же деле, всё происходит в душе человека гораздо сложнее, и человек не бывает, кроме самых великих святых, цельным[Важно заметить, что "спасение" в греческом языке значит "целостность"].
То есть, он, обычно, не может принять Христа и уверовать в Него и Евангелие всей своей душой и всем существом, но в его душе остаётся и неверие, которое продолжает бороться с верой и производить свои плоды - грехи. Потому, вся жизнь истинного христианина есть борьба за веру. В его душе вера с неверием борется. Как говорил Ф.М. Достоевский: Бог с дьяволом борется, и поле боя - душа человека. Это не значит, что человек всё время сомневается в существовании Бога или в том, является ли Христос Сыном Божиим[Хотя и такую борьбу испытывали многие (как и сам Ф. Достоевский), особенно во время распространения атеистических идей, в XIX-XX век].
Имеется в виду вера в полном смысле этого слова, та вера, которая производит дела веры и плод праведности. Если бы человек веровал во Христа всей душой и изгнал бы из неё всякое неверие, то он бы был полностью свят, он не грешил бы и творил бы только благие Богоугодные дела. Но поскольку христианин, обычно, то угождает Богу, то грешит, это значит, что он не имеет достаточно веры, его вера ущербна, и в душе есть также и неверие. Бог же, на Своём Суде, будет оценивать, делала ли душа больше добрых дел или злых, дел веры или дел неверия; иначе говоря, больше веровала или не веровала во Христа[Если же человек, живя на земле, не слышал о Христе, то всё равно каждая душа знает Христа внутренне, то есть, она имеет в себе свой логос, подобный Божественному Логосу, Которым она и была сотворена, и имеет совесть, которая свидетельствует душе, что есть добро и зло. И если человек следовал своей совести и избирал то, что он считал добрым, он спасётся, по своей вере в этот Божественный Логос. Только таковые не войдут в славу Церкви - о спасении вне Церкви подробнее будет сказано в 21 главе].
Хочу подчеркнуть то, что протестанты признают человека верующим или не верующим, возрождённым или не возрождённым и не понимают именно того, что человек, обычно, не может уверовать во Христа и Евангелие всей душой, и что словесное и умственное признание Христа своим Спасителем и Господом и акт покаяния не изгоняют из его души всё неверие, и в душе человека и после этого остаётся много неверия, то есть не усвоения и внутреннего не принятия, не сообразования с волей и характером Христа. И только Бог может точно судить, чего в душе человека больше - веры или неверия, и в результате, чего он достоин - Небесного Царств или ада, и какой степени[Очень не маловажно понимать, что не все спасённые будут у Бога в одной славе, чести и близости к Нему. В ближайшем с Ним обращении будут только самые великие святые, наиболее Его возлюбившие и уподобившиеся Ему, и всей душой принявшие и усвоившие Евангелие. Далее от Христа будут находится менее святые, затем ещё менее и так до самых последних, которые не принесли Богу плода и едва лишь сами спаслись, о которых пишет ап. Павел: "А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня" (1 Кор. 3:15). Так же и в гиене огненной погибшие будут испытывать весьма различную степень мучения - величайший грешник, антихрист, будет испытывать наибольшие муки, меньшие грешники - меньшие, и так до наименьших грешников. Учение же это, о различной степени блаженства и мучений святых и погибших, раскрывается во многих местах Писания. Например, в Откр. 2:23 и подобных местах, где говорится о том, что Бог воздам каждому по его делам. И так как дела у людей различные, у одних их больше и сами дела более святые, а у других иначе, то и получат они разное воздаяние. Или в 1 Кор. 3:8, где говорится, что "каждый получит свою награду по своему труду", то есть соответственно своего труда. Награда же эта и будет выражаться, естественно, не в золоте или лавровых венках, а в близости человека к Богу. Или в Мф. 13:8, где приточно сказано о том, что одни люди принесли Богу плод во сто крат, другие в шестьдесят, а третьи в тридцать, и пр.] блаженства или мучения.
[26] В подтверждение сказанному хочу привести несколько мест из Евангелия. Ап. Иоанн говорит: "Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает…" (1 Ин. 3:6) и: "мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит…" (1 Ин. 5:18). Но в другом месте он пишет: "Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас... Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас" (1 Ин. 1:8,10). Также и другой Апостол говорит: "…все мы много согрешаем" (Иак. 3:2), или, что одно и то же, все мы много не веруем!
Эти места, кстати сказать, часто смущают протестантов, и они не умеют удовлетворительно истолковать это "противоречие"[Некоторые протестанты, например штундисты, утверждали, что они буквально не грешат. Баптисты объясняют так, что верующий не грешит (большими грехами), но согрешает в мелочах. Но ведь у Иоанна сказано, что пребывающий во Христе даже не согрешает! Причем, для разделения понятий "грешить" и "согрешать" нет основания, ибо в оригинале везде в указанных местах употребляется одно и то же слово]. А объяснить эти места можно именно так, что Апостол говорит в первом случае об абсолюте, о совершенстве. Истинно, всей душой верующий человек - кто всецело пребывает во Христе; кто рождён от Бога так, что из души изгнан всяких грех и все ростки иной, дьявольской жизни, и всю душу наполняет одна лишь новая Божья жизнь - не грешит и не согрешает. Но во втором случае он говорит о реальности, что на практике почти нет таких людей, кто во всём верует Христу и во Христа; кто всецело пребывает в Нём; в котором новая Божья жизнь вытеснила всю другую жизнь, все другие ростки греха. Таковыми были лишь самые великие святые Церкви - Матерь Божия, Апостолы и некоторые другие.
[27] Протестанты без зазрения совести говорят: "мы познали Христа и пребываем в Нем, потому мы и имеем жизнь вечную". Но что пишет об этом ап. Иоанн? "Кто говорит: "я познал Его ", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал" (1 Ин. 2:4-6). Итак, тот, кто познал Бога и пребывает в Нём, тот соблюдает Его заповеди и поступает так, как поступал Христос; иными словами, тот уподобился Христу.
Но кто из протестантов подобен Христу во всех своих чувствах, мыслях и делах? Христос заповедал нам любить врагов, любить ближних своих больше своей жизни; быть святыми и совершенными, как свят и совершенен Отец Небесный[Заповедуя быть совершенными как Отец Небесный, Христос вовсе не имеет в виду, что нам нужно или возможно, особенно в этом мире и этой плоти, достичь Божественных качеств - всезнания, вездеприсутствия, всемогущества и пр. Совершенство нужно здесь понимать как полное соответствие своей природе: как Отец полностью соответствует Своей Божественной природе и нисколько от неё не уклоняется, так и мы должны полностью соответствовать своей человеческой природе - быть истинным образом и подобием Божиим, не уклоняясь от неё ни в какой грех]; любить Бога всей душой, всей крепостию, всем помышлением; непрестанно молиться, и пр. Кто любит ближнего больше самого себя, как возлюбил Христос, или как любил своих ближних ап. Павел, который был готов навеки быть в аду ради своих ближних, как он сам о том говорит: "я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти" (Рим. 9:3)? Если какой нибудь дерзкий харизмат заявит, что и он также любит людей и готов на такую жертву, если из-за этого спасутся многие, то для осознания своего жуткого обольщения я предлагаю таковому подержать свою руку в огне хотя бы несколько секунд и подумать, готов ли он на самом деле хотя бы ради спасения всего человечества вечно находится в таком огне, не говоря об адском? Может при этом ваша прелесть хотя бы немного отступит и хотя бы немного придёт осознание того, насколько вы далеки от любви, святости и уподобления Христу Апостола Павла, иначе говоря - от его веры.
[28] Кто из протестантов исполняет все заповеди Христа? Кто непрестанно молится? Кто поступает и говорит всегда совершенно и свято? Всякий же грех (уклонение от совершенства) и не исполнение заповедей Христа, повторю, есть только плод неверия, не усвоения душой Евангелия! Если христианин не может от души простить брата, то значит, он попросту не верит во Христа, как должно верить. Или если "кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое" (1 Ин. 3:17) и говорит при этом, что верит во Христа как своего личного Спасителя, то он лжет и не имеет истинной и спасительной веры во Христа (по крайней мере, в данном случае). Он не верит словам Христа: "истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:40). Потому он может погибнуть: не просто по своим делам, а по своему неверию. Ведь спасение по вере, а он не поверил Христу; не поверил, что в милости нуждался Сам Христос. Если человек смехотворствует и любит смотреть телепередачи, прямой целью которых есть смехотворство, то он также делает это по неверию. Он не верит Христу, запретившему смехотворсто; он не исполняет Его волю; он отвергает Христа как Господа; душа его не откликается на волю Христа и внутренне не соглашается с этой заповедью. Или если человек, считающий себя верующим, постоянно занимается чревоугодием, то он не верит во Христа, он не признаёт Его Господом, и богом своим сделал своё чрево. Или если жена не повинуется своему мужу, спорит с ним и настаивает на своём, то она не верит Евангелию, которое заповедует жене повиноваться мужу своему как Церковь повинуется Христу, а верует она более учению мира, масонской демократии, проповедующей равноправие между мужчиной и женщиной и отвергающей послушание жены мужу, и т.д. Так как же женщина может утверждать, что она спасена, если не повинуется своему мужу, если она не верит в Евангелие, а для спасения нужна такая вера. А есть ли из протестантов причастные к таковым грехам? Безусловно!
Я мог бы здесь перечислить множество случаев, которые знаю и видел, когда протестанты отнюдь не поступают по Евангелию. Но как же тогда вы, протестанты, можете быть так уверенными в своём спасении? Как вы можете петь "от греха я спасен", если продолжаете грешить? Как же вы спасены от греха? Если бы вы веровали во Христа всей душой и пребывали бы в Нём, если бы действительно были спасены от греха, то вы бы не согрешали и были бы подобны Христу. А поскольку вы много согрешаете, а грех есть выражение неверия (который лишь показывает, что в душе нет веры), то значит, вы не веруете, по крайней мере, отчасти. Спасение же по вере. Так как же вы спасены, если вы не имеете веры?
[29] На это протестанты, естественно, скажут, что хотя это и так, хотя мы и согрешаем, но мы при этом:
1) очевидно больше творим доброго, чем греховного, то есть больше веруем, чем не веруем, и
2) исповедуем наши грехи, то есть просим за них у Бога прощения, и Он нам их прощает по Своему обещанию: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Ин. 1:9).
[30] По поводу первого пункта[О пункте втором будет сказано ниже, в абзацах 71-86] хочется спросить протестантов: а судьи кто? Протестант ведь судит сам о себе. А всегда ли такой суд бывает верным? Не предвосхищают ли протестанты Суда Божьего? Есть очевидная сложность в том, когда человек сам себя судит, ибо такой суд, во-первых, обычно предвзят. Хорошо известно, как человек умеет выгораживать и давать благие оправдания и мотивы даже самым мерзким из своих поступков. Во-вторых, человек часто не ведает, не осознаёт своих грехов, или не дооценивает их серьёзности. Осознать свои грехи и пороки есть первая и часто труднейшая часть борьбы христианина за веру и святость[Я очень хорошо помню, что когда я принял Православие и нечистый дух протестантизма стал отступать от моей души, то один из самых ярких моих впечатлений было именно ощущение и осознание того, что в моей душе, оказывается(!), есть сочувствие и склонность почти ко всем грехам! То есть, мне, по милости Своей, Господь, хотя и отчасти, показал, что в моей душе есть на самом деле. До этого же я искренно считал, что я чужд большинства грехов. И так думают о себе, как правило, все протестанты, ибо дух обольщения, в котором они находятся, не даёт им увидеть себя и свои страсти]. Потому православные и говорят, что "сподобившийся видеть свои грехи блаженнее сподобившегося видеть ангелов".
Если же говорить конкретно о протестантах, то нужно заметить именно то, что они могут признать лишь малую долю своих грехов, тогда как большую часть из них они не осознают, и самые страшные из грехов протестантов это кощунство и святотатство, когда они, не имея на то права, смеют совершать церковные священнодействия, и ереси и богохульства, когда они, например, не признают Деву Марию Девой и Богородицей, называют святыни и образы Христа и Его святых идолами, и пр.
В-третьих, человек часто думает, что он творит добрые дела, в то время как они таковыми не являются. Протестант, например, может ходить на собрания и на евангелизации, и думать при этом, что он творит добрые дела, что это есть плоды веры, но это не так. И сейчас я имею в виду не то лишь, что протестантов не Господь к этому призывает, а сектантский дух[Хотя протестантам не приятно такое читать о себе, но теоретически они могут согласиться с тем, что можно и ходить на собрания, и проповедовать, и изучать Библию не по воле Божией и во вред себе, как делают это "свидетели Иеговы" и прочие сектанты], а то, что всё это протестанты могут делать в своей же совести не по любви к Слову Божию или к людям, а по тщеславию, или за компанию, чтобы просто пообщаться друг с другом, повеселиться и посмеяться, особенно молодёжь, или даже по корысти, как многие пришли к протестантам и стали ходить на их собрания потому, что там временами раздают гуманитарную помощь.
Кроме того, даже если человек делает истинно доброе дело по вере, то очень часто и к таким его поступкам примешивается что-то греховное. Как говорит Лебедев в романе Ф. Достоевского "Идиот", что он даже в самом искреннем порыве покаяния думает о том, как бы и из этого пользу извлечь. Об этой раздвоенности души хорошо знают те, кто имеет навык вникать в себя. Как часто на молитве человек уносится мыслями, а такая молитва не угодна Богу. Как часто бескорыстно помогая ближнему к человеку всё равно приходят тщеславные и самодовольные мысли. Потому православные святые и оплакивали не только свои грехи, но и добродетели, видя и в них примесь греха, и понимая, что в глазах Божьей святости даже эти добрые дела нечисты… (Потому плач о себе и своих грехах, просьба о милости, сокрушение и покаяние есть основа всей православной духовной жизни и аскетики).
[31] Одним словом, когда протестанты уверяют, что они спасены и непременно наследуют Царствие Небесное[Об этой своей уверенности они не устают утверждать в своих песнопениях, например: "Я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу от Бога приемлю, я буду счастлив без конца. Там поют с торжеством, ожидают меня пред Христом… и мне скажут "ты Богом принят" (№ 508, Песнь Возрождения, Минск 1998 г.)"; "готово место для меня в стране небес святой" (№ 179); "Пусть земля вся утверждает, что Тобой я не спасён, дух мой песню воспевает: "принят раб твой на Сион". Радуйтесь со мною люди! Нет сомненья: "я спасён!". Пусть весь мир твердит иное: знаю я, Христом спасён!" (№ 166), и т.д.], то они, по сути, взяли на себя суд Божий и оправдали сами себя. Этим они заявляют, что они точно знают, что они творят угодное Богу, что дела их добрые и чистые пред Ним. Говорить "я спасён" и без сомнения "славу от Бога приемлю" это значит оценить себя и сказать: "да, я прощал все обиды ближним, потому и меня Бог простит (ср. Мф. 6:15); я никого не осуждал, потому и меня Бог не осудит (ср. Мф. 7:2); я всегда судил милостиво, потому и меня Бог помилует (ср. Иак. 2:13); я кормил, поил, одевал, принимал страждущих и нуждающихся как Самого Христа, потому и меня Бог примет в Царствие Небесное (ср. Мф. 25:42-45); я возлюбил Христа больше всего на свете, больше своей жизни, потому я достоин Христа и Его Царства (ср. Мф. 10:37-38); я никогда не стыдился Христа, всегда исповедовал Его, потому и Он меня не постыдится (ср. Мф. 10:32,33); я всегда исполнял волю Отца Небесного, потому Он должен обязательно меня впустить в Своё Царство (ср. Мф. 7:20-23); я победил в этом мире диавола и все его козни (ср. Откр. 2:7 и пр.), потому я наследую все обетования как победивший; я был твёрд в своём христианском звании и избрании, и шёл за Христом не претыкаясь потому мне "открыт теперь свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа" (ср. 2 Пет. 1:10,11); я хорошо бежал, и не напрасно бился, достаточно воздерживался и усмирял тело мое, и проповедуя другим, сам был достойным Христа, потому мне приготовлен у Господа нетленный венец (ср. 1 Кор. 9:24-27); я подвигом добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь (ср. 2 Тим. 4:7-8); я исполнил закон Христов - возлюбил Бога превыше своей жизни и ближнего моего как самого себя (Рим. 2:13) и т.д. Одним словом, я уверовал в Евангелие, усвоил и исполнил его, и потому я знаю, что спасён".
Такая позиция свидетельствует о протестантской духовной наглости, самомнении, похищении суда у Бога и крайне ущербном их понимании спасительной веры. И такое легкомысленное отношение к вере и спасению не мыслимо для православного человека, и чуждо духу и букве Евангелия, которое заповедует нам совершать (т.е. довершать, как нечто ещё не оконченное) своё спасение "со страхом и трепетом" (Фил. 2:12), а не торжествовать и уверять всех, что мы уже спасены. Православному хочется ответить на заявления протестантов словами Апостола: "…не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога" (1 Кор. 4:5), или, если совсем по простому, русской поговоркой: "не говори "гоп", пока не перепрыгнул". Вот если Христос на Страшном Суде поставит вас справа от Себя, тогда мы и увидим, что вы спасены.
[32] Православному же человеку как раз свойственно говорить не о своей спасённости, а о своей греховности и недостоинстве, и о том, что вера (в полном и истинном смысле этого слова) и спасение есть только его стремление. Протестанты же, не понимая сути православного мышления, не понимая, по своей легкомысленности, сути Евангелия и главных его понятий - веры, покаяния и пр. - часто смеются или снисходительно сочувствуют православному "маловерию". Но смирение восторжествуют, а не безумное протестантское самомнение и обольщение, ибо "всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк. 18:14).
[33] Итак, спасительная евангельская вера отнюдь не ограничивается признанием Христа как своего личного Спасителя, принятием Его в своё сердце. Веровать во Христа всей душой значит исполнять все его заповеди и все сферы своей жизни подчинить Духу Святому, иначе говоря - быть святым и совершенным. И человек призван уверовать во Христа именно в таком смысле. Поэтому, нужно сначала прийти к полной вере, уверовать до конца (или, по крайней мере, больше веровать, чем не веровать, и больше исполнять заповеди, чем не исполнять), а потом уже можно заявлять о том, что я спасён и имею жизнь вечную. И безумие, наглость и прельщение протестантов заключается в том, что они, отнюдь не имея таковой веры и много согрешая (а кроме того, вообще не впуская в свою душу Христа, отвергая Церковь и Её Таинства, через которые и входит Христос в душу человека), так беспечно и с такой самоуверенностью заявляют, что они спасены, причём мнят о себе, что они будут в Царствии Небесном непременно в самом ближайшем общении со Христом.
[34] Теперь, что касается особо любимых протестантами посланий ап. Павла к Римлянам и Галатам, где говорится о том, что человек не оправдывается делами и что спасение не от дел, то ап. Павел пишет о делах закона, а не о делах веры, между которыми есть огромная и принципиальная разница, что многие протестанты, к счастью, понимают[Правда, когда они говорят о Православии, они не хотят понимать этой разницы, или, по крайней мере, полностью убеждены, что Православие проповедует о спасении не по делам веры, а по делам закона]. Человек, живущий по закону и творящий дела закона, стремится исполнить его и через него достичь спасения и оправдания пред Богом своею праведностью, ибо "кто исполняет его, тот жив будет им" (Гал. 3:12). И так как ни один не исполнил и не может исполнить закон до конца, то законом он и не может оправдаться, ибо "кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем" (Иак. 2:10). Дела же веры суть доказательство и выражение самой веры, которой человек и спасается.
Мартин Лютер, не поняв в свое время разницу между делами закона, о которых писал ап. Павел, и делами веры, о которых говорил ап. Иаков, - то есть того, почему ап. Павел пишет: "мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона" (Рим. 3:28), а ап. Иаков утверждает, что "человек оправдывается делами, а не верою только", - вообще исключил послание Иакова из Библии[Потом, впрочем, или он сам или его последователи всё же признали послание Иакова], посчитав его не богодухновенным. Этот факт не случаен, ибо он показывает, что учение ап. Иакова плохо встраивается в богословскую систему протестантизма, и протестанты до сих пор вслед за Лютером, по сути, не признают того, что человек оправдывается делами, а не верою только.
[35] Размышляя о том, что есть истинная и спасительная вера, совершенно невозможно упустить из виду Павлово определение веры, хорошо знакомое протестантам: "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11:1).
Сначала разберём первую часть определения. Что значит "осуществление ожидаемого"? Чего ожидают христиане? Прихода Христа и Его Царства, в котором царит любовь, правда, справедливость, милость, мир, кротость, радость во Святом Духе и т.п. Вот всё это человек и должен "осуществлять" живя здесь на земле: любить и миловать ближних, творить правду, поступать справедливо, смиряться и исполняться Духом Святым и Его плодами, ибо "Царствие Божие внутрь вас есть" уже сейчас (Лк. 17:21). Таким образом, вера по самому своему определению есть осуществление, то есть дело - исполнение и воплощение в жизни Царствия Божия, заповедей Христа! И кто больше осуществляет в жизни заповеди Христовы, тот больше верует.
Важно заметить, что Сам Спаситель также назвал веру делом: "вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал" (Ин. 6:29). Поэтому, это ещё раз подтверждает то, что вера не возможна без дел; что вера это и есть дело, исполнение воли Божией. А раз именно такая вера спасает, то значит, человек спасается и оправдывается не иначе, как делами.
[36] Теперь о второй части определения веры. Что значит "уверенность в невидимом"? Это уверенность в том, чего человек не видел: в существовании Бога, Ангелов, Царствия Небесного, ада, Суда Божия и пр. И само собой разумеется, что уверенность в невидимом должна быть истинная, а не ложная; мы должны веровать в то, что действительно есть[Слова "истина", "истовый" связано с литовским словом "естина". Таким образом, истина это то, что есть - есть в действительности] в духовном мире. Уверенность же в несуществующем (ложном) невидимом не есть истинная и спасительная вера.
[37] Так, и православные и протестанты понимают, что уверенность буддистов в существовании нирваны и вера индусов и кришнаитов в Вишну и Кришну не есть истинная и спасительная вера, ибо они верят в ложь: они верят в другого бога; ни нирваны, ни невидимого мира, в котором они уверены, ни реинкарнации просто не существует.
[38] Мы также прекрасно понимаем, что если так называемые "свидетели Иеговы" уверены, что Бог существует в одном лице и никакой Троицы нет; что Христос не есть истинный безначальный Бог-Иегова, а существо сотворённое, которое они отождествляют с архангелом Михаилом; что Дух Святой также не Бог и вообще даже не личность; что ада и вечных мучений не существует; что душа вне тела также не существует, а умирает вместе с телом; что благоразумный и верный раб в Мф. 24:45 это руководство их организации в Бруклине, то такая их вера есть дьявольская, ложная, богохульная, искаженная и, естественно, не спасительная. Они хоть и называют своего бога библейским именем Иегова, но на самом деле верят в иного, искаженного бога, ибо истинный Бог есть Троица; архангел Михаил не есть Христос; ад и душа существуют и организации "свидетели Иеговы" в качестве Своей Церкви у христианского Бога нет.
[39] То есть, ясно то, что для спасения нужна не просто какая-то вера и уверенность в каком-то дьяволом придуманном и искажённом невидимом, а нужна вера правильная[Кстати, Вера Православная то и значит: правая, правильная; правильно исповедующая и славящая Бога]. Нужно иметь уверенность в правильном, а не ложном и искажённом невидимом, или, говоря конкретнее, нужна вера в правильные, истинные догматы.
Протестантская же вера существенно искажена, хотя не в такой степени, как индуистская или расселистская, но в степени вполне достаточной для погибели. Ведь протестанты верят в такого бога, который является иконоборцем и гнушается образами Христа и святых; который ненавидит православные Храмы, всё его устройство и весь ход совершаемого в нём Богослужения; у которого нет на земле никаких святынь и который презирает, когда люди почитают Крест и прочие вещественные святыни; который отворачивается от людей, когда они призывают его с крестным знамением, потому как не желает "служения рук человеческих"; которому противно монашество; который гневается, когда в молитвах обращаются к ангелам и святым, и молятся за усопших; который осуждает поклонение святым как идолопоклонство. Протестанты верят в такого христа, который не облекает человека своей праведностью в крещении; который не даёт верным вкушать свою плоть и кровь; который не учреждал в своей церкви семь таинств; у которого мать не является приснодевой; который отверг православную церковь и восприял протестантов; у которого среди славных святых не Николай Угодник, великомученица Екатерина и Сергий Радонежский, а Лютер, Кальвин и Цвингли; которому ни Ангелы, ни небесные святые не молятся о верных, проходящих земное поприще и т.д. То есть, протестантский бог во многом отличается от Бога истинного (то есть естинного, того, Который есть на самом деле); от Бога, в которого верили древние христиане, от Бога православного; духовная реальность, в которой уверены протестанты, иная, чем есть на самом деле. Потому вера протестантов не истинна. Их вера не есть уверенность в существующем невидимом. Потому вера их и не спасительна...
[40] К этому хочу добавить ещё одну важную мысль о самой онтологической сути веры. Блаж. Августин неоднократно высказывал мысль о том, что человек в своей душе имеет память о рае, что познавая себя он может познать Бога, увидеть тот образ, по Которому он сотворён. Это внутреннее воспоминание и толкает всякого человека на поиск Бога. И когда в человеке, слышащем Евангельскую весть, рождается вера во Христа и Евангелие, он, по сути, лишь вспоминает самого себя, свою природу и происхождение; его душа ему свидетельствует, что Евангелие говорит правду, что Христос это именно Тот, по образу Которого сотворена его собственная душа; что Его заповеди есть совершенно не внешние требования, а самое природное, родное и свойственное ему, человеку, поведение и образ жизни и мысли, а всякий грех, который осуждает Христос, действительно совершенно чужд его природе; что вся та духовная невидимая реальность, о которой учит Христом и вслед за ним Его Апостолы и вся Церковь, действительно существует, что его душа родом из этого мира.
Потому Христос и требует от человека веры, то есть того, чтобы он, смотря на Христа, Его слова, дела, жизнь и смерть, вспомнил себя, признал в Нём свой прототип и всей душой потянулся бы к Нему и пожелал бы восстановить в себе этот утраченный и затемнённый грехами образ. Потому неверие (т.е. внутренний отказ человека вспомнить Христа и самого себя, и поступать согласно своей природы) и является тяжким и непростительным грехом, или, лучше сказать, это и есть грех в собственном смысле слова, грех как уклонение и забвение своей природы и предназначения.
Таким образом, Христос Своим учением и жизнью напомнил человеку, кто и каков он есть и должен быть, а через Таинства и другие священнодействия и святыни Он, кроме прочего, возбуждает в человеке это воспоминание, то есть веру. И вот такая вера, как воспоминание своего Божественного происхождения (сотворения по образу Христа) и возвращение себя к такому образу и спасает человека. И, безусловно, люди очень по разному веруют, лучше или хуже себя вспоминают, больше или меньше восстанавливают в себе образ Христа (а многие вовсе не вспоминают и только впадают в ещё большее забвение, то есть неверие), потому и будут и непременно должны быть на небесах различные степени близости ко Христу - чем больше человек уверовал, вспомнил себя и восстановил в себе образ Христа, чем больше изобразился в нём Христос (ср. Гал. 4:19), тем больше он спасён и тем ближе к Нему он будет в Царствии Небесном.
О протестантах же можно сказать то, что они находятся в большом неверии и забвении во многих духовных вопросах, в большом забвении истинной духовной реальности и весьма далеки от спасения. По крайней мере, это можно сказать о самом протестантизме - это путь забвения, который весьма искажает образ Христа, весь духовный мир и законы спасения. И если какой протестант и спасётся, то отнюдь не благодаря протестантизму, а только вопреки ему.
[41] Итак, спасение по вере. Но вера, во-первых, это намного больше, чем признание Иисуса своим личным Спасителем и сердечная уверенность в том, что Он есть Сын Божий и Христос. Вера это исполнение всех заповедей Христа; это истинное воспоминание себя и Божьего мира и восстановление в себе образа и характера Христа. Кто не исполняет этих заповедей, или исполняет их частично, тот и не верует, или верует частично. И только на страшном Суде Господь откроет всем, в ком было достаточно веры, а ком не достаточно, или в ком её вообще не было. Потому и не нужно до Суда Божия заявлять и быть уверенным в своём спасении. Во-вторых, спасает не всякая вера, а вера истинная, правая. Человек должен не просто веровать во Христа, но веровать в истинные догматы, в истинную невидимую реальность.
[42] Мой протестантский читатель может опять мне сказать: "да разве мы против того, что вера должна проявляться на делах; разве и мы не проповедуем о том же"? Да, протестанты призывают к исполнению заповедей Христа, по таким мотивам: чтобы прославлять Бога (см. 1 Пет. 2:12); чтобы быть достойными Его; чтобы не огорчать Его своими грехами; чтобы быть благодарными Богу за уже дарованное спасение; потому что исполнять заповеди - свойственно спасённым детям Божиим, и т.п. Но они никогда не ставят исполнение заповедей в зависимость ко спасению так, как ставит таковое исполнение Евангелие. Они не понимают того, что не исполнение заповедей есть неверие, а значит, оно может погубить человека.
Иначе, почему протестанты вообще возражают против православного учения о необходимости добрых дел для спасения, как не потому, что они отвергают эту необходимость? О с чем тогда спорит С. Санников в вышеприведенной цитате? И почему протестанты уверяют себя и других, что если ты веруешь во Христа как своего Спасителя, то ты уже спасён этой верой без всего остального?
[43] Можно отметить и другое противоречие протестантов в том, как они соотносят дела ко спасению. Если кто-то скажет баптистам, например, что я буду веровать во Христа как своего личного Спасителя, но буду веровать дома, и буду веровать по своему (или как-то иначе, чем баптисты, например, как субботники или как харизматы), а к вам ходить на собрания не буду, то баптисты будут его убеждать в том, что
1) веру нужно выражать в делах, то есть - ходить к ним на собрания, и что
2) нужно не просто верить, а верить истинно, то есть как баптисты, а не как субботники. (Потому, кстати, баптисты считают меня погибшим и молятся о моём спасении, полагая, очевидно, что того, что я верую во Христа как своего Спасителя, не достаточно, и что нужно веровать в Него именно по баптистски). Но если баптистам нужно поспорить с православными или отвратить кого-то от Церкви, то они будут говорить, что вот, написано, что спасение и оправдание по вере, а православные учат, что для спасения нужны и дела.
[44] Теперь о спасении по благодати.
И православные и протестанты согласны с тем, что человек спасается не своими заслугами, а благодатью Христа. Обе стороны понимают благодать как благой Божий дар. К дару благодати можно отнести многое - прощение грехов, возрождение человека, присоединение его телу Христа (Церкви). Главный же дар благодати это дар Духа Святого: "…да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа" (Деян. 2:38). Можно заметить, что Православие понимает благодать намного шире и объёмнее, чем протестантизм, но я не буду на разборе этого вопроса останавливать сейчас внимание.
Наиболее важно сказать о главном и самом пагубном заблуждении протестантизма насчёт спасения по благодати, именно о том, каким образом может человек принять благодать Христову. В протестантском представлении благодать спасения приемлется через личную молитву ко Христу, в которой человек говорит Господу, что верует в Него и принимает Его Жертву, приглашая Христа войти в его сердце. И Господь тут же, по вере и просьбе человека, без всякого посредства, прощает ему грехи, возрождает его, входит в его душу, соединяет Своей Церкви и дарует ему Духа Святого. Можно без малейшего преувеличения сказать, что такое представление о спасении является самой сутью протестантизма, самой сердцевиной его веры, что наиболее отличает его от Православия.
Именно от этот догмат объясняет тот факт, почему протестантизм с такой лёгкостью и так, в общем, безболезненно постоянно раскалывается на тысячи толков и конфессий, ведь в их понимании их спасение никак не зависит от церкви и не даруется посредством церкви. Любые два-три человека, уже спасённые и получившие непосредственно от Бога всю спасительную благодать, могут собраться и основать свою церковь…
[45] На самом деле, спасительная благодать Христова подаётся Им человеку не непосредственно, через личную молитву, а главным образом[Говорю "главным образом" потому, что есть и другие пути принятия благодати Божией, такие как молитва, пост, милость и прочие добродетели, что также служит человеку во спасение. Или, можно сказать, молитва и все добродетели лишь помогают лучше усвоить спасительную и освящающую благодать, подаваемую в Таинствах] через Таинства. Бог возрождает человека не непосредственно, а через Крещение. Также и грехи человеку прощаются сначала через Крещение, а потом через Таинство Исповеди. И Духа Святого человек принимает от Бога не непосредственно, а в Таинстве Миропомазания. И соединяет человека с Собою Христос также посредством Таинства Причащения. Об этих важнейших вопросах будет подробно сказано во второй части моей книги.
[46] Здесь же важно заметить, что учение о спасении через Таинства никак не противоречит учению о спасении по благодати (даром), ибо Таинства есть лишь средства сообщения человеку благодати. Кроме того, всю эту благодать (прощение грехов, возрождение, дар Духа Святого, Причастие ко Христу) человек получает не по своим заслугам, а даром, ведь вся эта благодать стала возможной только благодаря заслугам Христа, Его смерти и воскресению. Христос, облекшись плотью и не сделав никакого греха, умер, и сойдя душою в ад, победил, пленил его, и через воскресение обожил Свою человеческую природу. Благодаря этому стала возможным сошествие Духа Святого, Который есть главный дар благодати, спасающий человека; благодаря этому христианин теперь может в Таинствах облечься во Христа и стать причастником Его прославленного Тела, и став со Христом одним целым, участвовать в Его победе и воскресении.
[47] Итак, спасение по благодати, которую Господь сообщает человеку через Таинства Своей Церкви. Как же протестанты могут спастись благодатью, если они не принимают её? Протестанты постоянно говорят, что для спасения нужно "принять Христа в своё сердце" (эта формула спасении известна в протестантизме не менее, чем "веруй во Христа как своего личного Спасителя). Но для принятия человеком Бога в своё сердце, душу и тело Христос и установил Таинства Крещения, Миропомазания и Причастия - это как раз и есть главные пути, которыми входит Христос в сердце человека. Протестанты же, не признавая Таинств Церкви, отвергают Христа и именно не впускают Его в своё сердце! Церковь призывает протестантов: уверуйте в Евангелие, уверуйте "во Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь", примите в Её Таинствах Христа - облекитесь в Него в Крещении, получите Духа Святого в Миропомазании, примите Тело и Кровь Христовы, но протестанты не веруют проповеди Церкви и отвергают спасительную благодать Христову. Какой же верой и благодатью они спасены, если отвергают и веру и благодать?
[48] Когда же человек уверовал по истине и принял спасительную благодать Христову в Таинствах Церкви его задачей остаётся:
1) сохранить данную ему благодать Духа Святого и
2) приумножить её. Об этом многократно в различных словах говорится в Новом Завете, например: "Духа не угашайте" (1 Фес. 5:19); "И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления" (Еф. 4:30); "…убеждали их пребывать в благодати Божией" (Деян. 13:43); "…напоминаю тебе возгревать дар Божий…" (2 Тим. 1:6); "но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа" (2 Петр. 3:18); "…исполняйтесь Духом" (Еф. 5:18), т.п. Или, как гениально сказал преподобный Серафим Саровский, цель христианской жизни состоит в "стяжании Святого Духа Божьего"[Беседа с Н. Мотовиловым "О цели христианской жизни"]. И вот именно для сохранения себя в благодати Духа Святого и для возрастания в ней и нужно исполнение заповедей Христа, нужны наши воля, усилие и старание. И только в этом смысле нужно понимать всё учение Евангелия и Церкви о необходимости для спасения наших усилий и дел.
Главная мысль прп. Серафима в указанной беседе в этом и заключается, что исполнение заповедей есть лишь средства к стяжанию (приумножению) Духа Святого. Церковь не для того призывает своих чад исполнять заповеди и творить добрые дела, чтобы заслужить ими спасение и оправдание, как толкуют это протестанты по своему неразумию и неудержимому желанию клеветать на Церковь, а лишь для того, чтобы не оскорбить и не угасить Духа Святого своими грехами, чтобы дать место Духу Святому возрастать в душе и освятить, по возможности, всю её. Дух Святой всегда желает освящать человека, но Он может делать это только в сотрудничестве с самим человеком, как точно сказал св. Афанасий Великий: "Бог спасает нас не без нас!". Поэтому Православие совершенно справедливо проповедует о синергизме (сотрудничестве) Бога и человека в деле его спасения. Можно с уверенностью сказать, что принцип синергизма является ключевым понятием в учении Евангелия и Церкви о спасении.
О том же, что человеческое участие в деле спасения совершенно необходимо говорит тот факт, что всё Евангелие исполнено многими призывами к воле человека. И можно задаться вопросом: почему одни верующие и крестившиеся становятся в Церкви великими святыми, а другие грешат и погибают? Не потому это происходит, что Дух Святой одних захотел спасти и освятить, а других нет, ибо Он не желает "чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2 Петр. 3:9), а только потому, что одни люди пожелали дать место Духу Святому остаться и возрасти в их душе, а другие угасили и вытеснили Его из своей души. "…от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия…" (2 Пет. 1:3), и если кто не благочестив, то только потому, что сам не желает черпать у Бога силу и благодать. Христос говорит также: "терпением вашим спасайте души ваши" (Лк. 21:19). Таким образом, с этой точки зрения спасение и освящение человека зависит от него самого, от его воли, усилий и действий. Вот поэтому Церковь так усердно призывает человека трудится над своим спасением и освящением, так подчёркивает человеческую сторону в деле спасения.
[49] Итак, повторю: Церковь учит о необходимости дел и усилий человека не для того, чтобы заслужить спасение своими делами, а лишь для того, чтобы
1) пребыть и
2) возрасти в спасительной благодати Божией.
[50] Теперь хочу сказать о том, кем должен мыслить себя христианин (право верующий во Христа, церковный, крещённый, миропомазанный, причащающийся) - уже спасённым или только спасающимся, то есть ещё не спасённым и находящимся только на пути к спасению? Для протестантов слова ап. Павла "благодатью вы спасены чрез веру" чрезвычайно любимы; они для них как елей на душу. Но Писание отнюдь не всегда использует данное слово в завершенном времени. Ап. Павел пишет также и другое: "Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих" (2 Кор. 2:15); "Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия" (1 Кор. 1:18). В Деян. 2:47 сказано, что "Господь прилагал спасаемых к Церкви"; не спасённых, а спасаемых, то есть находящихся в процессе спасения.
В разговоре православных людей, на вопрос о каком ни будь общем знакомом, например: "как там поживает раб Божий Михаил?", очень часто можно услышать такой примерно ответ: "слава Богу, спасается: стал чаще ходить в Храм, исповедуется и причащается, читает духовные книги, воцерковляется…". Именно спасаемыми, а не уже спасёнными, считают себя православные. И такое самосознание, как мы видим, является вполне апостольским. Потому, утверждение С. Санникова "Церковь же из общества спасённых к ??? веку стала превращаться в общество спасаемых" (с. 151) совершенно неосновательно. Это пример протестантской слепоты при чтении Библии. Не с III-го, а с апостольского века, от самого начала Церковь была обществом спасаемых.
[51] Некоторые из моих вдумчивых читателей могут здесь в возражение сказать, что я в своей книге неоднократно повторяю мысль о том, что протестанты часто замечают и горой стоят за одни, удобные для них места Писания, а других, не удобных, не хотят знать. Но не так ли поступают сами православные и прежде всего я, их защитник, в данном случае, выбирая и подчёркивая в Библии места говорящие о спасении как о незавершенном процессе, а другие - оставляю в стороне? Если наше спасение ещё не завершено, то как понять слова ап. Павел: "благодатью вы спасены"?
[52] Объяснить это можно на простом примере. Представим, что мир есть бушующее море, в котором люди погибают, а Церковь это корабль[Кстати, христиане с древности уподобляли Церковь кораблю, плывущему по волнам житейского моря. Этот образ мы встречаем уже в "Апостольских Постановлениях", где епископу говорится: "Когда же соберешь Церковь Божию, то, как бы кормчий великого корабля, со всем знанием приказывай составлять собрания, повелевая диаконам, как бы матросам, чтобы назначали места братьям, как бы пловцам, со всем тщанием и степенностью. Прежде всего, здание да будет продолговато, обращено на восток, с притворами по обеим сторонам к востоку, подобное кораблю" (кн. 2/57). Поэтому, многие Храмы Церкви с древности строятся именно в виде корабля] спасения, плывущий по житейскому морю в небесную отчизну. О всяком, кто взошёл на этот корабль, можно по справедливости сказать и то, что он спасен, и то, что он спасается. Спасён ли тот, кого подняли на корабль из моря? Безусловно, ведь он поднят из пучины и находится в надёжном корабле, которого кормчий - Сам Христос. Ап. Пётр пишет верующим, что они были "некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы" (1 Петр. 2:10), то есть уже помилованы, уже, в известном смысле, спасены. Но это помилование и спасение ещё не окончательное. Человек ещё может спрыгнуть с корабля или, засомневавшись в его надёжности, пересесть на другой корабль (то есть, уйти в секту или другую религию). Он ещё может лишиться милости Божией, как, например, тот немилосердный должник и заимодавец, который был прощён, но потом из-за своего жестокосердия лишился милости и прощения (см. Мф. 18:23-35), или по каким другим грехам. Таким образом, человек на корабле тогда будет окончательно спасён, когда достигнет на корабле пристани спасения. Поэтому, христиане, пребывающие в истинной вере и Христовой Церкви, в определённом смысле спасены, но не окончательно, и продолжают спасаться, то есть плыть по житейскому морю к Царствию Небесному.
[53] Можно здесь привести и другой пример. Христос сказал: "Я есмь лоза, а вы ветви..." (Ин. 15:5). Из этого образа понятно, что спасение человека совершается через его привитие (причастие) ко Христу. Тот человек спасается, кто привился ко Христу и питается Им. И это привитие ко Христу совершается через веру, Таинства и исполнение Его заповедей. Таким образом, исполнение заповедей, в особенности когда человек с верой и сокрушенным духом причащается, всё сильнее прививает человека ко Христу, всё сильнее даёт ему возможность питаться соками Христа, а всякий грех соответственно больше или меньше препятствует питаться человеку соками и жизнью Христа. Грех это как нож, который делает больший или меньший надрез на ветви, причиняя ей вред и не давая её полноценно питаться от соков лозы. И если таковых порезов делать слишком много и слишком глубокие, то ветвь может болеть или даже отпасть от Лозы. Вот так совершается спасение человека, задача которого как можно сильнее привиться ко Христу и возрасти во Христе, и избегать всякого греха, вредящего этому. Если ветвь привита к лозе, то это ещё не значит, что она не способна засохнуть и погибнуть, как пишет Апостол: "…ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины… ты держишься верою: не гордись, но бойся" (Рим. 11:17-20).
[54] Кроме того, ап. Павел в Рим. 8:24 объясняет, в каком смысле спасены верные, говоря: "мы спасены в надежде"! Вот такую уверенность в спасении, как добрую и светлую надежду, признаёт и проповедует Православная Церковь. И эта надежда тем сильнее, чем больше человек освящается и чем больше исполняется Духом Святым, Который и вселяет в него эту надежду. Надежда эта может у некоторых святых перерастать в твердую веру и откровение, как, например, у ап. Павла: "а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный…" (2 Тим. 4:8). Другие Апостолы также твердо знали о том, что спасутся, ибо получили о том откровение от Самого Христа: "Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых" (Мф. 19:28). Откровение о своём спасении имели и другие святые, такие как прп. Серафим Саровский[Если оно говорил, что в конце времени ему надлежит воскреснуть и открыть всемирную проповедь покаяния, что, безусловно, исполнится, то, конечно, он твёрдо знал, что будет со Христом во спасении].
Но таковое ясное откровение и убеждённость святых в своём спасении является чаще всего исключением. Обычно же верующие "спасены в надежде", но чем больше человек освящается и приближается к Богу, тем больше крепнет его надежда; чем больше он исполняется Духом Святым, тем больше он понимает, что всё ближе к нему спасение. И лишь по мере освящения эта надежда всё больше преобразуется в уверенность. Так, святитель Игнатий Брянчанинов пишет: "Обученные внутренними бранями стяжают познание всесвятой воли Божией, мало-помалу научаются пребывать в ней. Познание воли Божией и покорность ей служат для души пристанищем. Душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение о своём спасении"[Цит по: "Настольная книга священнослужителя", изд. "Свято-Успенская Почаевская Лавра", 2003 г., том 5, с. 728]. Но эта уверенность христиан, ревностно совершающих своё спасение, в своём спасении целомудренна, тиха и скромна, и совсем иная по духу, чем поголовная оголтелая, легкомысленная, ложная убеждённость протестантов в своём спасении.
И вся нелепость заключается в том, что действительно святые люди, находящиеся в истинной вере и Церкви, даже имеющие откровение о своём будущем спасении, отнюдь не трубят о своей спасённости и продолжают в страхе и трепете совершать своё спасение до последнего дня своей жизни, а те, кто учит многим ересям и богохульным догматам, кто святотатствует, дерзая приступать к священнодействиям, не имея на то никакого права, кто даже не забрался на корабль спасения, а сел на разбойничий корабль, отнюдь не плывущий к пристани спасения, постоянно поют и заявляют всему миру, "ничтоже сумняшеся", о том, что они уже спасены.
[55] Итак, Православие не только не отбирает у человека надежду на спасение - оно положительно заповедует совершать своё спасение с верой и надеждой, и считает уныние - смертельным грехом, ибо уныние именно и есть потеря надежды на Бога, разочарование в жизни, отказ от борьбы и согласие со своим духовным поражением. Уныние часто приходит от того, что человек, увидев себя в истинном Божьем свете и осознав, в какой бездне греха он находится, думает, что он никогда не освободится от него и не сможет спастись. Вот такому человеку Церковь и говорит, что нужно до конца надеяться на Бога и своё спасение, ибо Бог весьма милостив; что океан наших грехов не может превысить бездну милости Божией к грешнику, лишь бы он не терял веру и надежду на Бога, не гордился, а смирялся и не переставал сокрушаться и плакать о своих грехах, ибо "сердца сокрушенного и смиренного" Бог не презрит (Пс. 50:19).
Но с другой стороны, Церковь предостерегает и от легкомысленного отношения ко своему спасению, когда человек потакает своим слабостям и не желает бороться со своим страстями, надеясь на величие милости Божьей и Его всепрощение (и тем более, когда человек, как протестанты, так легкомысленно почитает себя уже спасённым, находясь на самом деле от спасения весьма далеко). Такая надежда есть хула на Духа.
Протестанты создали свои самозваные и самосвятские церкви; бесчинно сделали себя пастырями, смеющими совершать священнодействия, которые имеют право совершать только Богом, через рукоположение и преемство, поставленные священники; исказили массу[Перечень ересей протестантизма и его отступлений от веры древней Церкви см. в конце книги] истинных, библейских догматов, содержащиеся в Церкви от времён апостольских, находятся, обычно, во многих страстях и лицемерии, и при этом не только надеются на своё спасение, но полностью уверенны в нем! Вот это - действительно хула на Духа и дьявольская наглость[Насколько, кстати, на этом фоне кажутся нелепыми утверждения протестантов, что баптистом быть - это так трудно, это такой тернистый путь, а в Православии свечку поставил, "пропуск" в гроб положили - и все, больше ничего делать не нужно, как пишет, например, Г. Добровольский: "Омылся, или окропился, или в крайнем случае напился этой освященной воды, и готов для рая. Никакого труда, ни борьбы - все легко и просто и дешево" ("Во свете Писания"). На деле же нет более трудного пути, чем предлагает Православие. Как бы человек ни верил, какие бы ни являл плоды покаяния и веры - никто при жизни (кроме редких исключений) не даст ему гарантию, что он точно будет спасен; даётся только добрая надежда. Кстати, здесь мы видим пример того, как протестанты умудряются обвинять Православие одновременно в двух противоположных грехах. С одной стороны, они обвиняют православных в том, что оно предлагает такой лёгкий путь спасения - водой святой окропился и ты спасён, а с другой, они постоянно говорят, что православные предлагают неоправданно тяжёлый путь спасения, требуя соблюдения строгих постов, воздержания, долгого стояния на службах, различных добрых дел, отвергая спасение даром, по благодати. Так что протестантам нужно хотя бы определиться в своих претензиях к Православию: за лёгкий или тяжёлый путь спасения вы его обвиняете? Хотя протестанты в отношении к Православию руководствуются не здравым смыслом и логосом, а в основном чувством глубокой неприязни и желанием обвинять Церковь в чём только можно, ибо для того они и поставлены своим хозяином]!
[56] Нужно заметить, что протестантское учение о том, что всякий признающий Христа как своего личного Спасителя уже спасён, - и в результате - тотальная уверенность всех протестантов в своём спасении, - возникла не на пустом месте. Такое широкое сочувствие данное учение снискало благодаря распространению на Западе идей гуманизма, где человек и его комфорт и права были поставлены в центр всего и вся. Таким людям было очень приятно слышать и осознавать, что одно только признание Христа своим личным Спасителем надёжно обеспечивает им в вечности блаженную и счастливую жизнь. Говорить людям о таких неприятных реалиях, как возможность угодить в ад, стало дурным тоном, а многие конфессии вообще отвергли учение об аде. Если кто-то сейчас поставит спасение протестанта под сомнение, то он на это просто обидится так же, как если бы кто посягнул на его права. Ап. Павел писал о последних временах: "ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху" (2 Тим. 4:3). Для нужд гуманистов протестанты с радостью отшлифовали библейскую догматику и стали для них этими учителями, льстящими слуху. Никто никогда раньше в истории Церкви так не учил.
Когда я стал читать отцов Церкви, то меня сразу очень сильно впечатлило именно то, что они совершенно иначе говорили о спасении; намного серьёзнее и строже. Например, св. Иустин Мученик говорит: "И мы как будто выхвачены из огня, потому что избавлены и от прежних грехов, и от мучения и пламени, которые готовит нам диавол и все слуги его, и от которых опять избавляет нас Иисус Сын Божий; Он обещал одеть нас в приготовленные для нас одежды, если мы исполним заповеди Его, и даровать нам вечное царство"[Диалог с Трифоном Иудеем, гл. 116].
Заметим: нам даруется Царство Божие, если мы исполним заповеди, а не просто уверуем во Христа как своего Спасителя, ибо вера и есть исполнение заповедей. И в таком духе говорят все древнехристианские святые, от св. Ермы до св. И. Златоуста.
[57] Если бы христиане были уже спасены в протестантском понимании, то как тогда толковать слова ап. Павла: "со страхом и трепетом совершайте своё спасение" (Фил. 2:12)? Если мы уже спасены, то как можно своё спасение совершать, то есть довершать как нечто недоконченное? Как понимать и слова ап. Петра: "как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение" (1 Пет. 2:2)? Если верующий во Христа уже спасён, то как ему можно ещё возрасти во спасение? Как в этом случае понять слова: "Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали" (Рим. 13:11). Как оно может стать ближе, если и тогда, когда мы только уверовали, и сейчас мы уже в спасении?
Если же понимать спасение как ещё неоконченный процесс, то становится всё на свои места. Наше спасение как строение: если его каждый день созидать, то конец работы будет все ближе. И совершать своё спасение христианин обязан до самого конца жизни: "претерпевший же до конца спасется" (Мф. 10:22), а также: "пожнем, если не ослабеем" (Гал. 6:9). Из этих слов ясно, что мы должны совершать своё спасение до самой смерти, до конца. И пока нам неизвестен наш конец, не стоит говорить о нашем спасении как о завершенном событии.
[58] Как вообще протестанты, со своим пониманием спасения, могут растолковать слова ап. Петра: "праведник едва спасается" (1 Пет. 4:18)? Как это праведник едва спасается, если, по их убеждению, всякий верующий во Христа как своего личного Спасителя уже спасён, и вовсе не "едва", а очень даже легко и свободно?
[59] Как растолковать и другие слова Писания, например о том, что женщина "спасется через чадородие" (1 Тим. 2:15)? Да вроде бы, по-протестантски, она спасается верой во Христа, сам же ап. Павел о том и писал так много, а здесь вот какое-то противоречие. Данное место, кстати, у многих протестантов вызывает недоумение[Конечно, при гибком уме на всё можно придумать, что сказать, лишь бы не остаться безответным. Можно сказать, что написано "спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием", и всю суть дела сместить на слова "если пребудет в вере". Но всё это не может объяснить того, почему сказано, что "спасётся через чадородие", а не просто "спасётся, если пребудет в вере"? Какое отношение имеет чадородие к спасению женщины по вере? Для православных же здесь нет вопроса, поскольку веру они понимают, как было сказано, шире, как исполнение воли Христа. А поскольку Божья воля в отношении женщины та, чтобы она рождала детей, и поскольку деторождение и забота о детях развивает в женщине любовь, жертвенность, надежду на Бога, отвлекая её от различных страстей - болтливости, праздности, блудных мыслей и пр., иначе говоря - приводит вере, к христианским добродетелями, то потому она и спасается через чадородие] и даже улыбки - такими странными кажутся им эти слова.
[60] Более того, Св. Писание неоднократно нас предостерегает и даёт примеры того, что можно сойти с пути спасения, не совершив его до конца: "Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя" (Евр. 10:38). "Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть" (Евр. 2:1). "Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть" (1 Кор. 10:12). "Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго" (Евр. 3:12). Значит поколебаться, отпасть, упасть, отступить от Бога и пути спасения, то есть сойти с корабля спасения вполне возможно.
[61] В Гал. 5:7 ап. Павел пишет: "Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?". То есть, можно хорошо начать христианскую жизнь, но потом остановиться и перестать покоряться истине. А может ли противящийся истине спастись?
[62] В других местах тот же Апостол пишет: "Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца" (Евр. 3:6); "Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца[Поэтому на каждой службе и в частных молитвах православные часто просят Бога о своей блаженной кончине: "Об оставшемся времени жизни нашей, о том, чтобы скончаться нам в мире и покаянии, у Господа просим"; "Господи Иисусе, напиши меня раба Твоего в книге жизни и даруй мне конец благой"], дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования" (Евр. 6:12); "…имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; таковы Именей и Александр, которых я предал сатане..." (1 Тим. 1:19,20); "Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век" (2 Тим. 4:10). Мы видим, что среди верующих могут быть и такие, которые хорошо начали свой путь спасения, но обленились, потеряли со временем ревность, не смогли до конца победить соблазны мира сего и потерпели кораблекрушение в вере.
[63] "Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. (…) Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так" (Евр. 6:4-6,9). "Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца" (Евр. 3:14).
Опять же мы видим, что отпасть от Бога могут даже те, которые имели ранее дар Святого Духа и были причастны Христу; что спасение можно и упустить; что можно и отделится от причастия Христу. Если всё это может произойти с христианином (а иначе не было бы столько предупреждений в Евангелии), и если действительно происходит (сами протестанты, хотя все эти места Писания относятся к Церкви, а не к ним, регулярно отлучают из своих церквей некоторых членов), то почему же протестанты постоянно поют и учат о том, чтобы все их последователи были уверенными в своём спасении? Ведь они не знают, кто действительно спасён, а кто нет, кто сохранит веру до конца, а кто отпадёт. Причём, здесь очевидное у протестантов противоречие даже внутри их учения, не говоря о том, что они все - вне Церкви и пути спасения; то есть, они не только не спасены, но и не спасаемые.
[64] Итак, Бог ещё до сотворения мира всё предопределил, в том числе спасение и погибель каждого человека. Господь точно знает, кто из Его стада и кто будет спасён, а кто нет. Но человеку обычно не даётся знать о своём спасении, разве по особому откровению, но он познаёт и прозревает то, что имя его действительно написано у Бога на небесах по мере своего освящения. Хотя и это даётся не каждому, ибо для многих не полезно иметь такое откровение, поскольку некоторые могут облениться и ослабить ревность в совершении своего спасения. Таким образом, человек, живя на земле (говорю о знающих о Христе), должен сначала стать на путь спасения, найти истинную Церковь Христову и соединиться с Ней и Её Главой через Таинства, а потом всю жизнь продолжать довершать своё спасение в страхе и трепете.
Христиане, живя на земле, не спасены ещё и по очевидной причине, так как спасение заключает в себе полное соединение со Христом, совлечение смертной плоти, оправдание человека на Страшном Суде, уничтожение диавола, смерти и всякого зла, вхождение в совершенство, то есть в состояние, в котором человек уже будет в полном покое и невозможности согрешить и отпасть от Бога. Но всего этого ещё не произошло, из чего явствует со всей очевидностью, что христианин сейчас находится в состоянии спасаемого, а не уже спасённого.
[65] Выше был затронут вопрос предопределения, которому протестанты предают большое значение, и о котором много спорят кальвинисты и армениане, потому хочу сказать об этом несколько слов.
Кальвинисты считают, что одни люди из начала предопределены Богом ко спасению или погибели. Предопределённые ко спасению спасены у Бога ещё до рождения. Они обязательно при жизни придут к вере и познанию Бога. Те же, которые отпали, упали, обленились, отошли от Бога, не сохранили упования твёрдо до конца, возлюбили нынешний век и т.п. просто не были предопределены Богом ко спасению: "Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши" (1 Ин. 2:9).
Главным же образом учение о предопределении основано на словах ап. Павла: "Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил" (Рим. 8:28-30). При этом свобода человека считается понятием условным. По сути, свободы выбора у человека нет: он выбирает только то, что Бог предопределил ему избрать; верует, потому что Бог дал ему веру; пребывает в спасении, потому что Бог даёт ему силы и волю к этому. Таким образом, с данной точки зрения протестанты чаще всего и говорят о своём спасении как о некотором завершённом деянии, по крайней мере, в глазах Бога.
[66] Как решается вопрос о предопределении и свободе выбора человека в Православии? Вопрос этот весьма сложный, и ответить на него исчерпывающе нельзя, поскольку нам не дано здесь на земле проникнуть в тайну свободной воли человека и понять, как можно согласовать её с предопределением Божиим. Можно сказать лишь о главнейших положениях, которых придерживается православное богословие по данному вопросу.
Православие признаёт, что Бог есть существо абсолютно всемогущее и свободное, Который предопределил все события в мире до малейших подробностей, как написано: "Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего" (Мф. 10:29); "А у вас и волосы на голове все сочтены" (Лк. 12:7). Если же Господь предопределил такие ничтожные события, как падение птички и количество волос на голове каждого человека, то тем более Он предопределил спасение и погибель людей, и если бы что-то могло совершиться не по Божьему предопределению, то Бог не был бы абсолютно всемогущим и свободным.
Но при этом Православие признаёт, что человек совершенно свободен в своём выборе, и каждый спасается или погибает только согласно тому, что он избрал. Как же совместить эти два положения? В том всё и дело, что совместить логически, нашим ограниченным умом, эти понятия невозможно, но мы должны верить и признать как одно положение, так и другое, ибо оба они - истинны! Мы не можем эти истины совместить только по своей ограниченности, но Бог совмещает несовместимое.
[67] Как известно, догматическое богословие состоит из катафатического (положительного) и апофатического (отрицательного). Катафатическое богословие описывает Бога и положительно утверждает, что Бог есть дух, что Он вечный, всемогущий, вездесущный, всезнающий, милосердный, милующий, благой, любящий и т.д. Апофатическое же богословие говорит о Боге только отрицательно, то есть о том, кем Бог не является; о Боге мы не можем сказать ничего утвердительного, и Бог не есть ни вечный, ни всемогущий, ни вездесущий, ни милосердный и т.д., ибо все эти слова и понятия - человеческие, взятые из нашего мира. Бог же (Сам в Себе) совершенно транцендентен, то есть бесконечно далеко отстоит от Своего творения и не может быть описан человеческими понятиями. Но и положительное и отрицательное богословие возвещают истину о Боге, хотя логически противоречат друг другу.
Таким образом, о Боге можно сказать много формально противоречивых высказываний, нисколько при этом не погрешив: Бог бессмертный, и Бог умер (см. Мф. 27:50); Бог бесстрастный, и Бог томился и страдал (см. Лк. 12:50); Бог неизменный и всеблаженный, и Бог может раскаиваться и скорбеть (см. Быт. 6:6); Бог всё совершает только по Своей воле, и на решение Бога можно влиять (см. Исх. 32:10-14), и т.д. Таким же образом можно сказать и о том, что Бог всё предопределил, но человек при этом совершенно свободен. И эти два утверждения так же трудно совместить, как и утверждения о том, что Бог никогда не испытывал никакой боли, и Бог страдал. И как мы, не понимая как совместить в Боге одни качества с другими, сверх ума и логики веруем и признаём как катафатическое, так и апофатическое богословие, таким же образом мы должны веровать в предопределение Божье и свободу выбора человека.
[68] Когда же человек не желает смириться и признать свою неспособность разрешить подобные алогизмы, то он впадает в ересь, ибо наша логика в подобных дилеммах требует одного - устранить один из противоречивых утверждений, то есть - устранить одну из истин. Кальвин и кальвинисты решили, что в этом вопросе нужно отдать предпочтение, конечно, Богу и Его предопределению. В результате они, по сути, отвергли истину о свободе человека. Таким образом получается, что Бог отправляет на вечную гибель ни в чём не повинных людей, ибо если они и грешили, то делали это не свободно, а по Божьему определению, как мяч летит не по своей воле, а по воле бросившего его. Противники их, армениане, не могут отрицать очевидного - свободы человека, и отрицают, так или иначе, Божье предопределение. Таким образом, и кальвинисты и армениане не правы, ибо выделяют одну истину путём подавления и отрицания другой истины.
[69] Если таким же образом решались все прочие богословские дилеммы, то как бы решился вопрос: может ли Бог страдать? Одни бы говорили о том, что Бог не может страдать и претерпевать какие бы то ни было мучения, ибо Он всеблажен. Значит, нужно признать, что раз Христос страдал, то Он не был Богом, и так действительно мыслили древние еретики - докетисты и прочие. Если же признать, что Бог страдал, то можно впасть в другую крайность и начать отрицать то, что Бог неизменен (ведь Он воплотился, а значит, претерпел изменение), бесстрастен (ибо Он пострадал), и прочие Божественные атрибуты. Истина же заключается именно в сверхразумном (сверх логическом) признании и одного и другого положения, то есть и того, что Бог неизменен и бесстрастен, и того, что во Христе Он принял на Себя плоть и пострадал. Хотя логически это противоречие, но именно так мы должны мыслить и так мыслят христиане и почти все христианские секты. Вот так же нужно сверх разума признавать как Божье предопределение, так и человеческую свободу.
Вопрос о логической совместимости предопределения и свободы воли Православие мало волнует, ибо Церковь знает, что наш ум весьма ограничен в познании Бога, но не способность разрешить логически Божьи тайны не может быть причиной отрицания истины - это должно быть одним из основополагающих положений при богословствовании. Церковь призывает верить и признавать как одну, так и другую истину, не мудрствуя сверх ума. Мы знаем, что мы имеем свободную волю и что мы должны всю её приложить ко своему спасению - вот и давайте прикладывать. Мы знаем, что Евангелие преисполнено призывами к нашей воле - верить, любить, молится, освящаться, исполняться Духом, творить добро и пр. Этих призывов не было бы, если бы у нас не было свободной воли, если бы от нас ничего не зависело, если бы мы спасались пассивно, одной только силой, предопределением и благодатью Божьей - вот и давайте ревностно откликаться на эти призывы. Хочешь узнать предопределён ли ты ко спасению? С усердием исполняйся Духом Святым и этот Дух всё больше будет утешать тебя и свидетельствовать тебе, что ты из овец Христа. (Только исполняться нужно Духом Святым, который сошёл на Церковь и пребывает на Ней, а не духом заблуждения в дьявольских церквах-подделках).
[70] И краткое слово к кальвинистам: да, Бог всё предопределил. Хотите знать, предопределены ли вы ко спасению? Познать это можно (хотя бы отчасти) так: если вы предопределены ко спасению, то вы обязательно примите Православие. Вы знаете, что Господь даёт и истинную веру, и покаяние и всё нужное ко спасению. Потому, если в вас при знакомстве с Православием и чтении отцов Церкви, или даже при чтении моей (хотя во много не совершенной, но свидетельствующей об Истине) книги зародится вера "во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь", то из сего познаете, что очень вероятно, что вы предопределены ко спасению. Если же, читая православные книги и слыша учение Церкви ваш дух противится всему этому, то знайте, что ко спасению вы наверняка не предопределены, ибо написано: "Мы (Церковь, прежде всего Её пастыри) от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения" (1 Ин. 4:6); и: "Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих…" (Ин. 10:26). Если вы не верите учению Православной Церкви, если Православие вам противно, то значит, вы просто не из овец Христа.
[71] Теперь важно сказать о сути покаяния, которое есть одно из важнейших условий спасения, что признают как православные, так и протестанты.
Господь требует от людей покаяния в грехах - "покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мк. 1:15); "Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться" (Деян. 17:30); "покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов" (Деян. 2:38). Хорошо известно, что у протестантов есть такая категория как "покаявшиеся". "Нет, он ещё не принял крещение, но покаялся", часто можно услышать в разговоре протестантов. Таковых покаявшихся они считают уже спасёнными и находящимися в числе невидимой Церкви Христовой. С другой стороны, протестанты постоянно упрекают православных за то, что они постоянно и на каждой службе молятся: "Господи, помилуй", не редко произнося эту просьбу 40 раз подряд, выказывая тем самым маловерие в милосердие Бога, Который, как любящий Отец, может и готов простить человеку все грехи сразу, без длительных молений и просьб.
[72] На самом же деле, причина подобного недоумения происходит от ущербного понимания протестантами сути греха и покаяния. Протестанты (как, впрочем, и католики) подходят ко греху с точки зрения юридической (по крайней мере, в отношении спасения). Грех для протестанта это вина, долг. Эту вину взял на Себя Христос и искупил (выкупил) нас из власти греха, то есть, заплатил наш долг. И теперь, если человек уверовал во Христа и попросил прощения за свои грехи, Бог, по милосердию и великодушию, сразу прощает все наши грехи. И в данном контексте многократные ежедневные[Молитва "Господи, помилуй" многократно повторяется при совершении всех православных служб и треб, в том числе частных, утренних и вечерних, молитв. Можно упомянуть хотя бы о том, что эта молитва, повторяемая 3 раза (а иногда ещё и 12 раз), является частью так называемых предначинательных молитв, с которых православные начинают всякую службу] молитвы православных "Господи, помилуй" действительно кажутся маловерием и даже оскорблением Божьего милосердия.
Но всё дело как раз в том, что православные относятся ко греху шире, и знают не только о юридической его составляющей. Ведь грех это не только вина, но и болезнь - вот что подчёркивает Православие! Православные не сомневаются в милосердии Божием - они свято верят, например, в то, что крещение омывает всякий грех, так что выходя из "бани омовения" человек выходит чистым, как белый лист, и все его прежние грехи есть как не бывшие. Кроме того, Православие учит, что и в Таинстве Исповеди человеку прощаются грехи, и никогда не нужно повторять на исповеди те грехи, которые уже были прощены, и именно потому, чтобы не оскорблять милосердие Божие и не быть маловерным. Итак, Православие не умаляет милосердия Божия.
[73] Но, грех, как было сказано, это не только вина, но и болезнь. То есть, самое страшное следствие грехопадения человека заключается в том, что наша природа сильно повредилась - ей стали присущи страсти, то есть склонность к различным грехам. Страсти есть как бы корень грехов, который постоянно их порождает. Потому, совершенно очевидно, что важнее всего, и для Бога и для человека, не столько прощение грехов, то есть избавление от вины (хотя и это совершенно необходимо), сколько исцеление души от страстей, избавление от самого корня греха!
[74] Положение падшего, но желающего себе спасения человека можно сравнить с работником лаборатории, который по беспечности выпустил опасный вирус, в результате чего он заразил себя и многих других. Для своего спасения этому человеку нужно не только прощение, но и исцеление от болезни. Вот так падшему человеку нужно не только Божье прощение, но и исцеление от заразы, корня греха. И вот на это и направлено всё Православие, на борьбу со страстями, на освящение, на полное исцеление человека от всякого греха. И только в этом ключе можно и нужно понимать православные молитвы "Господи, помилуй" и "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного". Главное, о чём просят православные в этих молитвах, есть не просьба о прощении[Хотя просьба "Господи, помилуй" заключает в себе смысл "Господи, прости", ибо православные знают, что человек много и ежеминутно согрешает пред Богом, а потому и постоянно нуждается в Его прощении. Но этот смысл второстепенный], а просьба об исцелении души. Кроме того, в этой молитве православные просят Господа вообще о всякой милости - об избавлении от искушений и падений, об избавлении видимых и невидимых врагов, от всяких бед, болезней, несчастья и всякого зла, об умножении благодати, и пр. Потому совершенно напрасно соблазняются протестанты этими молитвами, особенно частым их повторением[О том, что одну молитву можно многократно повторять, будет сказано в 9 гл.].
[75] В сознании протестанта слово "помилуй" практически синоним "прости" - потому и происходит его недоумение от того, что православные постоянно просят о прощении грехов. На самом же деле, "помилуй" в языке Евангелия прежде всего значит "исцели". Замечательно, что во всех местах, где ко Христу обращаются с просьбой "помилуй", Его просят именно об исцелении (Мф. 9:27, 10:47-48, 15:22, 17:15, 20:30-31; Лк. 17:13, 18:38-39). Само греческое слово ![]() (элеос) значит "милость" и "масло, елей". Славянское слово "елей" и происходит от этого греческого слова и созвучно с ним. Елей же в древнем мире постоянно использовали при лечении. Так, милосердный самарянин, оказывая помощь избитому разбойниками, возливает на его раны масло (Лк. 10:34). Таким образом, "Господи, помилуй" означает прежде всего "Господи, исцели". "Исцели меня от корня греха, с которым моя природа срослась, от восстающих и воюющих против моей души страстей, находящихся в моей плоти, от желания и склонности ко греху, от окамененного нечувствия своих грехов, от холодности моей души к Твоему Слову и любви, от забвения моей души своей Божественной природы и т.п." - вот о чём, по сути, просят православные в данной молитве.
(элеос) значит "милость" и "масло, елей". Славянское слово "елей" и происходит от этого греческого слова и созвучно с ним. Елей же в древнем мире постоянно использовали при лечении. Так, милосердный самарянин, оказывая помощь избитому разбойниками, возливает на его раны масло (Лк. 10:34). Таким образом, "Господи, помилуй" означает прежде всего "Господи, исцели". "Исцели меня от корня греха, с которым моя природа срослась, от восстающих и воюющих против моей души страстей, находящихся в моей плоти, от желания и склонности ко греху, от окамененного нечувствия своих грехов, от холодности моей души к Твоему Слову и любви, от забвения моей души своей Божественной природы и т.п." - вот о чём, по сути, просят православные в данной молитве.
[76] Важно заметить, что в этом пункте сознание протестантов сильно отличается от православного, и оно рождает у них много недоумений, когда они пытаются понять православную духовную жизнь. Протестанты, считают (это их обычное самоощущение), что поскольку они уверовали во Христа и покаялись, и Дух Святой вошёл в их сердце, то в их душе уже не может жить грех и они уже не грешат, а если грешат, то только мелкими, незначительными грехами, случайно. Так мыслят они не столько по гордости, сколько потому, что само их богословие заставляет их так думать. Показательными являются здесь уже приводимые слова одного их песнопения "от греха я спасён". Вот именно спасёнными и уже избавленными от грехов и ощущают себя протестанты. К тому же, не видеть своих грехов и своего истинного положения всеми силами помогает протестантам дьявол, для их обольщения. В результате, они действительно часто ощущают себя святыми; они анализируют себя и видят, что в них нет каких-либо значительных грехов, что они любят Христа и с радостью исполняют Его заповеди. Оттого, кстати, что вопрос личного спасения для протестантов уже решён - они уже спасены и заниматься своим спасением и борьбой со страстями им уже не нужно - протестанты так ориентированы на миссионерство, то есть, на спасение других; оттого они совершенно не понимают православной духовной жизни - монашества, подвижничества, аскетизма. Потому для них сами эти слова чужды и вызывают только отторжение...
[77] Итак, грех это не только вина - это болезнь человека, живущая в его плоти, от которой он, обычно, не исцеляется ни при первом покаянии, ни даже в крещении. Да, бывают случаи, что некий человек так сильно уверует во Христа, так прилепится к Нему душой, так осознает свои грехи и отвратится от них, что душа его исцеляется от всякого греха. Таким, например, был Апостол Павел - приняв крещение, он уже не грешил, и всей душой был в Боге. Такими были первенствующие христиане, когда они ещё не оставили первой любви (ср. Откр. 2:4) и жили в одном духе, имея всё общее. Такими, также, были некоторые мученики, которые видя стойкость христиан в перенесении мучений сами становились в их ряды и принимали смерть за Христа. Таким образом, они за короткое время необычайно освящались, ибо такой мощный и решительный порыв любви ко Христу и презрения всего, в том числе самой своей жизни, сразу уничтожал и побеждал в человеке все грехи. Но разве многие на такое способны, разве "спасённые от греха" протестанты так любят Христа?
Причём, нужно заметить, что полное исцеление (спасение) от греха даже самых великих святых произойдёт только при совлечении этой плоти греха и облечении в новое тело. Пока же человек в этом теле, он должен постоянно бороться с плотскими страстями и побеждать их, подавлять. Для того вся православная аскетика, посты, поклоны, молитвы, стояния на службах и прочее делание, что не понимают и постоянно критикуют протестанты, не разумея сущности греха и того, насколько глубоко он вошёл в человека. Потому протестанты очень склонны не осознавать свои грехи и считать себя святыми. Но одно дело быть "призванным святым", как называет Апостол всех христиан, и которыми действительно являются все крещённые в Православной Церкви, которых Господь призвал к святости, но совсем другое дело стать действительно святым, победить свои страсти и уподобиться Христу. Вот за эту действительную святость и борется Православие. Потому оно и различает "призванных святых" и святых, которые освятились и уподобились, по крайней мере, очень существенно, Христу.
[78] Не понимая силы греха и степени, в которой человек заражён им, протестанты, естественно, не понимают, или сильно недопонимают, и суть покаяния. Они не осознают того, как нагло и глупо звучат их заявления "я покаялся". Протестанты хорошо знают, что покаяние в переводе с еврейского значит "обращение", поворот на 180 градусов, поворот от греха к Богу. Но чего они не осознают, так это то, что покаяние есть не только обращение (разворот), но и возвращение. Блудный сын тогда покаялся, когда не только повернулся в сторону отца, но и возвратился к нему.
Одним словом, покаяние есть возвращение от греха и полное его оставление, с принесением плодов покаяния, то есть дел, противоположных греху, как говорил святой предтеча Господень: "Сотворите достойный плод покаяния..." (Лк. 3:8), или св. Иоанн Лествичник: "Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам"[Лествица, 5/1]. Господь тогда похвалил покаяние Закхея, когда он твёрдо решил не только оставить свой грех лихоимства, но раздать половину своего имения нищим и воздать всем обиженным им вчетверо. Таким образом "покаяться" в полном смысле этого слова значит совершенно оставить и изгнать (в синергизме с Божьей благодатью) из души всякий грех и наполнить душу противоположным - христианскими добродетелями. Но разве протестанты сделали это?
[79] Приведу только несколько хорошо мне известных случаев из жизни протестантов. Когда я был ещё в составе артёмовской баптистской молодёжи[Молодёжь у протестантов это, обычно, особая группа, которая, кроме общих собраний, собирается отдельно и держится вместе], мы поехали в другую общину в соседний город, и по окончании собрания общались с их молодёжью. Среди них был один парень, которого, как я потом понял, мучили бесы. Они ему являлись видимым образом, а он пытался от них руками отмахиваться. Но поскольку видел их только он, остальным казалось, что он безумец, бьющий руками воздух. И лидер молодёжи соседней общины натурально насмехался с этого парня, а остальные смеялись вместе с ним. Этот случай лишь открывает истину, что в душах этих людей есть много грехов - не милосердие, презрение к несчастному, превозношение и пр., и пр. Но при этом все считают себя покаявшимися. Как же они покаялись, если в душе их столько грехов? И важен не сам случай, а то, что он является только плодом, выражением и свидетельством внутренних страстей и неверия во Христа, отсутствия покаяния, то есть обращения от греха. Так как же тогда протестанты заявляют, что они покаялись?
[80] Другой случай. Когда я учился в ДХУ, то нам, студентам, были положены отработки. И вот на одном из таковых мероприятий некий студент вышел на работу в шлёпках, а потом говорит: "ой, я в шлёпках, пойду переобуюсь", и пришёл только через минут 40. Конечно, всё это он спланировал заранее, чтобы меньше работать. Но о чём говорит этот поступок? О том, что в его душе есть лень, лукавство, презрение к своим братьям, отсутствие веры и страха Божия, и пр. Так как же он покаялся, как он спасён от греха, как он обратился от него, если в его душе на самом деле продолжают жить многие грехи?
[81] Ещё один пример. В Донецкой области долгое время был старшим пресвитером баптистов С.Ф. Карпенко. Когда его не избрали на очередной срок, то оказалось, что он не может уже быть без власти. Потому он сотворил раскол и оторвал несколько общин, над которыми он остался старшим пресвитером. Это говорит о том, что в душе этого человека есть гордость и властолюбие. Но при этом и он сам и другие, даже его оппоненты, не считают, что он погибший - хоть он и плохо поступил, но он спасён, ведь он же верит во Христа, он же покаялся, скажет большинство протестантов. Но где же он покаялся, как же он обратился от греха, если грех явно живёт и действует в нём? И кто может точно знать, насколько сильна в нём эта страсть, и какую часть души она занимает?
[82] А сколько случаев было среди протестантов, когда они, разделяя гуманитарную помощь, сильно ссорились между собою, так что некоторые ради сохранения мира даже отказывались от дальнейшей помощи? А ведь это лишь показывает, каковы эти "покаявшиеся" на самом деле, и сколько грехов - эгоизм, вещизм, сребролюбие, зависть, сварливость, отсутствие кротости и пр. - живут в их душах и после их "покаяния". Но все эти люди, находясь в таких грехах, приходят на собрания и с чистой совестью поют: "готово место для меня в стране небес святой" и: "Пусть земля вся утверждает, что Тобой я не спасён, дух мой песню воспевает: "принят раб твой на Сион"". Всё это показывает, в какой жуткой прелести находятся протестанты!
[83] Другой случай. Когда в 90-х годах Москве проводилась грандиозная "евангелизация" с участием Билли Грэма, то баптисты со всех городов съезжались туда. Поехали и наши братья и сёстры, и, приехав, первым делом они пошли в кино, на эротический фильм. Это говорит о том, что в то время, как они считали себя покаявшимися, отвернувшимися от греха, в их душах на самом деле жила плотская похоть, которая проявилась при первой возможности, как только они избавились от опеки своего пастора и растворившись в большом городе.
[84] Понятно, что это лишь ничтожная часть примеров, которые можно привести. Причём, это лишь внешние, видимые грехи. А сколько протестанты грешат тайно? Сколько есть у них в душе страстей, которые они всеми силами стараются не показать на людях? А сколько есть в них таких грехов, как гордость, сребролюбие, эгоизм, чревоугодие и пр., которые нельзя выявить так сказать математически и доказать их со всей очевидностью, которые увидеть и признать очень трудно бывает и самой душе, не только окружающим. А ведь такие грехи - самые страшные и опасные! Потому благодать видения своих грехов нужно ещё испросить у Бога, и даётся она лишь тем, кто действительно этого желает, просит и смиряется пред Богом.
Протестантизм же ориентирован на внешнюю святость, на фарисейство - это одна из главных его черт. Потому курение, например, который невозможно даже сопоставить с такими внутренними грехами, как гордыня, эгоизм или сребролюбие, считается у баптистов чуть ли не самым страшным преступлением, и только потому, что он явно видим и легко доказуем. Протестантам же крайне нужно соблазнять людей своей кажущейся внешней святостью. Но если кто-либо заражён страстью чревоугодия, то он никогда практически не подвергнется осуждению, ведь кто может точно определить, когда утоление голода превращается в чревоугодие? Например, на одном застолье один такой любитель покушать наелся до отказа и спрашивает своего друга: "Сергеевич, я ещё сижу?". "Сидишь", был ответ. "Ну тогда толки меня (на диван)". Этот случай часто у нас потом рассказывали, что вызывало только смех - никому и в голову не приходила мысль, что ведь это явное чревоугодие. А если у человека бог - чрево (ср. Фил. 3:19), то как же он покаялся? Как он отвернулся от греха, если страсть живёт в нём?
[85] Но сейчас я хочу обратить внимание не на сами грехи протестантов (грехов и у православных хватает[Впрочем, хочу заметить, что святость и чистота души истинных православных, которых я встречал, многократно превосходит "святость" лучших протестантов]), а на их отношение ко греху. Грешат и православные и протестанты, но как они относятся ко греху, и как относиться к нему заповедует сама их вера? Православные постоянно молят о милости Божией и исцелении своей души от греха, признавая себя грешниками (не бывшими грешниками, что признают и протестанты, а настоящими, в которых и сейчас живёт в душе много страстей и грехов). Протестанты же не осознают себя грешниками, не плачут и не сокрушаются о своих грехах и своей нераскаянности (то есть как раз о том, что они на самом деле не покаялись, не отвернулись, не исцелились от многих грехов) и видят в себе, как правило, лишь незначительные грехи, видят себя святыми, "спасёнными от греха", и лишь благодарят Бога за своё избавление от греха, в то время как находятся во многих неисцельных страстях.
[86] Итак, покаяться, в полном смысле этого слова, значит оставить и изгнать из души всякий грех и исполнить всю душу без остатка Духом Святым; это значит уподобиться Христу. Но разве протестанты сделали это? Как же тогда они могут говорить, что они покаялись? Потому, покаяние, как выявление и изгнание всякого греха и несовершенства из души и стяжание христианских добродетелей должно быть постоянным содержанием жизни христианина - он должен постоянно пребывать в покаянии, совершать его, углублять. И для этого, обычно, нужно большое стремление к святости, долгий труд, многие молитвы и борьба, плач о себе. Потому Христос и говорил: "Блаженны плачущие" (Мф. 5:4), плачущие постоянно, плачущие о своих грехах.
Да, в каких-то внешних грехах можно покаяться раз и навсегда, например, бросить курить или воровать[Да и то, человек может не знать себя и не понимать, что в определённых условиях он вполне будет способен украсть, если от этого будет зависеть его благосостояние или жизнь]. Но это лишь малая часть грехов. Покаяться же в гордыне, эгоизме, тщеславии, самолюбии, равнодушии к ближним, духовной лености, сребролюбии, вещизме и пр. намного труднее, и, как правило, человек не может покаяться в этом сразу, он не может отвернуться от этих грехов совсем и полностью изгнать их из своей души.
Другими словами, человек часто способен покаяться, то есть возвратиться от греха к Богу, только немного, лишь частично отвернувшись от некоторых грехов. А кроме того, очень часто человек только думает, что он обратился от греха и возненавидел его. Можно взять хотя бы главный грех - не любовь к Богу и ближнему. Кто покаялся в этом грехе полностью? Кто любит ближних своих так, как любил Христос, отдавший за нас Свою жизнь, или как ап. Павел, который за своих братьев иудеев готов был быть отлученным от Христа (Рим. 9:3)? И настолько мы далеки от этой любви, насколько мало мы покаялись в самолюбии и равнодушии к нашим ближним.
Протестанты же этого не понимают. Потому православная аскетика и говорит, что "сподобившийся видеть свои грехи блаженнее сподобившегося видеть Ангелов". Потому и молитва Иисусова имеет такое большое значение в Православии, ведь в ней исполнение практически всех блаженств и заповедей. Если христианин постоянно молится этой молитвой от сердца, то он, безусловно, нищ духом, так как постоянно просит о милости (исцелении) и нуждается в Боге. Он, естественно, и плачущий, так как постоянно сокрушается и осознает свою греховность и недостоинство. Он также алчет и жаждет правды (праведности), так как не хочет оставаться грешником и просит Бога об освящении. Молящийся Иисусовой молитвой будет также и милостив, так как сам постоянно просит о милости. Он будет также исполнять и самую главную заповедь о любви к Богу, так как постоянно призывает и имеет в уме сладчайшее имя Иисусово, непрестанно помышляет о Боге.
[87] Итак, для спасения необходимо:
1) веровать во Христа - не просто как в своего личного Спасителя, но веровать истинно, то есть, во-первых, в истинные догматы, в том числе "во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь", и, во-вторых, веровать в Евангелие, то есть усвоить его всей душой и жить по нему. Протестанты же веруют в весьма искажённую духовную реальность, и учат, что спасительная вера это не усвоение и воплощение в жизнь Евангельских заповедей, а только признание Христа своим Спасителем.
2) Спасение по благодати, потому, чтобы спастись, совершенно необходимо принять благодать Христову, подаваемую в Таинствах Церкви - прощение грехов и возрождение, дар Духа Святого, Тело и Кровь Христа. Протестанты же ревностно хранят себя вне этой благодати и не желают её принимать.
3) Для спасения нужно, после принятия благодати, пребывать и возрастать в ней, исполняя заповеди Христа, прикладывая к этому все свои усилия и волю. Протестанты же отрицают необходимость человеческих дел и усилий в совершении спасения, по безумию считая это попыткой заслужить своё спасение и отвержением благодати.
4) Для спасения необходимо покаяние в грехах, то есть отвращение и изгнание из души всякого греха и страсти, и возвратиться к противоположному - к христианским добродетелям, наполнив душу любовью, милосердием, прощением, кротостью, смирением и пр. Протестанты же, произнеся лишь одну молитву покаяния и отнюдь не оставив и не искоренив в душе многих грехов, считают себя покаявшимися и спасёнными от греха.
Таким образом, протестанты весьма далеки от спасения и находятся в глубочайшей прелести (обольщении) насчет своего спасения и духовного положения перед Богом.
В жизни Церкви монастыри занимают весьма почётное место: они - сила, слава и святыня Церкви. Православие воспринимает монашество как путь всецелого, нераздельного посвящения себя Господу, и всегда приветствует и похваляет тех, кто решается встать на этот путь. Не так оценивают монашество протестанты: они не имеют монастырей и осуждают их, - и вот на каких основаниях.
I. Христос послал Своих учеников в мир проповедовать Евангелие: "Итак идите, научите все народы…" (Мф. 28:19-20). Он просил Своего Отца: "Отче Святый! …не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла" (Ин. 17:11-15). Монахи же - считают протестанты - не желают исполнять повеления Христа быть в мире и проповедовать Евангелие, и бегут от мира, как бежал в своё время от Божьего повеления проповедовать погибающим неневитянам пророк Иона. П. Рогозин, например, по этому поводу пишет: ""уходящие от мира" аскеты уходят от воли Христа. Посылая учеников "в мир" Христос не сказал: "спасайтесь в дебрях лесных, в местах пустынных… и во что бы то ни стало - избегайте людей". Напротив, Иисус Христос повелел ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. (…) В этом смысле монахи, аскеты и отшельники - ленивые рабы, бегущие с нивы Христовой, воины, ушедшие с поля брани"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Монашество"].
II. Человек создан для брачной жизни и для продолжения рода. Сотворив Адама, Господь сказал: "не хорошо быть человеку одному", и создал для него женщину, при этом дав им первую заповедь: "плодитесь и размножайтесь" (Быт. 2:18,28). Итак, воля Божия заключается в том, чтобы человек вступал в брак: "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть". К тому же, ап. Павел предупреждал, что в последнее время появятся отступники от веры, которые будут запрещать "вступать в брак" (1 Тим. 4:3). И многие протестанты относят эти слова к монашеству. Баптист П. Рогозин, например, говорит: "Поразительно, что Священное Писание содержит в себе ясное пророчество о ереси безбрачия. Пророчество предупреждает, что безбрачие будет иметь место в истории церкви. Безбрачие рассматривается Св. Писанием как один из ярких признаков отступничества от веры: "Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, чрез лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак…" (1 Тим. 4,1-3). Ни одно заблуждение не ходит в одиночку, - говорит народная мудрость. Вопрос безбрачия коснулся не только служителей церкви. Он захватил и, так называемых, "мирян". Церковь начала призывать к безбрачию, как к особому подвигу, убеждая мужчин и женщин принять на себя официальный обет никогда не жениться. Безбрачие рассматривалось и рассматривается как знак особой святости и чистоты пред Богом. Безбрачие некоторых мирян повлекло за собою массовое подражание, которое нашло выход в существующем ныне монашестве"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Безбрачие священников"].
Таким образом, добровольное безбрачие во имя Христа многие протестанты считают ересью, а монахов отождествляют с предсказанными ап. Павлом отступниками от веры, которые, отказываясь от брака, отвергают Божье предназначение, данное человеку при творении.
III. Спасение мы получаем даром благодаря подвигу Христа: "благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Еф. 2:8,9). Монахи же стараются своими делами и аскетическими подвигами спастись и заслужить себе Царствие Божие. Наш "многоуважаемый" П. Рогозин именно так и оценивает монашество[Кстати, в качестве эпиграфа к своей главе о монашестве он поставил стих из Захарии 13:4: "...и не будут надевать на себя власяницы, чтоб обманывать", чем недвусмысленно назвал монахов обманщиками]. Он заявляет, что "монашество не только не имеет для себя никакого основания в Св. Писании, но и противоречит основным принципам подлинного христианства"; "монашество, прежде всего, искажает Божий путь спасения"; "монашество умаляет искупительную жертву Христа"; "монашество утверждает, что путь в Царствие Божие не только через веру во Христа, но и через медленное самоуничтожение, через смерть от истощения, от изнурения, от самоистязания"; "получается, что жертва Христа на Голгофе была принесена напрасно. Если спасение через подвижничество, то можно обойтись и без Голгофы"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Монашество"].
Вот вкратце суть протестантского взгляда на монашество. Что же на это могут ответить православные? Лично я, ознакомившись в своё время с православными доводами в пользу монашества, понял, что они весьма обоснованны, и прежде всего именно Библией, которую протестанты всё время пытаются поссорить с православным богословием.
Итак, давайте разберём вышеприведенные весьма серьёзные протестантские обвинения против монашества, и на основании Библии, веры древней Церкви и здравого смысла решим, справедливы ли они?
I. Действительно ли монашество есть бегство от заповеди Христовой проповедовать миру?
Во-первых, это фактически неправда. Монастыри ведь находятся не на небесах, а на земле, в мире. И православные не создали один монастырь с постоянно запертыми воротами где-то в глуши, куда невозможно попасть людям, но во многих местах, в том числе в больших городах, Церковь основывает монастыри. И они, таким образом, находятся в мире, являясь оазисами Божьей благодати среди греховной пустыни лежащего во зле мира, как писал св. Иоанн Златоуст: "Монастыри - тихая пристань; они подобны светочам, которые светят людям, приходящим издалека, привлекая всех к своей тишине"["Настольная книга священнослужителя", изд. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2003 г., том. VI, с. 534]. Монастыри, за редчайшим исключением[Таким исключением является святая гора Афон, где подвизаются монахи-мужчины. Да и то, туда закрыт доступ не всем, а только женщинам], открыты для посещения людей. Монахи отнюдь не уклоняются от служения людям, живущим в мире; напротив, они постоянно им служат. Можно зайти в интернет на сайт Википедии и почитать о различных монастырях. Там мы найдём много информации, наподобие следующей: "Монастырь ежедневно открыт для посещения с 10.00 до 18.00" (о Кирилло-Афанасьевском монастыре, г. Ярославль); "В обители действует православная гимназия и при ней пансион для учеников 10-го и 11-го классов" (о Троице-Сергиевом Варницком монастыре); "При монастыре был приют, странноприимный дом, богадельня и школа" (об уничтоженном дореволюционном Николо-Тихвинском монастыре), и т.д.
Во-вторых, есть много протестантов, которые живут очень тихо и имеют весьма ограниченный круг общения, но мы никогда их не упрекаем, что они не проповедуют и ушли от мира. А если монахи имеют общение с ограниченным кругом людей, то для нас это уже грех.
Самые известные православные монастыри, такие как Троице-Сергиева, Александро-Невская, Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры[Лавра - большой и особо значимый для жизни Церкви мужской монастырь] и другие являются не какими-то отшибами или удалёнными и спрятанными от мира местами, а центрами Православия, куда постоянно стекается множество народа. С. Санников, например, называет монастыри "центрами паломничества и духовного общения"["Двадцать веков Христианства", Одесса Санкт-Петербург, 2001 г., том 2, с. 455] в Православии. И в первых трёх вышеназванных Лаврах находятся ведущие в Русской Православной Церкви академии и семинарии. Многие монастыри занимаются издательством, и почти все - распространением духовной литературы. В нашу Святогорскую Лавру[Украина, Донецкая область], например, ежедневно приезжает много верующих, полуверующих, инаковерующих и вообще неверующих людей. Одни для того, чтобы побыть на монастырском Богослужении и поговеть[Говение - церковное понятие, которое включает в себя подготовку к причастию (пост, молитву и пр.), исповедь и само причастие]; другие чтобы просто посмотреть на монашескую жизнь и устройство монастыря или поговорить и посоветоваться с духовными людьми. И такое посещение монастыря, общение с монахами и видение их святой жизни; само нахождение среди многих святынь и многих благочестивых людей; монастырские службы и проповеди священников приносят для многих верующих большую духовную помощь и ободрение. Многие верующие, а также и маловерующие, свидетельствуют о том, что после посещения монастыря их вера укрепилась, духовная жизнь освежилась. Этих свидетельств настолько много, что лишне об этом и говорить.
Прибывающих в Святогорскую Лавру паломников дважды в день кормят и предоставляют ночлег тем, кому он необходим. Монастыри также не редко служат убежищем для освободившихся из тюремного заключения, которые хотят оставить свою преступную жизнь, но которым некуда идти и невозможно найти работу. Там они трудятся во славу Божию и имеют кров, пропитание, а главное - духовную поддержку. К православным монастырям и храмам приходят также нищие просить милостыню, зная, что там найдутся добрые люди и подадут на хлеб. Кстати, голый факт: нищие сидели у ворот Иерусалимского Храма (см. Деян. 3:2), они постоянно находятся у врат православных Храмов и монастырей, но у баптистских домов молитвы их нет. Почему же они к нам не идут? По одной понятной причине: у нас им ничего (или почти ничего) не дадут, а будут только либо проповедовать и тянуть на свои собрания[Да, протестанты творят милостыню - раздают гуманитарную помощь и продукты питания с Запада, но все такие акции связанны только с попыткой привлечь и обратить людей в свою веру. Когда немцы привозили баптистам одежду "second hand" для раздачи людям в одном посёлке, то мы её раздавали не иначе как тем, кто пришёл и побыл на нашем собрании], либо, через игнорирование, пассивно прогонять. Поэтому даже с этой позиции монастыри служат миру.
По праздникам на службу в Святогорскую Лавру приезжают иногда более десяти тысяч паломников, и на всех службах - которые и сами по себе весьма назидательны и благодатны, особенно монашеское пение - епископ или иеромонахи["Иерей" по греч. священник (см. Евр. 7:11,15,21). В Русской Православной Церкви священника часто называют также иереем. "Иеромонах" значит монах-священник] проповедуют народу слово Божие. О том, чтобы привлечь на свои Богослужения (хотя бы только евангелизационные, главная цель которых и есть созвать побольше людей) такое количество людей баптисты могут лишь мечтать. Пожалуй, только в 90-х годах на евангелизационных собраниях в Москве с участием Билли Грэма протестантам удавалось на краткое время привлечь массы людей, которые исчислялись многими тысячами, но и то, благодаря миллионам американских долларов, усиленному труду тысяч американских и постсоветских протестантов и тому, что в начале девяностых годов люди испытывали огромный духовный голод и интересовались духовностью всякого рода. В монастырях же небольшая община монахов постоянно собирает на свои службы немало людей без всяких особых усилий.
Эти несколько фактов и беглых зарисовок из монастырской жизни я привёл вовсе не для того, чтобы посостязаться с протестантами в том, кто лучше умеет привлечь людей на свои Богослужения, ведь истина не определяется массовостью. Но зная о том, сколько народу постоянно бывают в монастырях, ставить в упрек монахам то, что они убегают от повеления Христа проповедовать миру - просто нелепо: это - ложь! А если протестанты скажут, что мы посланы идти в мир к людям, а не люди должны к нам приходить, то это очень не умно. Церковь уже пришла в мир, к людям, в частности к нам на Русь, и по всем городам и сёлам, где только возможно, основала Церкви, а также монастыри, где живут посвящённые Богу люди, и где отношения строят [Разбор этого вопроса см. в главе ся по Божьим законам. И люди теперь могут приходить в Храмы и монастыри на Богослужение. Протестанты ведь не приходят к каждому в дом дляцентрами Православияцентрами Православия проповеди и проведения служения, а проповедуют и служат в доме молитвы, куда приглашают людей. И если протестанты и проповедуют кому либо в доме или на улице, то всегда главной целью имеют пригласить человека к себе, на своё собрание, понимая, что на их территории, в их обстановке человек намного быстрее примет их учение и уподобится им, чем если с ним беседовать на стороне. И отнювсюдь не всегда проповеднику нужно самому идти к людям. Часто можно их приглашать к себе, подобно как Нафанаил не Христа привёл к Филиппу, а Филиппа ко Христу (Ин. 1:44-49). И не только Христос ищет заблудшую овцу (см. Мф. 18:11-13), но и грешники ищут и приходят к Нему (Лк. 4:42; 19:3).
Нужно здесь в очередной раз отметить, что протестантские нападки на Православие очень часто характеризуются противоречивостью и примитивностью (а также однобокостью[Особенно при цитировании Писания, когда на одних местах Библии ставится огромный акцент, а другие вовсе не замечаются, что приводит к сильному искажению библейского учения]) мышления: пусть протестанты этим не оскорбляются, а сами проанализируют в каждой главе данной книги, правда ли это? Вот и в данном вопросе эта протестантская черта вполне очевидна: разве разумно обвинять монашество в удалении от проповеди и служения миру, если именно монастыри являются центрами Православия, самыми людными и посещаемыми местами в Церкви, куда благочестивые верующие часто приезжают на паломничество именно с целью укрепить свою духовную жизнь?
Вот посудите, разумны и непротиворечивы ли взгляды того же П. Рогозина, которые разделяют многие протестанты? Мы прочли, как ярко он обвинил монахов в уходе от мира, назвав их ленивыми рабами, бегущие с нивы Христовой, и воинами, ушедшими с поля брани. Но при этом он же сам в той же главе рассказывает о монахе Антонии (251-356 г.) следующее: "Потеряв своих родителей на девятнадцатом году жизни, Антоний роздал оставленное отцом имущество нищим и удалился в пустыню… Подыскав для себя пещеру, Антоний уединился и прожил в ней 10 лет. После, когда место его уединения было обнаружено, Антоний оставил пещеру и поселился в развалинах старого жилья у Красного моря. Там он провел еще двадцать лет. (…) Люди шли к Антонию, если не увидеть его, то по крайней мере, услыхать отдаленные звуки молитвенных воплей Антония, свидетельствовавших о героической борьбе Антония с силами тьмы. Слава Антония достигала своего апогея, когда во время гонения, при Максиме (Максимиане), в 311 году, Антоний, оставив пустыню и явившись в Александрию, стал открыто посещать страдающих за веру, находившихся в тюрьмах, на галерах и рудниках. Антоний увещевал страдальцев-христиан твёрдо хранить своё исповедание до конца. Появление Антония произвело в Александрии необычайное впечатление. Но не прошло много времени, ярость гонения утихла, и Антоний снова уединился… Однако, местопребывание Антония вскоре было открыто. К нему потекли бесчисленные толпы людей скорбящих, отчаявшихся, искавших утешения и помощи. Влияние Антония стало огромным. В 351 году, будучи уже столетним старцем, Антоний во второй раз отправился в Александрию и там выступил против арианства, защищая Никейское исповедание веры".
Таким образом, по признанию самого же П. Рогозина, злобного противника Православия и монашества, отшельник Антоний после того, как много лет провел в уединении и молитве, одержав доблестную победу над "силами тьмы", многих людей укрепил в вере в страшные времена гонений, "бесчисленным толпам людей" подал утешение и помощь, имел огромное духовное влияние на множество людей, а в конце жизни ещё и успел принять участие в борьбе со страшной арианской ересью. П. Рогозину, чтобы быть последовательным, нужно было бы закончить свой рассказ об Антонии словами: "тем не менее, мы должны признать, что Антоний, по крайней мере, во время своего уединения, был ленивым рабом, убежавшим с нивы Христовой, и нерадивым воином, только время от времени приходящем на поле брани". Конечно, такой вывод должен сделать П. Рогозин и ему подобные, которые не только не стыдятся выказывать на весь мир своё скудоумие, но и поносить Церковь и Божьих святых себе на погибель. Итак, монах и отшельник Антоний был беглец, ленивый раб и трусливый воин у Христа, или великий и славный Его слуга, принесший во множество раз больше плода, чем многие другие, никогда не уходившие в пустыню? Мы не убегаем ни в какие пустыни и ставим главной целью нашей жизни проповедь о Христе, но кто из нас привлёк к себе толпы людей и столько послужил для Христа, как Антоний? Кого из нас ищут "бесчисленные толпы людей", жаждущих нашего слова наставления или одного только видения нашего лица или отдалённого слышания наших молитвенных воплей?
Протестантский писатель Освальд Смит, например, с горечью пишет об "успехах" современных ему проповедников: "В отчётах мы читаем, что 7000 церквей в течении года не приобрели ни одной души для Бога. Другими словами, 7000 проповедников проповедовали средним числом 40 воскресений, исключая экстренные собрания; в итоге получается, что 7000 проповедников произнесли 560.000 проповедей за год. Сколько труда, сколько времени, каких расходов в финансовом отношении для уплаты их содержания и т.п. потребовалось, чтобы привести это в исполнение! И тем не менее, 560.000 проповедей, произнесённых 7000 проповедников в 7000 церквах десяткам тысяч слушателей в течении двенадцати месяцев, оказались несостоятельными и не привели ни одного человека к Господу Иисусу Христу"["Пробуждение, в котором мы нуждаемся", глава 2, с. 17]. То есть, многие протестанты ставят себе главной целью жизни проповедовать о Христе и обратить в свою веру хотя бы одного человека, не могут этого сделать. Монахи же, не говоря даже о самых великих, таких как Антоний или Серафим Саровский, никогда не бывают бесплодны, и часто обращают к Вере многих людей!
На одной встрече нам, студентам ДХУ, известные баптистские деятели-миссионеры рассказывали о том, что во время своего пребывания на Чукотке, куда они на грузовиках привозили свою литературу, они нашли подтверждения того, что первыми с евангельской проповедью дошли туда православные монахи еще в XV веке - этот факт мне почему-то очень запомнился. То, что монахи активно проповедовали Евангелие народам, признаёт и С. Санников: "Вместе с тем, период ("313-600 годы") отмечен активной внешней миссией и распространением христианства среди варварских племён и в отдельных регионах мира, как правило, благодаря подвижничеству и подвигу монахов и рядовых христиан"["Двадцать веков Христианства", Одесса Санкт-Петербург, 2001 г., том 1, с. 214].
Так что монахи не уходили от повеления Христа проповедовать всем народам, а напротив, когда это нужно, первыми его исполняют, не будучи обремененные мирскими и семейными заботами. Исторически расцвет монашества всегда сопровождался расцветом проповедничества и миссионерства. Монастыри всегда были центрами просвещения, как религиозного, так и культурного. Именно в монастырях часто были издательства, библиотеки и школы, где детей учили читать и писать, а букварём была Псалтирь. Этот факт не трудно установить из изучения истории.
Примитивность же нашего подхода к данному вопросу заключается в том, что мы воспринимаем Великое Поручение[Так любят называть протестанты последнее повеление Христа, данное Им Апостолам перед Своим Вознесением на небеса: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь" (Мф. 28:19-20)] очень упрощённо, без всякой мудрости и соотношения с другими заповедями. Мы склонны толковать последнюю заповедь Христа в абсолютном смысле: если Христос дал Своим ученикам такое поручение, то это значит, что все до одного члены Церкви, ежедневно должны проповедовать миру о Христе. Так мыслить очень не разумно, и вот почему.
Во-первых, даже те люди, которые особым образом были призваны Богом к благовестию и служению множеству людей, не совершали свое служение каждый день своей жизни, а часто начинали его после долгого уединения. Вот примеры тому.
Моисей, которого Бог призвал для великого общественного служения (вывести Божий народ из рабства, научить его истинной Вере и ввести в Завет с Богом, явить славу Божию для множества язычников) начал свое служение после того, как 40 лет пробыл в пустыне Мадиамской, часто находясь наедине с Богом и самим собой.
Иоанн Креститель, великий проповедник покаяния, был избран Богом к своему служению с самого рождения, однако сказано, что он "был в пустынях до дня явления своего Израилю" (Лк. 1:80), и только после многих лет одиночества приступил к исполнению своей короткой миссии. Его жизнь похожа на жизнь монаха Антония, в которой есть место и время как отшельничеству, так и общественному служению ближним. И если об Антонии протестанты всегда могут сказать, что мы его не знаем и знать не хотим, что он для нас не авторитет, то Иоанн Креститель это библейский пример, но мы не хотим осознавать тот факт, что он много лет пробыл в пустыне именно как пустынник и отшельник[Иоанн Креститель был именно пустынником, как написано "был в пустынях", и отшельником, ибо слово отшельник значит "отшедший" (от людей)], так как это совсем не вписывается в наши понятия; сами любезные православному слуху слова "пустынник" и "отшельник" протестантам внушают отвращение. Ап. Павел же от отшельников не отвращается, а прославляет их, говоря: "Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли" (Евр. 11:38). Но на эти слова протестанты не обращают внимания, и продолжают поносить саму идею отшельничества.
Сам Иисус Христос проповедовал не с самого юного возраста, хотя имел на то и призвание и способности (иначе Он в 12-летнем возрасте не удивлял бы Своими речами учёных книжников), и не всю жизнь посвятил проповеди, а только 3,5 года. Первые же 30 лет Своей жизни Он не трудился в благовествовании. Более того, даже Своё непродолжительное общественное служение Христос начал с отшельничества - 40-дневного поста в полном одиночестве и безмолвии. Но и после этого Он часто любил уединяться, даже тогда, когда народ жаждал слушать Его слова: "Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился" (Лк. 5:15,16).
Ап. Павел, непревзойденный и плодотворнейший миссионер, после откровения, бывшего ему на пути в Дамаск удалился в Аравийскую пустыню, где пробыл около трех лет: в ДХУ на курсе Нового Завета преподаватель, почему то, особо акцентировал на этом наше внимание (см. Гал. 1:15-18).
По этой схеме, - сначала жизнь в уединении, молитве и самосовершенствовании, а затем общественное служение, - жили и многие православные святые и Отцы Церкви.
Святые просветители славян Кирилл и Мефодий были монахами и много лет провели в монастыре, а св. Кирилл даже в полном уединении, после чего Бог призвал их к благовестию. И как мы знаем, результатом их миссионерского служения стало обращение в христианскую веру нескольких стран.
Св. Иоанн Златоуст, великий праведник и исповедник Христов, богослов, знаменитый учитель и проповедник Церкви, необычайно плодотворно потрудившийся во имя Христа, был призван Богом на общественное служение после того, как четыре года провёл в пустыне, и два из них - в полном безмолвии.
Св. Серафим Саровский, приняв монашество и священство, некоторое время находился в монастыре среди братии, а затем на несколько лет стал полным отшельником. Тысячу дней и ночей он молился на камне в любую погоду, пребывая в строжайшем посте. Кроме того, несколько лет он хранил обет безмолвия и ни с кем не говорил, а если случайно встречал человека, то падал ниц и лежал так, пока тот не уходил прочь[Для протестантов такое поведение соблазнительно. Православие же вмещает в себя огромную широту проявления и действия Духа Святого, понимая и одобряя такое полное посвящение себя молитве и безмолвию]. Но по прошествии времени, Господь призвал его на общественное служение, которое было необычайно плодотворно. Со всех сторон к нему постоянно стекались люди, и многие из них после встречи со старцем духовно оживали, укреплялись в вере и возгорались ревностью к духовной жизни. К нему приходили и атеисты, и либералы, и различные скептики, многие из которых также обращались к Вере. Он часто не спрашивал пришедшего к нему человека о его нужде, потому что, имея дар прозорливости[Прозорливость - благодатная способность знать человека, не общавшись с ним; видеть его сокровенные мысли. Таким даром обладали особые Божии святые - пророки (см. 2 Цар. 12:10; 4 Цар. 6:8-12), Апостолы (см. Деян. 5:1-11; 8:23) и, конечно же, Сам Христос (см. Иоанн. 1:48; 2:25)], видел душу человека и знал ее добродетели и пороки лучше, чем сам пришедший. Он отвечал на письма, не вскрывая их, ибо Дух Святой давал ему знать их содержание. За эти годы служения людям он сделал столько добра, сколько никогда не сделал бы, если бы прежде много лет не пробыл в молитве и уединении. Кроме этого, он внес в сокровищницу Церкви свой бесценный молитвенный опыт общения с Богом и духовной борьбы с искушениями и пороками, который оказывает/p многим верующим огромную пользу в их духовной жизни и по сей день. Он утвердил Дивеевский женский монастырь, ставший важнейшей твердыней всей Православной Церкви, с которым связанны многие великие и славные события, имеющие быть перед Вторым Пришествием Христовым[Подробнее об этом можно прочесть в моей книге "Ленин - антихрист из Апокалипсиса, который был, и нет его, и явится"].
Выдающиеся книги мирового христианства были написаны именно православными монахами. Почти все великие деятели, пастыри и отцы древней Церкви, такие как Поликарп Смирнский, Иустин Мученик, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин и многие другие, о которых даже протестанты часто высказываются одобрительно, были монахами, и именно их монашество, то есть полное и нераздельное посвящение себя Богу, и является одной из главных причин их необычайной святости и плодотворности.
Поэтому, даже если монахи и находятся некоторое время в уединении от мира, то это вовсе не значит, что они уклоняются от служения и проповеди людям. Как показывает история, и как мы видели на вышеприведенных примерах, те люди, которые любят находиться в уединении и молитве, приносят впоследствии наибольшие плоды именно в привлечении многих людей ко Христу. Ибо для того, чтобы научиться слышать Божий голос, чтобы вникать "в себя и в учение" (1 Тим. 4:16) нужно научиться быть наедине с собой, наедине с Богом в молитве, ибо не в шуме толпы, а в тишине, в веянии тихого ветра открывается Господь (см. 3 Цар. 19:12).
Это не трудно понять, и против уединения протестанты спорят только, когда пытаются опровергнуть идею монашества. В других же случаях они признают пользу отшельничества. Так, протестантский толкователь Библии У. Баркли пишет: "Иногда ценою общения с Богом является одиночество среди людей" (Толкование на Ин. 16:1-4). Например, мы, студенты ДХУ, три года учились, глава, живя на отдельной закрытой территории. За это время мы не многим проповедовали Евангелие и с внешним миром общались мало. Но ведь мы понимаем, что удалившись на время от мира и служения ближним, мы не нарушаем заповеди Христовой благовествовать. Наоборот, мы и поступили в Университет для того, чтобы стать миссионерами. Мы знаем, что именно в таком случае мы сможем лучше послужить нашим ближним, ведь мы получим богословское образование, благодаря которому сможем более эффективно исполнять различные служения. И если бы даже эти 3 года мы жили полностью в закрытых условиях ради главной цели - получения образования, то, естественно, это было бы оправдано. Будучи студентами многие из нас, я в том числе, считали, что обязательная так называемая "практика" только мешала и отвлекала от главного дела, учебы, ради которой мы и поступили в ДХУ. В начале своей учёбы в ДХУ я спросил одного выпускника, который остался там работать переводчиком, много ли он во время учёбы занимался? И он мне ответил: "да я всё время занимался". То есть, три года он почти никому не проповедовал о Христе; вся его жизнь состояла из слушания лекций и уединённых занятий. Потому-то он и стал переводчиком, а впоследствии и преподавателем, что усердно занимался. И разве мы не согласимся с тем, что эти три года уединения полностью оправдываются тем, что в последствии, благодаря своему богословскому образованию, этот человек сможет делать большие дела и совершать более высокое служение?
Примерно так мыслили и делали и многие отшельники, которые понимали, что для того, чтобы послужить своим ближним, нужно самому сначала обогатиться духовным опытом общения с Богом. Разница только в методе. Одни уединяются преимущественно для упражнений в занятии богословием, другие - для уединенной молитвы, познания себя и борьбы с душевными и плотскими страстями.
Во-вторых, вовсе не каждый член Церкви призывается Богом быть миссионером, евангелистом и проповедником. Ведь Великое Поручение было дано непосредственно Апостолам, а через них уже - и их приемникам, кого они избирали и посылали на проповедь, как написано: "как проповедовать, если не будут посланы?" (Рим. 10:15). Это поручение вовсе не обязывает всех членов Церкви на протяжении всей истории христианства только то и делать, что постоянно и ежедневно заниматься проповедью Евангелия людям. Кроме того, вовсе не каждый христианин достаточно научен и способен проповедовать. Христос послал на проповедь Своих учеников, которых Он 3,5 года учил. Поэтому, для того, чтобы проповедовать людям Христово учение, нужно иметь дар и самому быть наученным. Протестанты говорят, что вот в Деяниях мы читаем, что все верующие проповедовали: "В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово" (Деян. 8:1-4). На это нужно сказать следующее.
Во-первых, здесь не сказано, что все рассеявшиеся благовествовали.
Во-вторых, эти христиане все были из иудаизма, в котором были многому научены, а также и от Апостолов они уже успели научиться.
В-третьих, положение было таково, что мир ничего не знал ещё о Христе, и важно было хотя бы засвидетельствовать о Нём как о Боге и Спасителе мира, чтобы язычники вообще узнали об имени Христа и могли начать интересоваться христианством. В таком смысле сейчас если и можно где-то проповедовать о Христе, то только не в нашей стране, ибо кто у нас не слышал о Христе и о том, что христиане считают Его Богом и Спасителем?
В-четвёртых, действие Духа Святого было в первой Церкви необычайно сильным, и Он Сам давал верующим необычайную силу в слове, как мы видим на примере первомученика Стефана и других. Сейчас же далеко не все в Церкви настолько исполнены Духом, чтобы могли так вдохновенно и безошибочно говорить Слово Божие. (Пусть протестанты не радуются этому признанию, ибо у них тоже сейчас далеко нет той силы духа, которая была у протестантизма при реформаторах и в другие времена). Чтобы проповедовать сегодня людям о Вере, нужно иметь от Бога призвание; нужно быть богословски образованным; нужно научиться быть искусным, глава "ловцом человеков". Остальным членам Церкви лучше ограничиваться простым свидетельством своим знакомым и соседям, призывая их ходить в Храм, читать духовные книги и жить по-христиански, много при этом не богословствуя.
Одним словом, далеко не все христиане должны проповедовать миру, т.е. незнакомым людям о Христе. Для этого нужен особый дар и посвящение. И в Церкви Христовой есть и другие важные служения. Как объясняет ап. Павел в 1 Кор. 12 главе, в Церкви, Теле Христовом, есть много членов, и у каждого члена тела есть своя роль: "Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит к телу?" (14-16 ст.).
Вот так и в Церкви Христовой есть много членов, каждый из которых исполняет не одно и то же служение, а разные, ибо "дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?" (4-6, 29-30 ст.).
Таким образом, как не все в Церкви Христовой пророки и учителя, так не все и миссионеры, евангелисты и проповедники. Каждый в Церкви занимается своим делом и служением. Одни служат в Церкви пресвитерами и диаконами, иные занимаются богословием и учительством, иные воспитывают детей или ухаживают за больными, иные поют или убирают в храме, иные прислуживают епископу, иные строят или расписывают Храмы, иные, как праведная Анна, "постом и молитвой служат Богу день и ночь" (ср. Лк. 2:37), и т.д. Дары, служения и действия в Церкви различны. И один из важнейших видов служения и деятельности Церкви есть именно молитва, которому главным образом и посвящают себя монахи. Поэтому, если некоторые христиане не ходят и не проповедует людям о Христе, а совершают иное служение в Церкви; и если некоторые монахи посвящают себя сугубо молитвенному подвигу, а не благовестию, то это еще не повод считать их ленивыми рабами и воинами-дезертирами. Ведь когда у нас регент всецело посвящает себя занятиям с хором, а не проповеди, нам и в голову не приходит обвинять его в дезертирстве. Наоборот, мы радуемся, что у нас есть такой хороший брат, который исполняет такое важное служение в церкви. Или если такой-то наш богослов будет постоянно уединяться ради того, чтобы написать, например, книгу по догматике или истории Церкви, то разве мы будем осуждать его в том, что он ленивый раб только потому, что не проповедует неверующим о Христе, а посвятил себя другому служению?
О. Смит в той же своей книге "Пробуждение, в котором мы нуждаемся" в 3-й главе много говорит о том, что никакое пробуждение невозможно без молитвы; что только тогда проповедники имеют успех, когда кто-то уси. И православные не создали один монастырь с постоянно запертыми воротами где-то в глуши, куда невозможно попасть людям, но во многих местах, в том числе в больших городах, Церковь основывает монастыри. И они, таким образом, находятся в мире, являясь оазисами Божьей благодати среди греховной пустыни лежащего во зле мира, как писал св. Иоанн Златоуст: ленно и много молится. И он приводит примеры различных молитвенников, в том числе и В. Брамвеля, который свидетельствовал о своём образе жизни так: "Нахожу необходимым начинать молиться с пяти часов утра и продолжать, при всяких обстоятельствах, до десяти или одиннадцати вечера". Но если этот человек 18 часов с сутки молился, а остальное время, очевидно, спал, то он не занимался благовестием; у него не было времени на проповедь людям о Христе. Но разве протестанты осудят этого человека? Разве скажут о нём, что он ленивый раб и трусливый беглец с поля боя? Напротив, сами протестанты приводят эти примеры, и восхищаются и гордятся тем, что среди них есть (или были) такие молитвенники.
Так почему же протестанты так презирают и хулят монахов за то, что многие из них посвящают себя не проповеди и миссионерству, а молитве? Очевидно, что протестанты не против того, чтобы некоторые среди них, - особенно те, кто не имеют дара говорить и проповедовать, - посвящали себя молитве. Поэтому, протестанты на самом деле против только того, чтобы православные усиленно молились, а потому и изобретают против монашества такие глупые и противоречивые аргументы.
И опять же отметим, что протестанты не стыдятся подобными нелепыми обвинениями монашества выказывать на весь мир своё скудоумие, и противоречить своим же понятиям (о том, что это хорошо, если некоторые их члены будут всецело посвящать себя молитве), только бы удовлетворить требование своего духа хулить и поносить Церковь. К тому же, если бы в Церкви наблюдался перекос, - то есть, если бы все посвятили себя молитве, а никто не проповедовал, - то претензии протестантов имели бы какую-то силу. Но в том всё и дело, что монахов в Церкви очень немного, намного меньше 1%. Поэтому, от того, что такое небольшое число верующих посвятит себя молитве, православная миссия ничего не потеряет; напротив, только приобретёт, ибо в молитве вся сила Церкви. Тем более, повторю, далеко не все монахи посвящают себя исключительно молитве, но многие также занимаются преподаванием, написанием и издательством книг и журналов; проповедуют и беседуют с приходящими. К некоторым старцам в монастырях, например, люди текут нескончаемым потоком.
Итак, монахи являются у Христа не ленивыми рабами и воинами-дезертирами, а самыми ревностными Его служителями, передовыми отрядами. И враги Христовой Веры, революционеры-коммунисты, закрывая и разрушая много Храмов, всё же некоторые, как известно, оставляли. Монастыри же, которых было в царской России огромное количество, были закрыты все до единого, о чём свидетельствует, например, С. Санников: "В 1938 году в СССР не осталось ни одного действующего монастыря"["Двадцать веков христианства", том II, с. 450]. И разве из данного факта не понятно, что случилось это только потому, что именно монахи были наибольшей угрозой для советского общества, наибольшей противоположностью воинствующего атеиста, являясь, так сказать, самой громкой живой проповедью Христа?
В 1993 году в Оптиной пустыни (православный монастырь) убежденный сатанист, Николай Аверин, в пасхальную ночь ритуально убил трех монахов мечом с сатанинской надписью 666. Когда его на допросе спросили, почему он это сделал, то он ответил: "Потому что монахи - главные враги сатаны". И это действительно так. Самый главный враг сатаны на земле - Церковь, и прежде всего монахи, как самые ревностные и всецело посвящённые Богу её члены. Да и разве сами протестанты не осознают, что наиболее сильный их противник это монастырь, а не городской приход?
Один важный факт. Монастыри, о чём уже упоминалось, много трудятся на поприще издательства и распространения духовной литературы. В прошлом, когда еще не было изобретено книгопечатание, монахи, как известно, много усердствовали в переписывании духовных книг, особенно Библии, чем оказали огромную услугу для их сохранения до наших дней. Представьте себе - и такое часто случалось - что какой-то молодой христианин в те давние времена решает посвятить себя Богу и послужить для Него. Он, подобно Антонию, раздает свое имение нищим (ср. Лк. 18:22) и принимает монашество, посвящая всю свою жизнь молитве и ежедневному многочасовому старательному и аккуратному переписыванию книг Св. Писания. И разве мы не признаем, что таким образом этот христианин весьма послужил и Господу и своим ближним, даже если он вообще не выходил из монастыря и общался только со своими собратьями монахами? И хотя ап. Павел доходчиво объясняет, что не все органы должны исполнять одну функцию чтобы иметь право быть частью тела; хотя мы сами об этом проповедуем и знаем, что в любом обществе всегда у разных людей есть разные обязанности и разный труд, тем не менее, мы сразу же готовы обвинить монаха, если узнаем, что он занимается не миссионерством, а молитвой, назиданием в вере уже верующих во Христа или выполнением какого либо другого послушания[Послушание - ёмкое православное понятие, связанное в большей степени с монашеством, обозначающее в подобных случаях смиренное исполнение порученного дела или служения, которое монах принял на себя не сам, а по благословению от наместника монастыря или духовника. Исполнение возложенных поручений, как учат Отцы Церкви и что понятно по самой сути, тем полезно и спасительно для души, что приучает человека к кротости, смирению и послушанию, отсекает в нём своеволие и избавляет его от постоянных смущений и сомнений относительно того, тем ли он занимается, чем действительно должно ему заниматься именно сейчас]. Разумно ли это?
Здесь уместно сказать о том, почему протестанты ставят такой громадный акцент на миссионерстве и так ревнуют "о проповеди Евангелия", вменяя эту обязанность всем своим членам как важнейшую задачу и дело всей жизни (отсюда и осуждение православных за то, что они иначе к этому относятся). Есть две важнейшие причины такой ревности протестантов и умеренности православных в этом вопросе, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза.
Первая: у протестантов с православными разнятся оценки духовного состояния нашего народа. Для современных постсоветских протестантов практически все вокруг - и православные прежде всего - это сплошная нива для евангелизации. Нас окружают люди, незнающие Евангелия, которым нужно, как язычникам, рассказать, засвидетельствовать, проповедать о Христе.
У православных же другой взгляд. Они считают, что наша страна облаговествована с давних времен. Большинство людей крещены в Православной Вере, знают о Христе и веруют в Него. По крайней мере, они всегда скажут, что верят в Бога и на приветствие "Христос воскрес" с радостью ответят "воистину воскрес". У многих из них есть в доме Библия, молитвослов и иконы, они знают азы веры и, хотя и не часто, заходят в Церковь. И главная проблема и трагедия заключается не в том, что они не верят во Христа как своего личного Спасителя[Об этой излюбленной протестантской формулировке мы говорили в предыдущей главе], в том, что эти люди не церковные[Церковный - то есть тот православный христианин, который, в противоположность номинальному и не церковному, регулярно посещает Храм, исповедуется и причащается, знает и постоянно изучает свою веру, молится Богу, читает Библию и духовные книги и т.д], мало посвящённые. Им нужно не просто рассказать о Христе, а каким-то образом воцерковить их - то есть побудить их возлюбить Христа и возненавидеть мир и его суету, деятельно искать и стремиться к Царствию Небесному, больше помышлять о горнем, а не о земном, более ответственно относится к спасению своей души, более строже соблюдать заповеди Божьи, бояться Бога и греха, и т.д. И сделать это гораздо труднее, чем просто рассказать человеку о Христе, о Божьем плане спасения или "четырёх духовных законах". Что и как сказать человеку, чтобы возбудить в нем ревность к вере и жажду по Богу? Как научить его Православной Вере и страху Божию? Как передать ему христианское видение себя и мира? Задача очень не простая и превышает силы человека, ибо без благодати Божьей нельзя обратить к Вере ни одного человека, как сказал Христос: "человекам это невозможно, Богу же все возможно" (Мф. 19:26).
Поэтому, зная об этом, православные понимают, что мало рассказать человеку о Христе: о Нём на Руси все знают и постоянно слышат. Нужно внутренне переродить человека, вселить в него веру и желание совершать своё спасение. А это человеку не под силу, а только Богу. Потому, часто действенней бывает вместо многократных словесных убеждений человека горячо молиться о нём Богу.
Православным, кроме того, широко известен и другой весьма действенный миссионерский закон, который выражается так: "спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся". Это -em гениальная формула! Действительно, чтобы спасти другого (в истинном, а не протестантском смысле); чтобы научить его исполнению заповедей Христовых и духовной жизни, для этого нужно самому пребывать в спасении, в Боге; быть в исполнении Духа Святого. А если человек достигает духовных высот, то он становится "городом, стоящим на верху горы", который "не может укрыться" (см. Мф. 5:14), и свет его будет светить людям. Таким образом, чем больше человек сам просветился светом Христовым, тем лучше он способен других просвещать.strong Потому, православные и с/strongтремятся п) мышления: /supпусть протестанты этим не оскорбляются, а сами проанализируют в каждой главе данной книги, правда ли это? Вот и в данном вопросе эта протестантская черта вполне очевидна: разве разумно обвинять монашество в удалении от проповеди и служения миру, если именно монастыри являются центрами Православия, самыми людными и посещаемыми местами в Церкви, куда благочестивые верующие часто приезжают на паломничество именно с целью укрепить свою духовную жизнь?режде всего "спасать себя", и отнюдь не по эгоизму, как трактовал это Лев Толстой, и как склонны будут толковать это, естественно, и протестанты, а потому, что нет иного пути спасти ближнего, как самому сначала спасаться и стяжать Духа Святого Божьего. Если человек усердно совершает своё спасение, то это наилучшее благо, которое он только может сделать для своего ближнего!
Вторая причина ревности протестантов о проповеди Евангелия это - пусть протестанты не обижаются на меня за слово правды - постоянные внутренние побуждения, которые испытывает протестант и которые производит в нём, к сожалению, не Дух Святой, а еретические духи, которые движут всеми сектами. Ведь сектанты ревнуют на самом деле не о проповеди Евангелия, а о проповеди своего лжеучения, ереси и пути отступничества, и дьявол побуждает сектантов постоянно распространять свои ереси. Конечно, в совести своей протестанты этого не знают, и служат дьяволу не сознательно, не так как сатанисты, а только вследствие того, что дьяволу удалось их обмануть и обольстить. Они, таким образом, "обманутые обманщики", как говорил блаж. Августин о манихеях. Они сами - жертвы обмана. Дьявол же, играя на их подчас искреннем желании послужить Богу, использует и направляет их энергию и силы прежде всего именно на "проповедь Евангелия", то есть на проповедь своего учения, где вместе с Евангелием проповедуется много лжи. Дьяволу очень хочется заразить православных людей ересью и оторвать их от Христа и Его Церкви, потому протестанты так и ревнуют о проповеди "Евангелия".
По той же причине неистово и даже больше баптистов ревнуют о проповеди "Евангелия" и "свидетели Иеговы". (Евр. 11:38). Но на эти слова протестанты не обращают внимания, и продолжают поносить саму идею отшельничества. (см. Мф. 5:14), и свет его будет светить людям. Таким образом, чем больше человек сам просветился светом Христовым, тем лучше он способен других просвещать. Потому, православные и стремятся прежде всего ОКирилл и Мефодийднако понятно, что они проповедуют много пагубной лжи и тем самим служат дьяволу. Но разве они сознательно ему служат, желая себе и всем людям погибели? Нет, они думают, что служат Богу, а служат на самом деле дьяволу вследствие того, что он их обманул и выдал им ложь за правду. Они же не смогли распознать эту ложь, и в том их грех. Если бы они были чистые сердцем, если бы они были от стада Христова, если бы искали Бога и любили Истину, то слушали бы голос Духа Божия и голос Церкви, а не голос дьявола и его слуг, и небыли бы обманутыми. Вот так и протестанты, служат дьяволу, так как обмануты им; ревнуют о проповеди пути спасения, а на самом деле проповедуем путь погибели.
Итак, если монахи не ходят по домам с проповедью о Христе, то это ещё не значит, что они ленивые рабы, бегущие с нивы Христовой. Они проповедуют всей своей жизнью, привлекая в свои ограды на свои службы множество людей, на которых монастыри оказывают подчас весьма глубокое духовное впечатление. Поэтому, монахи, как правило, это самые опытные и самые ревностные слуги и воины Христа. А вот протестанты даже не ленивые рабы и трусливые воины у Христа; они часто активные рабы, но не на ниве Христовой; часто смелые воины, но вот только воюют они против Христа и Его воинства. Они не только не проповедуют Евангелия, то есть пути спасения, но ещё и вредят проповеди Церкви, воруя у неё души людей и самим своим существованием и нападками на Церковь смущают и погубляют многих.
II. О добровольном безбрачии во имя Христа
В своей слепой ненависти к Православию, а особенно к высшей его форме - монашеству, протестанты не хотят замечать учения Св. Писания о добровольном Христа ради безбрачии, называя его ересью и отступлением. Они не замечают в этой связи важной библейской параллели, как бы переклички Ветхого и Нового Заветов. Если в Ветхом Завете было сказано: "не хорошо быть человеку одному", то в Новом Завете сказано противоположное: "хорошо человеку не касаться женщины"; "хорошо им (безбрачным и вдовам) оставаться, как я (т.е. безбрачными)"; "за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так (т.е. одному)" (1 Кор. 7:1,8,26).
Почему же в Новом Завете уже "хорошо" безбрачие, а не брак?
Как Бог создал человека по образу Своему, так Он создал и брак по образу брака Христа и Церкви. В посланиях ап. Павла и в Апокалипсисе отношения Христа и Церкви представлены в образе жениха и невесты, мужа и жены (Еф. 5:22-33; Откр. 19:7). В Ветхом Завете этот образ также неоднократно находит себе подтверждение у пророков, и особенно - в книге Песни Песней. Таким образом, брак между мужчиной и женщиной указывает, пророчествует и прообразует собой брак Христа и Церкви. И хотя этот брак Агнца со своей Невестой ещё не состоялся, - он состоится в Небесном Иерусалиме после восхищения Церкви на небеса, - верным Христовым дано отчасти уже сейчас, на этой земле предвкушать сладость общения со своим Небесным Женихом.
С одной стороны Царствие Божие есть реальность будущая, эсхатологическая, но в то же самое время, "Царствие Божие внутрь вас есть" уже сейчас (Лк. 17:21). Одним целым (предельно) Церковь станет со Христом только после небесного брака Агнца, но уже и сейчас Церковь едина со Христом и "есть Тело Его"; верные будут напоены Духом Святым в полной мере только в Царствии Божием, но уже и сейчас они имеют в себе "залог Духа"[Залог, как известно, например, при покупке дома, даётся в уверение того, что вскоре будет отдана и остальная часть денег за дом. Так и верные получили "залог Духа" в уверение того, что вскоре Бог даст им Духа во всей полноте. Но при этом не следует думать, что верные имеют только часть Духа Святого, ибо личность Его не может быть разделена. В таинствах Крещения и Миропомазания человек погружается во Христа, и в него входит вся личность Духа Святого. Просто в этом мире по причине смертного, грубого тела, а также грехов человека, Дух Святой не может раскрыть Себя во всей полноте. Это можно понять хотя бы так, что если бы человеку Господь дал прочувствовать всю радость и сладость Царствия Небесного, то человек тут же умер бы. Наше тело просто не в состоянии эмоционально перенести такую радость и такие чувства] (2 Кор. 1:22), и т.д. Это состояние можно назвать так: (частично) реализованная эсхатология[Это выражение я впервые услышал на лекциях в ДХУ, и мне, помнится, оно сразу очень понравилось, ибо довольно удачно выражает евангельскую истину о будущем, и в тоже время уже пришедшем Царствии Божием]. Таким образом, Церкви в Новом Завете уже открыт не только прообраз, но и сам первообраз брака; в виду этого факта, прообраз истинного брака, то есть человеческий брак, теряет уже в некоторой степени ту пророческую и прообразовательную значимость, которую он имел до сошествия Духа Святого в Пятидесятницу, до рождения Церкви.
Поэтому, в Новом Завете уже хорошо человеку быть одному, то есть, состоять в духовном браке с одним только Христом, и такое положение лучше брака. Ведь кроме того, что ап. Павел трижды сказал о том, что человеку быть одному и не касаться женщины это хорошо, он говорит также о превосходстве безбрачия пред браком: "за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так" - т.е. девственником, ибо ап. Павел пишет эти слова "относительно девства". "Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше". "Желаю, чтобы все люди были, как и я" - то есть не женатыми (1 Кор. 7:25,26,38,7).
О браке же ап. Павел не говорит как о лучшем пути, а только как о дозволенном и не греховном: "Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит" (1 Кор. 7:28), и рекомендует брак тем, кто не может иначе избежать блуда: "хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа". "Хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак" (1 Кор. 7:1,8,9). Очевидно, что ап. Павел полагает, что есть такие люди, которые могут воздержаться от брака. И ап. Павел не только не осуждает безбрачие, но ставит его выше брака! То есть мысль ап. Павла заключается в том, что хорошо человеку идти совершенным путем, путем всецелого посвящения себя Богу, путём безбрачия, но если он по своей слабости не может этого понести, то пусть идет другим, менее совершенным, но дозволенным и не греховным путем брака.
В этой же главе ап. Павел объясняет причину превосходства безбрачия: "А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения" (1 Кор. 7:32-35).
Какие сильные слова: "неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене"! Эти слова, конечно, не осуждают брак как дело греховное, но ясно и в очень сильных выражениях утверждают превосходство безбрачия перед браком, ибо что лучше, заботится о Господнем, как угодить Господу, или о мирском, как угодить жене? Ответ очевиден.
Слова же "чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения["Без развлечения" иначе "без отвлечения"]" со всей ясностью предполагают, что женатый человек не может служить Богу так посвящено (непрестанно, благочинно и без отвлечения), как не женатый, потому что он должен отвлекаться на семейные заботы.
В ст. 28 ап. Павел говорит, что женатые люди "будут иметь скорби по плоти", то есть скорби, связанные с рождением, воспитанием и обеспечиванием детей. В последнее время многие семьи, в том числе и протестантские, не знают больших скорбей по плоти, так как нарушают Божью воле о браке и не рождают детей, используя искусственные средства, не допускающие беременности. Если же жить в браке по Божьи, как жили люди во все времена, в том числе и все протестанты, рождая много детей, то такая жизнь действительно приносит многие скорби по плоти. Незаконный, дьявольский путь уйти от этих скорбей - контрацепция. Путь законный, Божий, предлагаемый ап. Павлом - воздержание, целомудрие, безбрачие, монашество.
О безбрачии учил и Сам Христос: "Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит" (Мф. 19:12). Эти слова заключают в себе ту мысль, что есть такие люди, которые сознательно сделали себя скопцами, то есть безбрачными[Нужно отметить, что в истории Церкви и до сего дня не редки случаи, когда муж и жена по достижении определённого духовного совершенства по обоюдному согласию (которое необходимо - ср. 1 Кор. 7:5) решают прекратить супружеские отношения и жить как брат и сестра, или же вообще разойтись по монастырям. Такое "брачное безбрачие" также относится к скопечеству], монахами["Монах" происходит от греческого слова "монос", т.е. "один"], сознательно отказавшись вступать в брак ради Царствия Божия, ради более посвящённого и нераздельного служения Господу. (И как лживо и безумно на фоне этих слов о безбрачии безбрачного Хри/supста звучит утверждение П. Рогозина: "Христос никогда не проповедовал безбрачия"["Откуда всё это появилось?", глава "Безбрачие священников"]!
На самом деле, Христос и словом, и самим делом, а также через Своих Апостолов проповедовал безбрачие!). И в Новом Завете мы видим примеры таких скопцов ради Царствия Божия: Сам И. Христос, Дева Мария[В главе "О почитании Девы Марии", как помнит мой читатель, были приведены веские аргументы и свидетельства о том, что Матерь Христа есть приснодева], Иоанн Креститель, апостолы Павел и Иоанн Богослов[Св. Ефрем Сирин (IV в.) пишет: "Тебя, (девство) возлюбил и святой евангелист Иоанн и за это удостоился возлежать на груди Господа славы. (…) За это ему более других апостолов была открыта дверь к таинствам небесным" (цит. по "настольная книга священнослужтеля", том. 5, стр. 636, изд. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2003 г.). Христиане из начала знали, что ап. Иоанн был девственником, о чём есть и другие упоминания у христианских писателей первых веков], не вступали в брак и шли путём превосходнейшим. И такое скопчество ради Царствия Божия, такое сознательное посвящение своего девства Господу имело место в Церкви и в дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня. Приведём несколько подтверждений тому, что в древней Церкви изначала были христиане, сознательно и добровольно посвятившие своё девство Христу.
Св. Игнатий Богоносец (ум. 107 г.), бывший близким учеником самого Апостола Иоанна Богослова, а также видевший и слышавший первоверховных Апостолов[С. Санников пишет об Игнатии: "Григорий Великий называет его учеником Петра, другие ранние писатели утверждают, что он учился у Апостола Иоанна Богослова, а некоторые относят его ученичество к деятельности Апостола Павла. Вполне возможно, что все свидетельства правильны, ибо в Антиохии в разное время трудились все три указанных Апостола" ("Двадцать веков христианства", том. 1, с. 180)], послания которого (Игнатия) были в древней Церкви весьма авторитетны, что признают и баптисты[С. Санников говорит: "В христианстве первых веков все эти послания (Игнатия) повсеместно пользовались глубоким уважением" ("Двадцать веков христианства", том. 1, с. 181)], писал Поликарпу Смирнскому (гл. 5) о браке и безбрачии так: "Внушай сестрам моим, чтобы они любили Господа и были довольны своими супругами по плоти и по духу; равным образом советуй и братьям моим, чтобы они во имя Иисуса Христа любили своих супруг, как Господь любит Церковь. А кто может в честь плоти Господней пребывать в чистоте, пусть пребывает, но без тщеславия. Если же станет тщеславиться, то погиб…".
В этих словах мы видим:
1) указание высшего смысла девства - подражание безбрачию Христа;
2) указание на то, что путь этот не для всех, а для могущих понести;
3) предостережение от превозношения, что ещё раз подтверждает ту истину, что путь безбрачия есть путь превосходнейший (и по этой причине таит опасность превозношения).
Епископ Коринфский Дионисий (II в.) написал много различных посланий, которые, к сожалению, не сохранились. Зато Евсевий Кесарийский знал и резюмировал его сочинения, и об одном из них он пишет так: "Среди этих Посланий есть одно к жителям Кносса: в нем он убеждает их епископа Пинита не накладывать насильно на братьев тяжкого бремени целомудрия и считаться с тем, что многие слабы" (Церковная история, кн. IV, 23). Эти слова свидетельствуют о том, что христиане второго века знали о пути безбрачия. Святой же Дионисий говорит не против безбрачия, а против того, чтобы никого не принуждать к нему.
Св. Иустин Мученик в своей 1-й Апологии (п. 15) защищая Церковь от языческих обвинений в распутстве, описывал нравы христиан своего времени: "О целомудрии Он (Христос) говорил так: "кто взглянет на женщину с похотствованием, тот уже любодействовал с нею в сердце своем перед Богом". И: "егородом, стоящим на верху горысли правое око соблазняет тебя, выколи его: ибо лучше тебе одноокому войти в царство небесное, нежели с двумя глазами быть ввержену в огонь вечный". И: "кто женится на отпущенной от другого мужа, тот прелюбодействует". И еще: "есть некоторые, которые сделались скопцами от человеков, и есть также, которые сами себя сделали скопцами, ради царствия небесного, но не все могут снести это". Как вступающие по закону человеческому во второй брак, у нашего Учителя считаются грешниками, так и взирающие на женщину с похотствованием. Ибо не тот только отвергается Им, кто делом любодействует: но и тот, кто хочет любодействовать, так как Богу известны не только дела, но и пожелания. И есть много мужчин и женщин, лет шестидесяти и семидесяти, которые, из детства сделавшись учениками Христовыми, живут в девстве; и я готов указать таких из всякого народа".
Слова данной Апологии были написаны в 150-155 годах. Таким образом, 60-тилетние и 70-тилетние девственники и девственницы, о которых пишет св. Иустин, родились и несколько лет жили ещё в апостольский век. И важно, что такое посвящение себя Христу и безбрачию, св. Иустин связывает со словами Христа о скопцах.
Далее св. Иустин также пишет о том, что одни христиане живут в браке, а другие отказываются от брака: "Но мы или вступаем в брак, не иначе, как с тем, чтобы воспитывать детей, или, отказываясь от брака, постоянно живем в воздержании" (п. 29).
Афинагор (II в.) в своей апологии "Прошение о христианах" (п. 33) пишет: "Между нами найдешь даже многих и мужчин и женщин, которые состареваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Если жизнь девственная и целомудренная более приближает к Богу, а худой помысл и пожелание удаляет от Него: то мы, избегая худых помыслов, тем паче избегаем таких дел. Ибо наше богопочтение состоит не в заботе о словах, но в доказательствах и учении делами: нужно или оставаться таким, каким кто родился, или вступать в один брак, ибо второй брак есть прелюбодеяние…".
Марк Феликс (ум. 210 г.): "Таким образом, вы (язычники) сами кровосмесники сплетаете на нас эту басню, вопреки свидетельству вашей совести. А у нас целомудрие не только в лице, но и в уме; мы охотно пребываем в узах брака, но только с одною женщиною, для того, чтобы иметь детей, и для сего имеем только одну жену, или же не имеем ни одной (…) Очень многие (из нас) отличаются всегдашним девством своего неоскверненного тела, и этим не тщеславятся…" (Октавий, 31).
Св. епископ Григорий Назианин (IV в.) пис/strongал: "С того времени, как Дева стала Божией Матерью, уже открытым образом многие стали проводить безбрачную жизнь"["Настольная книга священнослужителя", том. 5, с. 636)].
Итак, о безбрачии проповедовал Христос и ап. Павел, и с самого начала в Церкви были христиане, сознательно и добровольно посвящавшие своё девство Христу.
Многие протестанты, не желая признавать очевидного новозаветного учения о безбрачии как о превосходнейшем пути, говорят, что скопцами являются те, кто по природе не способен к семейной жизни[Один проповедник нашей артёмовской баптистской общины говорил, что слова Христа "кто может вместить, да вместит" нужно понимать так: кто не импотент и может входить к женщине, тот пусть и входит. На самом же деле Христос говорит о способности вместить "слово сие", а не о мужской способности. Другая нелепость, которую также можно иногда услышать от баптистов, в том числе и от пасторов, это что Ап. Павел на самом деле имел жену, и что его слова: "Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?" (1 Кор. 9:5) как раз об этом и говорят. На самом же деле, ап. Павел говорит о том, что имея власть иметь жену и жить за счёт благовествования, он не пользовался своей властью (см. 1 Кор. 9:12). Подобных частных глупых толкований и мнений в протестантизме очень много]. Но это не так. Христос ясно разделяет скопцов на три группы.
Первая группа - скопцы от чрева матери. Вот они как раз те, кто по природе не способны к брачной жизни.
Вторая группа - оскопленные от людей. Это прежде всего евнухи, которых люди оскопили. В древнем мире времён Христа такое явление было довольно частое. Господин оскоплял своих слуг и рабов для того, чтобы они не могли вступить в связь с его жёна/supми и наложницами, особенно во время его отсутствия, и чтобы рабы не растрачивали свою энергию, время и силы на семью и женщин, а всецело ему служили.
Третья группа - это те, которые "сделали сами себя скопцами для Царства Небесного", то есть добровольно, ради всецелого служения Господу, отказались от брака. Конечно, это оскопление не физическое[Когда в первые века христианства появилось мнение, что скопцам нужно оскоплять себя физически, то оно было Церковью осуждено как ересь и недопустимое членовредительство], а оскопление как воздержание. Таким образом, скопцы ради Царствия Небесного это отнюдь не те, кто по природе не способен к брачной жизни, а те, кто сознательно отказался от супружества ради Христа.
Удивительно, что на словах протестанты проповедуют "чистое Евангелие" и жизнь по Слову Божьему, но на деле многие из них (такие как П. Рогозин) отвергают вполне ясное учение Библии о дозволенности безбрачия и его превосходстве перед браком, не считаясь даже с примерами Самого Христа и таких великих евангельских святых, как Дева Мария, Иоанн Креститель и апп. Павел и Иоанн. Многие протестанты, в том числе и советские и постсоветские баптисты, не только не величают безбрачие и никого к нему не призывают, но уничижают и даже борются с ним. Многие протестанты не только не признают учения ап. Павла о превосходстве безбрачия пред браком, но всячески стараются удалить его из наших рядов! Если у нас молодой человек долго не женится, то его начинают сначала мягко, а потом всё настойчивее призывать к женитьбе. Конечно, не желающего жениться у нас от общины не отлучат, но на него будут смотреть косо и тако (IV в.) писал: вой никогда не сможет быть избран и рукоположен ни в диаконы, ни в пресвитеры[Это относится прежде всего к советскому и постсоветскому баптизму]: Бemаптиcты и многие другие протестанты категорически не допускает скопцов к церковному служению, и вот тому причина.
Формальная причина, которую называют многие протестанты, заключается в том, что ап. Павел требует от пресвитера и епископа быть женатым, т.е. быть "мужем одной жены" (Тит. 1:5-7; ср. 1 Тим. 3:12). На самом же деле, ап. Павел вовсе не повелевает пресвитеру обязательно иметь жену, а только лишь запрещает поставлять пресвитера двоежёнца. Пресвитером и епископом не может быть: 1) тот, кто имеет вторую жену (если первая умерла); 2) тем более тот, кто имеет вторую жену, будучи в разводе с первой; 3) имеющий две (или более) жены одновременно. Вот смысл этих слов. Но здесь ап. Павел ни в коем случае не запрещает пресвитеру быть скопцом. Ведь если среди Апостолов были и женатые, и не женатые, то таковые, естественно, могут быть и среди пресвитеров.
Действительная же причина, по которой протестанты обязывают своих служителей иметь жену, заключается в том, что католики делают противоположное - требуют от своих священников давать обет безбрачия. Протестанты, как мы уже говорили, раздражённые многими католическими злоупотреблениями и искажениями, взялись отсечь от католицизма все человеческие предания и наслоения. В вопросе монашества они увидели, что католики впадают в крайность, когда требуют от священства обязательного безбрачия, чему действительно нет оснований ни в Библии, ни в учении древней Церкви. Протестанты знали, что многие католические клирики, не способные к безбрачию, впадали в блуд. Поэтому, отвращаясь от этого злоупотребления, они постановили, чтобы к священнослужению допускались не одни только безбрачные, как у католиков, а наоборот - одни только состоящие в браке[Хотя не все протестанты так считают]. И П. Рогозин так прямо об этом и говорит, что "брак является одним из условий священства или епископства"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Безбрачие священников"]. И это положение, ставшее законом в баптизме и во многих ветвях протестантизма, самым ярким и показательным образом утвердил именно основатель протестантизма Мартин Лютер, который, быв монахом, женился, причём тоже на монахине! Этот поступок ярко и наглядно выражает отношение протестантизма к безбрачию.
Таким образом, как мы видим, желая уйти от одной крайности, протестанты впали в другую. Православие же, по милости Божией сохраняет в вопросе[Как и во многих других вопросах, на что я уже неоднократно обращал, и ещё буду обращать внимание в своей книге] брака и безбрачия золотую середину. Оно, с одной стороны, не принуждает, как католицизм, будущих священников непременно давать обет безбрачия, допуская к священству как безбрачных, так и состоящих в первом браке; с другой же стороны - не отвергает, как протестантизм, скопчества как такового и безбрачных пресвитеров. В этом православная позиция согласуется с Библией и практикой древней Церкви. С. Санников, характеризуя отношение к данному вопросу первенствующей Церкви, пишет: "Для служителей церкви безбрачие считалось более предпочтительным, но никаких обязательств по этому поводу в раннем христианстве не налагалось"["Двадцать веков христианства", том 1, с. 152]. Католики же и протестанты уклоняются от учения Слова Божьего каждый в свою сторону: первые обязывают своих священнослужителей не жениться, а вторые, напротив, обязывают жениться, и не только не считают безбрачие предпочтительным, но и часто презирают его.
Здесь, однако, следует заметить, что православные, не требуя от священников, диаконов и низших клириков обязательного безбрачия, избирают всё же епископов только из среды монашества. Но это происходит вовсе не потому, что женатый священник по самой сути не может быть епископом. Это правило явилось тогда, когда число христиан сильно возросло, и епископов стали поставлять только на большие города и целые области. Таким образом, имея большой выбор кандидатов на кафедру епископа как из женатых, так и монашествующих священников, Церковь естественно отдаёт предпочтение монахам, которые могут на такой высокой и важной должности нераздельно, не отвлекаясь на семейные заботы, более посвящено служить Богу и Церкви, что особо требуется от епископа. И такую практику нельзя не признать весьма закономерной и мудрой. По крайней мере, протестанты не имеют оснований для осуждения этой практики, ибо она лишь закрепляет право Церкви избирать для наиважнейшего служения самых подходящих кандидатов.
Что же касается отступников от веры, "запрещающих вступать в брак" (1 Тим. 4:1-3), то православные к ним ни коим образом не относятся, ибо они никому не запрещают вступать в брак. Это отчасти можно сказать о католиках, ибо они действительно всем священнослужителям и даже прислужникам при храме запрещают вступать в брак. Православные же только указывают, вслед за Ап. Павлом, на то, какой путь более совершен, а какой менее, и предлагают превосходнейший путь тем, кто способен к нему, то есть тем, кому и предложил этот путь Сам Христос: "кто может вместить, да вместит".
Православная Церковь никак не запрещает вступать в брак, совершая для брачующихся таинство Брака, причём особо торжественным и возвышенным чином. Кроме того, Церковь предаёт анафеме тех, кто запрещает вступать в брак или считает законное брачное сожитие грехом или чем-то низким. Так, в Книге Правил[Книга Правил - это собрание догматических и относящихся к устройству и благочестию Церкви правил (признанных каноническими) Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, и некоторых святых] мы находим такое определение: "Если кто девствует, или воздерживается, удаляясь от брака как гнушающийся им, а не ради самой добродетели и святыни девства: да будет под клятвою". А также: "Если кто из девствующих ради Господа будет превозносится над бракосочетавшимися: да будет под клятвою" (Гангрский Собор, правила 9, 10). Подобные правила многократно утверждаются и другими соборами. Таким образом, в истории Церкви действительно являлись люди, о которых предсказывал ап. Павел, которые запрещали вступать в брак и гнушались им. Но Православная Церковь совершенно не причастна к подобной ереси.
Некоторые разумные протестанты, не решающиеся отрицать, как П. Рогозин, столь очевидное учение Нового Завета о безбрачии, тем не менее не признают монашества, говоря, что если человек и решился ради Христа жить один, то пусть живёт в миру, как все верующие, и ходит на собрания, но какое есть основание безбрачным собираться вместе, принимать обеты монашества и жить вместе?
Для начала отметим, что Церковь
1) отнюдь никого не принуждает удаляться от брака, и
2) добровольно живущих в девстве отнюдь не принуждает вступать в монастырь.
В Церкви есть много безбрачных, которые не живут в монастыре, и не принимали монашеских обетов. И Церковь не только не понуждает их идти в монастырь, но и желающих стать монахами она не принимает сразу, а только после трёх летнего испытания. Желающий принять монашество должен сначала пожить в монастыре послушником без обетов и испытать себя, действительно ли ему по душе монастырская жизнь? И только после этого послушник может быть пострижен в монахи.
Кроме того, нет ничего недозволенного в том, чтобы часть христиан была объединена не только в приходы, но и другие организации. Сами протестанты так поступают, когда организовываются в различные миссии, у которых есть свои особые задачи и правила, которые можно назвать уставом. Объединяются между собой и образованные протестанты или ищущие образования. Близкий мне пример - ДХУ, в котором я учился. Ведь что такое духовный Университет? Это собрание в одном месте верующих людей занимающихся изучением богословия и живущих по определённым законам и правилам. Нам, студентам, на руки раздавали распечатку, где были подробно расписаны правила жизни и поведения в Университете. Правила эти тоже, естественно, можно назвать уставом. И такие объединения учёных и учащихся людей, живущих вместе по определённому уставу, нужны для понятной цели - для успешного получения образования. Преподаватели также часто живут вместе, как было у нас в ДХУ, и причина тому очень понятна: общение с себе подобными способствует повышению квалификации и уровня преподавателей. Таким образом, нет, по сути, ничего невозможного и греховного в том, чтобы часть верующих объединялась не только в приходы и поместные церкви, но ещё и в другие организации для выполнения особых задач. И если некоторые безбрачные в Церкви желают объединиться и жить вместе, чтобы поддерживать друг друга в духовном горении и совместно служить Богу, совершая Богослужения не только в субботние и воскресные дни, - а также по праздникам, как часто бывает на городских и особенно сельских приходах (и как чаще всего собираются на свои собрания и протестанты), - а ежедневно, тем самым сугубо посвящая себя молитве, то на каком основании нужно считать такое предприятие недозволенным и греховным? Псалмопевец Давид писал: "Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!" (Пс. 132:1). Так почему же братьям, всецело посвятившим себя Богу, нельзя жить вместе (равно как и сёстрам)?
Об апостоль /strongмы на/strongходим такое определение: ской, пламенеющей Духом, находящейся в первой любви Церкви, мы читаем, что "они постоянно пребывали в учении Апостолов, общении и преломлении хлеба и в молитвах… Все же верующие были вместе и имели всё общее… И каждый день единодушно пребывали в храме" (Деян. 2:42-46). Сейчас, конечно, в Церкви далеко не у всех есть такое горение и такая ревность по Богу[Протестантам не стоит злорадствовать этому признанию, ибо их жизнь по форме также весьма далека от описанной жизни первой Церкви. Протестанты отнюдь не постоянно пребывают в учении, общении и молитвах, и тем более в преломлении хлеба, а только время от времени. Они отнюдь не имеют общее имущество, и вовсе не каждый день пребывают в храме или на своих собраниях]. Но монахи это как раз и есть такие посвящённые члены Церкви, которые больше других соответствуют описанному в Деяниях образу жизни первых христиан, ибо они действительно постоянно и ежедневно пребывают в учении, общении, молитвах и преломлении хлеба, живут вместе и имеют всё общее, каждый день пребывая в Храме. И вот за эту сугубую посвящённость Богу, за подражание ревности первым христианам монахи и удостаиваются от протестантов злословия и презрения…
Напоследок замечу, что, отвергнув монашество, протестанты нередко открыто глумятся над ним, говоря, что в монастыри идут либо те, кто физически не способен к супружеской жизни, либо извращенцы, либо те, у кого какие-то психические отклонения.
Но такова уж природа человека: те нравственные высоты, которые взять ему не под силу, он, вместо того, чтобы благоговеть перед ними, высмеивает их. Так и протестант: видя в монахах такое всецелое посвящение Богу, такой подвиг, такое целомудрие и любовь к Богу, и осознавая себя совершенно не способным к такой ревности, вместо почтения презирает таковых, как написано: "блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную" (3 Езд. 16:50).
III. Действительно ли монахи стараются искупись и спасти себя собственными подвигами?
Разговор о том, какое место в спасении человека занимают дела, и как они соотносятся с верой, уже был начат нами в предыдущей главе. Здесь особо скажем лишь об аскетизме. Сразу же хочу заметить, что в Православии есть много слов и понятий, которые сильно режут слух протестанта и воспринимаются им только негативно и даже "ругательно". Эти слова легко выявить по простому правилу: к ним относятся всё термины, какие есть в Православии, но нет в протестантизме. Все названия храмовых принадлежностей, которых нет у протестантов (за исключением, пожалуй, чаши), такие как: дарохранительница, престол, жертвенник, антиминс, лампада, ладан и прочее коробят слух протестанта. Все священнические и монашеские звания - патриарх, митрополит, архиерей, протоиерей, иподьякон, схимник, архимандрит, игумен, монах, инок, старец и т.п.; названия праздников, которых нет в протестантизме, например: Крестовоздвижение, Введение во Храм и Успение Богородицы, Покрова, обретение мощей такого-то святого и пр.; названия служб и явлений православной духовной жизни: литургия, утреня, повечерие, Великий Пост, паломничество, говение, земной поклон и т.д. - всё это также вызывает отвращение[Кстати, бороться с этим отвращением совсем не трудно: нужно понять значение неизвестного и "пугающе" звучащего православного понятия; разобраться, что за ним стоит. И если человек любит Истину и всё Божественное, то он непременно полюбит все эти слова и термины, как, например, искусствовед, любящий своё дело, любит все специфические слова, связанные с искусством] у протестанта. Но есть слова, особо неприятные для слуха протестанта, такие как: икона, мощи и предание. И, по всей видимости, именно к ним нужно отнести и слово "аскет", равно как и слова "отшельник" и "подвижник".
Так что же такое аскетизм?
Аскетизм происходит от греческого слова 

Слово "подвиг" не воспринимается протестантами. Это не родное им слово, и чаще всего они не понимают его богословского смысла, и знают только мирское его значение: совершить подвиг это, например, отдать на войне жизнь за Родину. "Подвиг" происходит от глагола "подвигать, двигать", и таким образом, это понятие опять же связанно с усилием, старанием, напряжением сил, тяжёлым трудом. Христианский подвижник это тот, кто тяжело трудится, прикладывает усилия для совершения различных добродетелей или служения, а также для борьбы со страстями и своей плотью.
О том же, что плоть есть главнейший враг души и духа, и самого спасения человека; что плоть постоянно воюет с духом - ясно учит Св. Писание. Ап. Пётр говорит, что плотские похоти "восстают на душу" (1 Петр. 2:11). Об этом пишет и ап. Павел: "плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы" (Гал. 5:17). Поэтому, если человек желает господства духа и победы над плотью, есть только один путь - непрестанная жестокая борьба с плотью, её ослабление и насильное порабощение. Об этой необходимости неоднократно пишет ап. Павел: "я усмиряю и порабощаю тело мое..." (1 Кор. 9:27); "те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями" (Гал. 5:24), а также: "ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете" (Рим. 8:13).
Цель же и путь аскетизма заключается именно в умерщвление дел плоти ради господства духа. Так что же в этом не библейского, что не правильного, что греховного? Аскетизм, монашество, подвижничество это не попытка спастись своими делами помимо жертвы Христа, как безумно оценивает это П. Рогозин и с ним большинство протестантов, а Богоугодная и Христом заповеданная борьба с плотью и её страстями. А что без усилий нельзя войти в Царствие Божие, о том прямо сказал Христос: "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11:12).
Если мыслить в протестантской логике, противопоставляющей благодать подвигу, то значит, и сам Христос отвергал спасение по благодати, утверждая, что только подвижники, то есть "употребляющие усилие", восхищают Царство Небесное. Поэтому, нет никакого противоречия между благодатью и подвигом, между спасением жертвой Христа и аскетизмом, между верой и делами. Напротив, между этими понятиями есть самая тесная связь, ибо если человек имеет веру и принимает благодать Божию, то эта вера и влечёт его к подвижничеству; сама благодать убеждает его бороться с плотью и её похотями, распинать и усмирять её, делать её рабом духа, чтобы Господь, а не плотские страсти, могли царствовать в душе человека.
Понятие аскетизма также непосредственно связанно с воздержанием, ибо монахи-аскеты действительно от многого воздерживаются - от женщины, от многого сна, от многой еды, от многоглаголания, от пустословия, от праздности, от свободного времяпровождения, от развлечений и даже от самой своей воли, и т.д. Но разве противно христианству понятие воздержания? Воздержанию учит Библия. Воздержание есть один из плодов Духа Святого (Гал. 5:22,23). Проповедь ап. Павла правителю Феликсу охарактеризована в книге Деяний тремя чертами, как слово "о правде, о воздержании и о будущем суде" (Деян. 24:25). "Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного" (1 Кор. 9:25). Таким образом, Евангелие даёт нам все основания для аскетизм, подвига, прикладывания усилий для своего спасения и воздержания.
Хотя протестанты так восстают против аскетизма, подвигов и всякого вообще делания для спасения, - противопоставляя всему этому спасение по благодати, по неразумию думая, что благодать как-то противоречит подвижничеству, - тем не менее, в протестантизме есть своего рода аскетизм, только он однобокий и неразвитый. Когда протестант читает Библию вместо того, чтобы предаться другим делам или пообщаться с друзьями, то он занимается аскетизмом. Он порабощает свою плоть, заставляя её долгое время находится в одном положении, воздерживается от отдыха и расслабления. Он совершает подвиг, усилие, когда пытается сосредоточить всё внимание на словах Библии и вникнуть в их смысл. Таких аскетов я встречал среди студентов ДХУ, которые всё время занимались учёбой, хотя таковых было немного. В то время, когда другие студенты отдыхали, общались и играли в спортивные игры, эти усиленно занимались. То есть, они воздерживались от игр, общения и отдыха, и занимались подвижничеством, усиленным трудом. А кто на своём опыте испытал тяжесть умственных занятий, особенно творческих, тот знает, что этот труд и утомительнее физического. Ректор наш, например, как-то рассказывал нам, студентам, о своём графике жизни в одно время, что он одну ночь спал 8 часов, другую 4, а третью вообще не спал. И всё это он делал ради своего служения и богословских занятий.
Так вот, если оценивать аскетизм и подвижничество как П. Рогозин, то об этих студентах и нашем ректоре нужно было бы сказать, что их ревность к богословским занятиям "искажает Божий путь спасения" и "умаляет искупительную жертву Христа". На это протестанты скажут, что ведь эти подвижничают не для того, чтобы заслужить спасение, а по любви к Богу, а монахи совершают подвиги ради спасения. На самом же деле, мотив обоих сторон очень схож. Ведь если расспросить протестанта: "почему ты столько занимаешься?", то он ответит: "я чувствую призвание заниматься богословием, и делаю это ради любви ко Христу и ради спасения и назидания ближних". Если же спросить дальше: "а что будет, если ты прекратишь этим заниматься? Не будешь читать, не будешь проповедовать?". На это протестант ответит: "я не могу и не хочу прекращать занятия, и если я отвергну призыв и призвание Божие, то это будет очень плохо. Это будет означать, что я не раб Божий, и что я не люблю Христа, раз не желаю исполнять Его волю, а кто не любит Христа, тому анафема". Таким образом, протестант воздерживается, подвижничает и усиленно трудится во многом по тем же мотивам, по которым трудится и православный аскет - ради любви к Богу, ради спасения и Царствия Небесного. Оба, понимая, что спасение по благодати, однако, никоим образом не отвергают усилий и труда для его достижения (или для пребывания в нем).
В любом случае, Библия ясно учит нас, что для достижения Царствия Небесного необходимо усилие, труд, подвиг, воздержание, и что всё это никоим образом не противоречит спасению по вере и благодати, и именно вера и благодать и производят в душе христианина стремление к подвигу и борьбе с плотскими страстями, чтобы Христос, Которого душа возлюбила, смог жить и действовать в ней. Именно любовь ко Христу и желание теснейшего с Ним единения и есть главная основа и мотив аскетизма. И если в протестантизме аскетизм существует только в некоторых своих проявлениях, то православные аскеты создали целую науку самосовершенствования[Книг по аскетизму в Православии много, но, пожалуй, самые классические это "Лествица" (т.е., духовная лестница к вершинам святости) св. Иоанна Лествичника, "Невидимая брань" Никодима Святогорца, "Добротолюбие" и труды Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинов]. Они на основании многовекового аскетического опыта многих подвижников (и своего личного), на основании их побед и падений, с большой точностью выявили взаимосвязи одних страстей с другими; выявили, например, что чреemвоугодие тесно связано с блудными пожеланиями, и очень препятствует молитве. Отсюда пост - первое правило всех подвижников.
Аскеты выявили также, что святость достигается только непрестанным памятованием о Боге, что праздность, рассеянность, леность, несобранность и расслабленность мысли не может привлечь в душу благодать и вытесняет из неё Духа Святого - отсюда второе важнейшее правило - непрестанное призывание имени Божия, творение Иисусовой молитвы (во исполнение, к тому же, заповеди "непрестанно молитесь"). Аскетизм учит распознавать и определять страсти в своей душе, указывает средства борьбы с каждой из них, и даёт многие примеры победы над страстями другими христианскими подвижниками. Одним словом, аскетизм это христианская наука о святости и самосовершенствовании, или же о пути к бесстрастию; о путях стяжания Духа Святого; о средствах борьбы духа с плотью.
И весь аскетизм мыслится, безусловно, не как самостоятельный путь спасения вне благодати, как по безумию трактуют протестанты, а только посредством благодати! Только благодатью Божией человек грешный может достичь святости, но благодать не действует без человеческого согласия, без усилий с его стороны. Спасение совершается только в синергизме Божественной и В этих словах мы видим: человеческой воли, только при ус Слово ловии добровольного отклика человека на Божию благодать, только при усилии со стороны человека: "Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его". Эти Христовы слова не отменяют и никак не противоречат спасению по благодати.
Цель аскетизма и есть привлечение благодати, преисполнение ею. Аскет стремиться удалить из души все плотские страсти, всю душевность, чтобы всю душу занимал Дух Святой и Его благодать. И аскетизмом должны заниматься, естественно, не только монахи. Св. Иоанн Златоуст говорил, что монах отличается от мирянина только тем, что он не женат. Во всем остальном идеалы остаются одинаковыми, ведь Христос всех, а не только монахов, призывал к совершенству, к отречению от мира, к борьбе с плотью.
Теперь нужно сказать, что разумные протестанты с широким богословским кругозором, особенно те, кто читают не только свои, но и православные богословские книги и отцов Церкви, могут понять смысл аскетизма и признать его правомерность и необходимость. Но таковых смущают всё же особые подвиги монахов-аскетов, которые, к примеру, спали во гробах или сидя на стуле, позволяли комарам впиваться в их тело, носили вериги (цепи) и жили в башне (столпничество), раздетыми ходили по морозу и , ит.п. Какое же может быть основание для таких подвигов? - спрашивают протестанты.
Для начала заметим, что подобные подвиги явление крайне редкое, и далеко не всякий монах занимается таким самоизнурением. Это было в древности, когда люди были чрезвычайно здоровы; сейчас же, по всеобщей физической, душевной и духовной слабости, многие из этих подвигов никто (или почти никто) не совершает. Но Православие, безусловно, в самом принципе допускает такое особое подвижничество. Так чем же его объяснить?
Объясняется это всё теми же евангельскими предписаниями о необходимости усмирять, порабощать, умерщвлять и распинать свою плоть и её дела (см. 1 Кор. 9:27/h4; Гал. 5:24; Рим. 8:13). Плоть со своими похотями восстаёт на душу и противится духу. Посему, плоть нужно всячески усмирять и ослаблять - вот простое и ясное Евангельское учение. Принцип, заповедь одна, но применение этой заповеди может быть многоразличным.
Хочу ещё раз напомнить, что по принципам протестантской герменевтики (с чем согласны и православные), заповедь отличается от применения: заповедь одна (например, любить ближнего), а воплощать в жизнь эту заповедь можно весьма многими способами, в самых различных ситуациях. Вот так же многоразлично может быть воплощение заповедей усмирять и порабощать свою плоть. Некий аскет, например, сбивает себе гроб и спит в нём. Он делает это для того, чтобы более ясно и деятельно помнить о смерти, о предстоящем ответе на Страшном Суде. Эта мысль о смерти помогает ему удаляться от греха (как говорили святые отцы: "помышляй о часе смертном, и не согрешишь"), постоянно держать свою мысль Боге, "помышлять о горнем". И если такое дело приносит ему духовную пользу и помогает ему ходить в страхе Божием, то за что можно обвинять его?
Протестант основывает (на словах) своё мировоззрение на Библии. Какими же местами из Писания протестант может доказать, что спать во гробе грешно и не позволительно? Другие монахи, видя, как плоть восстаёт против духа, с какой силой она требует своего (см. Гал. 5:19,20) для её усмирения и ослабления носят вериги, терпят холод и прочее. Всё это - для порабощения плоти, ибо когда плоть утруждена, когда она страдает, то становится слабой, и не может уже противодействовать духу, как сказано: "страдающий плотию перестает грешить" (1 Пет. 4:1). Это - важнейший закон духовной жизни, и в этих словах - главнейшее основание для всех постов и особых подвигов, которые совершают аскеты.
Всё это не трудно понять из Св. Писания, но с протестантами об этом говорить крайне трудно именно потому, что они, как правило, не понимают, о чём идёт речь: какие такие могут быть плотские искушения, ради чего нужно прибегать к таким жёстким мерам борьбы с плотью? В том всё и дело, что протестанты не знают на самом деле, какую брань ведёт диавол с теми, кто решился всецело посвятить себя Богу по истине, а не по сектантски. Дьявол с великой неистовостью обрушивается именно на монахов, и так как главное орудие его есть плоть, то и действует он прежде всего через плоть. Потому и противостоять диаволу нужно с особым подвигом, прибегая в крайних случаях и к чрезвычайным средствам. К примеру, монах посвятил своё девство Христу, и решился он на это по истине - по Божьему призванию и влечению Духа. Дьяволу это ненавистно, и он обрушивает на него блудную брань, и бесконечным потоком посылает ему многие блудные помыслы. Монах же этот желает не только самим делом не согрешить, но и даже в мыслях не иметь блудных пожеланий (ср. Мф. 5:28). Потому он ежеминутно с великим усилием противоборствует этим искушениям, непрестанно пребывая в молитве. И для победы над этими искушениями, для ослабления плоти, он также пребывает в строгом посте. Это помогает, но плоть не побеждается полностью. И тогда этот монах подвергает своё тело особому изнурению - спит сидя, терпит холод, кладёт с молитвой множество поклонов, отдаёт своё тело комариным укусам и т.п. Плоть от этого крайне ослабевает и страдает. Её внимание переключается на перенесение этих страданий, и она уже не может как прежде томиться блудными мечтаниями, ибо "страдающий плотью перестаёт грешить". И таким образом, через страдание монах спасает свою душу от греха. Так что же здесь преступного и недопустимого? Напротив, такие подвиги свидетельствуют о великой любви этого монаха к Богу, о сильнейшем желании сохраниться от греха любыми путями…
И, кстати, именно после слов о прелюбодеянии в сердце (Мф. 5:28), Христос говорит: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело было ввержено в геену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки её…". Здесь не имеется в виду, конечно же, что глаз или руку нужно буквально вырывать и отсекать, но, безусловно, Христос здесь говорит о каких-то очень жестких средствах борьбы с соблазнами, с плотскими похотями. И особые аскетические подвиги есть ревностное исполнение данных заповедей Христа.
Но, повторю, обо всём этом говорить с протестантами крайне трудно из-за отсутствия у них опыта настоящей духовной брани. Протестанты не знают глубоко, что есть грех. Они борются, как правило, только со внешними самыми грубыми и явными грехами, а не с внутренними, как православные аскеты. Дьявол же, как правило, не искушает протестантов явными грехами, а если искушает, то только слегка, чтобы обмануть и так сказать поиграть с ними, чтобы у них было ощущение, что они борются с грехом, а значит - находятся на верном пути.
Кроме того, протестанты, как правило, вообще не ставят себе таких великих задач, как православные монахи, то есть - достичь бесстрастия, постоянно держать свою мысль в Боге и не допускать в душу ни одной греховной или даже пустой и праздной мысли. Не зная же по истине духовной брани, происходящей от плоти, и не имея должного понятия о святости и духовном совершенстве, протестантам бывает так трудно понять смысл православного подвижничества. Потому, вместо подражания и благоговения перед великими православными христолюбцами и подвижниками благочестия, они поносят и хулят их.
Напоследок хочу посоветовать моему протестантскому читателю посетить православные монастыри и самому посмотреть на монахов, на их жизнь, на их лица, на их поведение. Скажу о себе, что когда я стал бывать в монастырях и впервые увидел монахов и монахинь, то я очень удивлялся им. Моё во многом тогда ещё протестантское мировосприятие очень поражало их всецелое посвящение Богу. Лица настоящих монахов очень ясно выражают чистоту, кротость, послушание, скромность, духовную радость, благодать. Многие просто светятся от молитвы. Многие из них совсем молоды, но они всей душой возлюбили Господа и посвятили Ему себя всецело - и душой и телом. Со всей ответственностью пред Богом, своей совестью и людьми я могу заявить, что до знакомства с Православием я не видел ничего подобного. Протестантизм не способен воспитать и явить такие чистые души, но зато очень способен хулить то, до чего он не может достичь…
Итак, монахи не бегут с поля боя, а являются лучшими воинами Христа. Они не бегут от мира, но многоразлично служат ему и спасают его своим молитвами и святой жизнью, своим примером. Монахи всегда были первыми благовестниками и проповедниками. Кирилл и Мефодий, обратившие Русь в христианство, были монахами. Отцы и учителя Церкви, много проповедовавшие, написавшие множество величайших духовных книг и боровшиеся с многими ересями, были монахами. Монастыри всегда были (и есть) не отшибами, а центрами Православия, центрами духовного общения и просвещения, центрами образования и книгоиздания. Монахи это не ленивые рабы у Христа, а Его главная опора и оплот в этом мире.
Безбрачие не только не является ересью и отступлением, как говорят протестанты. Безбрачным был Сам Христос и многие другие величайшие святые. О безбрачие ради Царствия Небесного как о лучшем и прево. И это положение, ставшее законом в баптизме и во многих ветвях протестантизма, самым ярким и показательным образом утвердил именно основатель протестантизма Мартин Лютер, который, сходнейшем пути для совершенных и могущих понести проповедовал Христос, ап. Павел и все учителя и пастыри Церкви с самой древности. И в Церкви с самого начала были христиане, добровольно посвятившие своё девство Христу.
Аскетизм не противоречит спасению по благодати, и не отвергает её, как утверждают по безумию протестанты. Напротив, аскетизму, подвижничеству, необходимости прикладывать усилия для спасения, воздержанию, усмирению плоти ясно учит Евангелие. Цель аскетизма - исполнение Духом Святым и достижение спасения и святости благодатью Божией.
Таким образом, протестантские аргументы против монашества при их рассмотрении оказываются крайне неосновательными, неразумными, клеветническими, лживыми, еретическими и противоречащими Библии. И это есть одна из причин, по которой я уже не могу оставаться баптистом и вообще протестантом.
Протестанты и православные по-разному относятся к посту. Если на вопрос: "в чем состоит эта разница?" ответить совсем кратко, то можно сказать так: православные часто постятся; протестанты же постятся редко, от случая к случаю, или вообще не постятся. Регулярно постящийся протестант явление возможное, но не типичное и даже странное. Если же отвечать на выше поставленный вопрос подробнее, то можно обозначить три пункта, по которым наше отношение к посту отличается от православного.
I. Православные придают весьма большое значение посту. Мы же считаем пост делом не существенным, маловажным, частным и "не влияющим на спасение", как бы мы сказали.
II. Православные имеют общие посты, установленные на все времена для всех её членов. К ним относятся четыре длительных (многодневных) поста в течение года, включая самый важный - Великий Пост; еженедельные однодневные посты каждую среду и пятницу [За исключением так называемых сплошных седмиц (недель) и святок, когда посты с среду и пятницу отменяются по причине, например, празднования трёх величайших праздников христианства - Пасхи, Рождества и Троицы. Пост отменяется в эти дни по причине радости праздника] и ещё три однодневных поста: на крещенский сочельник (18 января), в день памяти усекновения главы Иоанна Крестителя (11 сентября) и на праздник Крестовоздвижения (27 сентября).
У нас же ничего подобного нет; мы считаем, что нельзя человека заставлять регулярно поститься в определенные дни: посты это личное дело каждого, как, например, милостыня: хочешь - подавай часто, хочешь - редко или никогда. Никаких обще-баптистских постов у нас не имеется. Разве что иногда пастор может призвать свою общину попоститься какое-то время, как правило - один день, ради какой-либо нужды (как он может призвать общину сделать пожертвование на определенное дело), но и такой призыв (равно как и призыв к пожертвованию) не вменяется членам общины в обязанность. Да и то, многие современные, особенно западные протестанты, не практикуют и таких редких, по назначению пастора, общих постов.
Кроме того, в общеизвестных православных постах протестанты усматривают противоречие со словами Христа: "А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6:16-18). Православные же, как мы считаем, объявляя о своих постах, уже постятся не "втайне".
III. Православные практикуют частичное пощение, когда они отказываются не от всякой пищи, а только от скоромной. Мы же не признаём и не используем такого поста. Более того, в связи с тем, что православные разделяют пищу на постную (разрешённую в пост) и скоромную (в посты запрещённую), мы сравниваем их с упоминаемыми Ап. Павлом отступниками от веры, которые в частности запрещают "употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением" (1 Тим. 4:3).
О сказанном в этих трёх пунктах мы и будем говорить в данной главе.
I. О важности поста
В Православии пост занимает весьма значимое положение в духовной жизни как одно из важнейших средств аскетизма и борьбы духа с плотью, о чём мы уже начали разговор в предыдущей главе "О монашестве". Но так как протестантизм не признаёт необходимости аскетизма и усмирения плоти в деле спасения человека, то и пост протестант считает вещью маловажной и не имеющей большого смысла. Итак, насколько важен пост в духовной жизни истинного ученика Христова?
Для начала рассмотрим несколько отрывков из Библии о посте. Христос предсказал, что после Его отшествия верующие "будут поститься..." (Мф. 9:15). Ап. Павел свидетельствовал о себе, что он был "часто в посте" (2 Кор. 11:27). Пророчица Анна "день и ночь служила Богу постом и молитвой" (Лк. 2:37). Пророк Давид говорит о себе: "Колена мои изнемогли от поста" (Пс. 108:24). О православных всё это можно сказать: они действительно по слову Христа постятся, и постятся, подобно Ап. Павлу, часто; многие же из них, как пророчица Анна, постоянно пребывают в посте, не редко при этом, как праведный Давид, даже изнемогают от него.
О себе мы такого, положа руку на сердце, никогда не скажем. Для исследования я нарочито спрашивал многих своих знакомых баптистов-активистов о том, как часто они постятся. Некоторые не постились ни разу в жизни; другие 2-3 раза в жизни (по одному дню). Только весьма не многие из нас могут найтись таких, о которых можно было бы сказать, что они бывают "часто в посте".
Если мы пожелаем выяснить отношение к посту древней Церкви, то мы без труда заметим, что ему придавалось весьма важное значение: отнюдь не такое, какое придают ему протестанты. Приведём два древнейших свидетельства из мужей апостольских.
Св. Поликарп Смирнский (I-II в.), ученик Иоанна Богослова, заповедует христианам: "Потому, оставив суетные и ложные учения многих, обратимся к преданному изначала слову; будем "бодрствовать в молитвах", пребывать в постах…" [Послание к филиппийцам, гл. 7]. Из этих слов понятно, что в первенствующей Церкви не один Ап. Павел часто был в постах, но частое пощение заповедовалось всем верующим.
Св. Ерм (I в.) описывал обычную свою жизнь: "Однажды во время поста сидел я на горе, благодарил Господа за то, что сделал Он со мною, и увидал вдруг пастыря рядом с собою. И спрашивает он у меня:
- Что так рано пришел ты сюда?
- Потому, господин, что нахожусь на стоянии.
- А что такое "стояние"?
- То есть пощусь, господин, - объяснил я.
- Каким же образом, - спросил он, - постишься ты?
- Как постился по обыкновению, так и пощусь.
- (…) Итак, если соблюдешь заповеди Господа и к ним присоединишь эти стояния, то получишь великую радость, особенно если будешь исполнять их согласно с моим внушением... Этот пост, - продолжал он, - при исполнении заповедей Господа очень хорош, и соблюдай его таким образом: прежде всего, воздерживайся от всякого дурного слова и злой похоти и очисти сердце свое от всех сует века сего. Если соблюдать это, пост у тебя будет праведный. Поступай же так: исполнив вышесказанное, в тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды; а то из пищи, что ты в этот день сбережешь таким образом, отложи и отдай вдове, сироте или бедному; таким образом ты смиришь свою душу; а получивший от тебя насытит свою душу и будет за тебя молиться Господу. Если будешь совершать пост так, как я повелел тебе, то жертва твоя будет приятна Господу, и этот пост будет написан, и дело, таким образом совершаемое, прекрасно, радостно и угодно Господу" [Ерма, кн. 3, подобие 5, пункт 1-3].
Итак, как мы видим, в жизни древних христиан пост был частым и обычным явлением, на что указывают выражения: "однажды во время поста" и "как постился по обыкновению, так и пощусь", а также существование особого термина "стояние", для обозначения еженедельных постов в среду и пятницу (ниже будет дано этому подтверждение).
Таким образом, даже при беглом рассмотрении места, которое занимает пост в учении Библии и практике древней Церкви, при не желании слепо упорствовать становится очевидным, что православное отношение к посту намного ближе к библейской и древне-церковной практике.
II. Об общих постах для всех верующих
В Ветхом Завете мы много раз встречаем примеры всенародного поста.
Иоил. 1:14: "Назначьте пост" - пост общенародный, обязательный для всех, верных Богу.
Иоил. 2:15: "Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание". "Назначьте пост", конечно же, общенародный.
Зах. 8:19: "Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир". Из этих слов понятно, что у иудеев ежегодно было несколько всеобщих постов.
Есф. 4:3: "Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у Иудеев, и пост, и плач, и вопль; вретище и пепел служили постелью для многих".
Иер. 36:9: "В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусemалим из городов Иудейских".
2 Пар. 20:3: "И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее".
Ион. 3:5: "И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого".
Этих мест вполне достаточно чтобы убедиться, что в Ветхом Завете пророками, священниками и царями назначались посты, обязательные для всех, и никто не считал их насилием над собой или чем-то невозможным. У евреев были всенародные постоянные ежегодные посты. О таком посте, кстати, упоминается и в Новом Завете: "пост уже прошел" (Деян. 27:9) [В толковой Библии под редакцией А.П. Лопухина это место толкуется так: "'пост уже прошел…' - разумеется, без сомнения, важнейший пост дня очищения - 10 дня месяца тифи (во II половине октября)". Если же Лука в Деян. 27:9 имел в виду пост христианский, то в таком случае это ещё одно подтверждение того, что у христиан с первых времён были общие посты (о других подтверждениях смотреть ниже)]. Кроме того, у благочестивых иудеев был обычай поститься два раза в неделю, что видно из молитвы фарисея: "пощусь два раза в неделю" (Лк. 18:12). Понятно, что когда И. Христос осудил молитву этого фарисея, то осудил Он его не за то, что он постился, а за то, что он хвалился своими делами пред Богом. Сам же по себе обычай регулярно поститься был, безусловно, богоугоден.
Итак, как Христос не заставляет, а только предлагает нам исполнять Его заповеди, ибо их исполнение приносит человеку жизнь, добро и благословение (ср. Втор. 30:11-20), так и Церковь никого не заставляет, а только предлагает, благословляет и заповедует поститься для своей же духовной пользы. И если в ветхозаветной Церкви были всеобщие посты, то почему их не может и не должно быть в Церкви новозаветной? Естественно, что общие посты могут и должны быть и в Церкви.
Мы можем возразить и сказать: "в Израиле общенародные посты объявлялись по какой-то нужде, как и мы сейчас объявляем пост по какой-то нужде, а какая нужда у православных постоянно поститься"? Во-первых, у евреев были не только посты по конкретной нужде, но и установленные на все времена не зависимо от жизненных. И таким образом, через страдание монах спасает свою душу от греха. Так что же здесь преступного и недопустимого? Напротив, такие подвиги свидетельствуют о великой любви этого монаха к Богу, о сильнейшем желании сохраниться от греха любыми путями… обстоятельств. Во-вторых, нужда у православных самая крайняя, самая очевидная и самая постоянная - освящаться и усмирять плоть. Для этой нужды Церковь и установила регулярные посты, и главнейшие из них (Великий Пост и посты в среду и пятницу) были установлены ещё в I веке самими Апостолами.
В Постановлениях Апостольских [Постановления Апостольские - древнейший памятник христианской письменности, который представляет собой учение святых Апостолов, записанное св. Климентом Римским. В последующее время эта ценнейшая книга была искажена врагами Церкви, которые сделали в ней свои нечестивые добавления. По этой причине Шестой Вселенский Собор (691-692 гг.) отверг её как не во всём богодухновенную ради того еретического, что было в неё внесено. Буквально Собор определил так: "Так как в этих (апостольских) правилах повелено нам принимать тех же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которые некогда иномыслящие ко вреду Церкви привнесли нечто подложное и чуждое благочестия и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения, то мы ради назидания и ограждения христианнейшей паствы эти Климентовы постановления благоразсмотрительно отвергли (apobolhn pepoihmea), отнюдь не допуская порождений еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистое и совершенное апостольское учение". Поэтому, можно сказать, что эта книга занимает сейчас в Церкви место полу тайной книги, книги не для всех, а для "мудрых" (ср. 3 Ездр. 12:37,38; 14:46, 47), которую можно читать только зрелым христианам, утверждённым в вере, способным отличать истину от ереси. Приводимые же здесь (и в других местах моей книги) цитаты из Постановлений Апостольских совершенно истинны, и полностью согласуются со Священным Писанием и Преданием Церкви. А что не нужно панически бояться того, что в данной книге есть нечто еретическое, можно понять на таком примере. "Свидетели Иеговы", как известно, сознательно исказили текст Священного Писания, как сделали это древние еретики с Постановлениями Апостолов. Поэтому, естественно, если Церковь на Соборе касалась бы этой темы, то она, естественно, запретила бы употребление "Нового Мира". Но это вовсе не значит, что расселисты исказили всю Библию. Они исказили в процентном отношении только небольшую её часть. Большинство же библейского текста осталось неискажённым (если не считать бездарного перевода, который в определённом смысле искажает всю Библию: но к Апостольским Постановлениям это не относится, так как еретики пользовались оригиналом, и не искажали переводом весь текст). Таким образом, хотя Библия "Нового мира" искажена еретиками, то всё же большая часть этой Библии свидетельствует истину. Вот так же обстоят дела и с "Апостольскими Постановлениями": она несёт истину, апостольское учение, которое мудрый и утверждённый в вере человек может отличить от привнесённой ереси, как он сможет без труда отличать и отвергать расселистские вставки при чтении "Нового мира". И главное, что читать "Новый мир" даже зрелым христианам нет сейчас необходимости (разве что для исследования расселизма), так как у нас есть отличная православная Библия в синодальном переводе. С "Апостольскими Постановлениями" же всё иначе: к нам они дошли только в искажённом виде, потому богослову и приходится осторожно с ними работать, что бы больше узнать о том, чему учили Апостолы. Читать же их непосвящённым и не наученным вере опасно и непозволительно] говорится об этих 2-х однодневных еженедельных постах: "В среду же и в пятницу Он повелел нам поститься, - в ту, потому что тогда Его предали, а в сию потому, что тогда Он пострадал; а разрешать (т.е. прекращать) пост повелел Он в седьмой день, как пропоет петух, в самую же субботу повелел Он поститься не потому, что должно поститься в субботу, когда закончено творение, но потому, что должно поститься в ту только субботу, в которую Создатель был еще под землею [Так заведено в Православной Церкви до сего дня: в субботу не постятся кроме Великой Субботы перед Пасхой, именно тогда, когда Христос лежал во гробе]"[Книга 5, глава 15].
В Дидахе [Или "Учение Двенадцати" - ценнейший памятник апостольской Церкви. Данная книга была написана в I веке со слов Апостолов. Уже Климент Римский (I в.) хорошо знал и высоко ценил эту книгу] говорится о том же: "Посты же ваши да не будут с лицемерами (т.е. фарисеями), ибо они постятся во второй и пятый день недели [Именно об этих двух днях поста и упоминал фарисей в своей молитве (Лк. 18:12)]. Вы же поститесь в четвертый и шестой" (Дидахе, 8:1). Воскресенье считался "первым днём недели" (см. Мк. 16:2,9). Следовательно, четвертый и шестой день это среда и пятница. В эти дни Апостолы заповедали христианам поститься. И дали они такую заповедь верующим, естественно, по внушению от Духа Святого, и, более того, по прямому повелению Самого Христа, что видно из вышеприведенной цитаты из "Постановлений Апостольских". И Православная Церковь до сего дня тщательно исполняет данное Христово повеление, переданное Церкви Апостолами! Как это поразительно! Мы понятия не имеем ни о каком посте в среду и пятницу, а данный обычай был у христиан с самых апостольских времён, с самого начала! Очередной раз хочется спросить протестантов: как же мы вернулись к жизни древней Церкви, что даже о постах, установленных Апостолами, ничего не знаем?
Здесь важно отметить, что избрание среды и пятницы как дней поста имеет глубокий смысл, который заключается отнюдь не в том только, чтобы дни поста христиан не совпадали с постами фарисеев. Сам Христос пророчествовал о Своих учениках и последователях: "Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься" (Мф. 9:15). Здесь Христос говорит не только в общем - о том, что верующие будут поститься после Его вознесения: Он здесь указывает и на дни, в которые христиане будут поститься. Как известно, в среду Иуда предал Христа, а в пятницу Он был распят, другими словами был отнят у учеников. Поэтому, эти дни, как наиболее скорбные в жизни Христа, и были определены Апостолами (а лучше сказать - Самим Христом) для поста, на что, кстати, указывают и "Апостольские Постановления".
То, что посты в среду и пятницу были установлены ещё при жизни Апостолов, признаёт известнейший баптистский богослов В. Санников: "Постные дни ("во второй половине I века"), как правило, назначались на среду и пятницу и часто назывались словом, заимствованным из военной лексики, - station, то есть день стражи или вахты" [В. Санников, "Двадцать веков христианства", том I, стр. 147]. Так что апостольское установление для Церкви этих постных дней не подлежит сомнению, ибо разве могли в I-м веке быть установлены дни поста без воли Апостолов? Важно, что В. Санников указывает и на то, что дни эти назывались так, как и называет их св. Ерм в вышеприведенной цитате - "стояние", иначе "стража". То есть, мы имеем ясные свидетельства того, что уже с I-го века посты в среду и пятницу были обычаем у христиан.
Также и сорокадневный Великий Пост перед Пасхой имеет весьма древнее происхождение. Он был установлен, прежде всего, в память и подражание сорокадневному посту Иисуса Христа (см. Мф. 4:2), а также сорокадневному посту таких великих Божьих пророков, как Моисей и Илия (см. Исх. 34:28; 3 Цар. 19:8). Вот некоторые древние упоминания о Великом Посте, который чаще всего именовался "четыредесятница" (т.е. четыре десятка дней, 40 дней) и до сих пор так именуется в церковных книгах Православной Церкви.
В Постановлениях Апостольских говорится: "После этих дней да сохраняется у вас пост четыредесятницы, содержащий воспоминание о жительстве и законоположении Господнем, а совершайте пост этот прежде поста пасхального [Пост пасхальный - страстная неделя перед Пасхой. В Православии всё так в точности и происходит до ныне: 40 дней Великого Поста предваряет страстную неделю, то есть пасхальный пост], начиная его со второго дня, а оканчивая в пятницу" [Книга 5, глава 13]. То есть, Пасхе у древних христиан предшествовал предпасхальный пост, которому, в свою очередь, предшествовал сорокадневный пост. Эти два, один за другим следующих, поста обобщённо называются сейчас в Православии "Великим Постом", хотя непосредственно недельный предпасхальный пост всегда выделяется, особенно в богослужении, и называется "страстной седмицей". Таким образом, очевидно, что Великий Пост, включающий в себя "четыредесятницу" и "пост пасхальный", был установлен самими Апостолами, равно как и посты в среду и пятницу. И Православная Церковь доныне практикует все эти посты; мы же ничего о них не знаем - их близко нет в нашей церковной жизни!
В. Санников, кстати, и здесь подтверждает тот факт, что древняя Церковь практиковала пост перед Пасхой: "Крещение ("во II веке") совершалось, как правило, после поста в ночь на Пасху…" [В. Санников, "Двадцать веков христианства", том I, стр. 146].
Какой вывод напрашивается при рассмотрении этих свидетельств? Самый очевидный, к которому я всё с большей убеждённостью приходил по мере изучения и сравнения одного за другим вопроса, в котором нет единства в Православии и протестантизме: какой догмат, практику и учение ни взять, Православие сохраняет верность Библии и учению апостольской Церкви, а протестантизм отступил от истины. Как же после этого я могу верить протестантам, так смело заявляющим, что они вернулись к жизни и учению древней Церкви? Это же полная иллюзия и злостный обман, губящий многие души. После моего обращения в Православие баптисты стали считать меня, естественно, врагом и отступником. Но что Вы мне предлагаете? Что нужно было мне сделать? Принять Истину, которая только мне и нужна, или, чтобы не огорчать Вас,, и постятся, подобно Ап. Павлу, продолжать верить и другим проповедовать ложь, оставаясь баптистом? Поэтому, простите меня, бывшие мои братья протестанты, но, как говорится, "Платон мне друг, но истина дороже"… Однако же, продолжим разговор о посте.
Св. Иоанн Златоуст также поучал свою паству правильно поститься. В одной из его речей, которая так и озаглавлена: "Поучение на второй седмице четыредесятницы", есть такие слова: "Мы провели уже вторую неделю поста; но не на это будем смотреть, потому что провести пост значит не то, чтобы провести только время, но чтобы провести его в добрых делах. Подумаем о том, сделались ли мы рачительнее, исправили ли какой-нибудь из своих н едостатков, омыли ли грехи. Во время четыредесятницы, обыкновенно, все спрашивают о том, сколько недель кто постился; и можно слышать от одних, что они постились две, от других, что - три, а от иных что - все недели. Но что пользы, когда мы проведем пост без добрых дел? Если скажет иной: постился всю четыредесятницу, - ты скажи: я имел врага и примирился, имел привычку злословить и оставил ее, имел привычку клясться и оставил эту дурную привычку. Для мореходцев нет никакой пользы в том, что они переплывут большое пространство моря, но полезно для них, когда приплывут с грузом и со многими товарами. И для нас нет никакой пользы от поста, когда мы проведем его просто, как-нибудь и суетно".
Эти слова ясно свидетельствуют о том, что для христиан времён св. И. Златоуста сорокадневный пост был всеобщей церковной практикой, установленной, конечно же, намного раньше IV века, когда жил И. Златоуст. И поучение великого учителя Церкви о том, что истинный пост состоит в добрых делах и исправлении жизни, не говорит, естественно, о ненужности телесного поста, а о том только, что таковой пост бывает бесполезным, если не сопряжён с делами благочестия, с чем православные полностью согласны. Потому в посты Церковь призывает своих чад воздерживаться не просто от вкусной пищи, а и от многословия, пустословия, "безгодного" сна [Выражение, взятое из вечерних молитв, которое обозначает сон без телесной пользы и надобности, сон ради неги и удовольствия], супружеского сожития [Согласно слову Ап. Павла: "не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе…" (1 Кор. 7:5). Потому в посты Церковь не благословляет венчаться и начинать супружескую жизнь. Кроме того, хотя есть, пить и радоваться Церковь в принципе не запрещает, но свадебное веселие по духу и настроению не соответствует воздержанному, молитвенному и внутренне-аналитическому настроению поста] и всякого приятного по плоти времяпровождения; больше чем обычно творить дел милосердия; больше чем обычно молится Богу и читать Священное Писание и душеполезные книги [Протестант скажет, что всегда, а не только во время поста нужно молиться, читать Библию и духовные книги, делать добрые дела, воздерживаться от многословия и пустословия и т.д. Это - действительно так. Но христианин отнюдь не всегда может постоянно с одинаковой ревностью упражняться в добродетелях. Да, он всегда обязан читать Библию, но в пост он должен ещё усерднее и больше её читать; да, он всегда должен уклоняться от многословия, в пост он должен быть особенно немногословен; да, он всегда должен творить дела милосердия, но в пост он должен сотворить больше милости, чем в другое время; да, он всегда должен молиться и посещать богослужения, но в пост он должен ещё больше об этом поревновать, и т.д. Кроме того, время поста отличается не только степенью ревности к духовной жизни и воздержания от всякого греха. В посты человек ради воздержания отказывается от того, что вообще не является грехом, как то: вкусная пища, супружеское общение, женитьба, празднование дней рождения, хождение в гости, туристические поездки, второстепенные житейские дела и т.п., от чего не нужно отказываться, когда нет поста. Серафим Саровский, например, по средам и пятницам "безмолвствовал", посвящая эти дни молитве, а в другие дни принимал людей], и обязательно исповедаться в грехах и причаститься. А чтобы подготовится к исповеди и причастию нужно осмыслить последнее время жизни, выявить свои недостатки и грехи, раскаяться в них и примириться со своими ближними. Перед исповедью в храме многие исповедующиеся просят предварительно у всех прощения.
То есть, в Православии пост отнюдь не понимается просто как воздержание от еды, а как время, когда нужно приложить наибольшие усилия для своего спасения, для добрых дел, для молитвы, для всякого духовного делания, как написано у пророка: "Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся" (Ис. 58:6,7).
Поэтому, именно духовная составляющая является важнейшей в посте. Но это не значит, что телесное воздержание не нужно. Воздержание нужно во всём, не только, например, в словах, но и в пище, что также является важной составляющей поста, поскольку способствует обузданию и усмирению плоти. Потому Ап. Павел свидетельствовал о себе: "усмиряю и порабощаю тело мое" (1 Кор. 9:27). И усмирял он своё тело, конечно же, посредством поста и всякого телесного воздержания.
Воздержание, уместно вспомнить, является одним из важнейших плодов Духа Святого (см. Гал. 5:22,23) и настолько важной частью евангельской проповеди, что содержание речи Ап. Павла к правителю Феликсу описано в Библии как слово "о правде, о воздержании и о будущем суде" (Деян. 24:25). Поэтому, зная о важности всяческого, в том числе и телесного, воздержания Православная Церковь и призывает своих чад, следуя Ап. Павлу, усмирять и порабощать свою плоть, прежде всего посредством постов, и постов не на личное усмотрение, постов не раз в год или пять лет, а постов общецерковных, постов частых и регулярных.
Священник Александр Мень совершенно правильно говорит: "В чем спост четыредесятницымысл постов? Они прививают навык воздержания, обуздывают плоть, способствуют духовному совершенствованию. Они несут в себе принцип самоконтроля - важнейшего условия внутренней работы. Следование установленному посту, а не тому, который каждый изобретает для себя, есть акт добровольного принятия руководства Церкви" [А. Мень "Православное богослужение: таинство, слово и образ". - Москва, 1991 г., с. 168].
Ограничивая себя в посте во многих телесных естественных и Богом дозволенных удовольствиях (еда, питие, сон, отдых, общение и пр.), и ограничивая к себе приток обычной, часто пустой и суетной информации (обыденные разговоры с людьми, житейские дела, чтение мирских книг и газет, просмотр телепередач и т.д.) человек тем самим освобождает душу от влияния плоти и становится более способным к слышанию голоса Духа Святого, к чистой молитве, к "вниканию в себя и в учение" (1 Тим. 4:16). Как писал св. Иоанн Кронштадтский: "Легко молится Богу сердце, когда желудок не принимал пищи" [Святой праведный Иоанн Кронштадтский, "Священнику", М., изд. "Отчий дом", 2005 г, стр. 73]. Но мало кто из протестантов понимает эти духовные законы. Волейбол при молитвенном доме, постоянные шутки и смехотворство, всякие развлечения - обычная жизнь современной протестантской молодёжи. Никакого (ради Христа) телесного воздержания протестантизм почти не знает. Потому и духовность его такая слабая.
Теперь о посте в тайне. Эти слова, что следует из контекста речи Христа (Мф. 6:16-18), говорят не о том, что о нашем посте не должен знать никто и никогда, а о том, что поститься нужно не на показ "как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися", а для Бога. О том, что фарисеи постились два раза в неделю, все знали, но если бы первые не принимали на себя мрачные лица; если бы они не показывали окружающим всеми способами, что они постятся, пытаясь заслужить их похвалу, то они не были бы осуждены Христом. Когда в Ветхом Завете объявляли всенародный пост, то каждый знал о том, что его собратья постятся. Но ведь это не значит, что все постились на показ и что такой пост Бог осуждает. Наоборот, одобряет, ведь Он Сам повелевал такие посты объявлять!
Или если наш пастор призовёт свою общину попоститься в определённый день, и все мы будем знать о посте друг друга, то неужели такой пост, на наш взгляд, не может быть богоугодным, "втайне"? Неужели такой пост всегда и для всех будет фарисейским и показным, Христом осуждаемый? Зачем же тогда мы, хотя и крайне редко, постимся общими постами?
В той же нагорной проповеди, где Христос обличает фарисеев в показном посте, Он обличает их и в показной молитве, говоря, что лицемеры "любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою". Нас же Он учит молиться втайне: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6:5,6).
Итак, если Христос запретил прилюдную молитву и заповедал молится тайно, в своей комнате за закрытой дверью, то зачем же мы тогда постоянно молимся прилюдно - на всех наших собраниях? Значит, мы прямо уподобляемся фарисеям, которых Христос осудил за прилюдную, а не тайную молитву? Если нет; если мы понимаем, что не всякая не тайная, не только Богом слышимая молитва, осуждается Богом; если мы понимаем, что молитвой, которую слышат люди, всё же можно молиться не на показ, не лицемерно и не греховно, то таким же образом и поститься можно не лицемерно и не на показ даже тогда, когда о нашем посте знают другие.
Ведь если так примитивно рассуждать в остальных вопросах, как мы рассуждаем в вопросе о посте, то получится, что люди не должны знать ни о каком нашем добром деле, ни о какой нашей добродетели. Нельзя значит, чтобы люди знали, что мы не пьём водку, что мы не курим, что мы не ругаемся, что мы читаем Св. Писание, что мы не блудим, что мы ведём порядочную жизнь и т.д. Ведь они могут нас за это похвалить, и тогда мы потеряем награду от Бога, как потеряли её фарисеи, которых хвалили люди. Так или нет? Конечно не так.
Всё дело в сердечных мотивах. Если человек искренне делает добро для Бога, то он получит свою награду, даже если о его добрых делах и знают люди. Если же человек всё делает лицемерно ради похвалы людской, ради своего тщеславия, то он не будет иметь награды от Бога, даже если его никто из людей никогда и не похвалил. Ап. Павел пишет: "посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога" (1 Кор. 4:5; ср. Евр. 4:12).
Итак, хорошо делать добрые дела тайно, но часто нет никакой возможности, а главное - необходимости, скрывать свои добрые дела и христианский образ жизни, как сказал Христос: "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5:16). Если бы все добрые дела нужно было бы скрывать, то нельзя бы было и в храм пойти на службу; нельзя было бы никому сказать: "я не курю; я жене не изменяю; я не употребляю наркотиков; я читаю Библию", и т.д.
Нужно также сказать, что общеизвестность православных постов по сути и не устраняет тайну поста, ибо как могут люди знать о том, насколько усердно мы постимся? Кто знает о том, что и сколько мы едим в пост, сколько молимся, сколько и каких тайных дел милосердия делаем, сколько читаем Св. Писание и т.д.? Этого окружающие чаще всего не знают. И кстати, изучая Православие я скоро заметил именно то, что скрывать и утаивать свои добродетели Православию намного более присуще, чем протестантизму. В житиях святых, например, мы часто видим, что святые постоянно старались о том, чтобы скрывать от людей свои подвиги, добрые дела, святость, видения, которыми удостаивал их Господь, а ближним своим, которые об этом знали, запрещали говорить об этом до их смерти. Многие святые даже юродствовали для того, чтобы скрыть свои духовные подвиги и не иметь похвалы от людей.
Протестантизму же напротив, очень свойственно желание делать добрые дела на показ. Когда я служил в г. Славянске, то проезжая по улице увидел огромный рекламный щит, на котором некие протестанты написали: "мы молимся о нашем городе". Разве не трубят, как древние фарисеи, о своей молитве протестанты, когда делают такую рекламу? А ведь этот пример не есть частный и исключительный случай. Такое поведение - типичное для протестантов. Но не для православных.
Православная Церковь на каждой службе неоднократно произносит различные прошения не только о городе, но о всех людях ("о мире всего мира"; "о богохранимой стране нашей, властях и воинстве её"; "о граде сем, всяком граде, стране и верой живущих в них"; "о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их" и т.д.), но никогда она таким образом, как протестанты, не "трубит" о своих добрых делах. Итак, если посмотреть объективно и непредвзято, то Православие намного больше протестантизма понимает и ревнует о "тайне" своих добрых дел. Но общеизвестность православных постов никоим образом не нарушают тайны личного подвига перед Богом.
Теперь ответим на вопрос: церковные посты обязательны для всех верующих, или это есть добровольное дело каждого? В. Санников, упомянув о древнем церковном обычае поститься в среду и пятницу, добавляет: "Посты не носили обязательного характера. Ириней свидетельствует, что каждый постился добровольно". Итак, в каком смысле нужно понимать общие церковные посты? Для протестанта, конечно же, с его индивидуальным, а не соборным подходом ко спасению, этот вопрос стоит очень остро. Ему очень хочется самому лично решать вопросы своей духовной жизни. Но в этом настроении нет послушания; нет единомыслия и единодушия, заповеданного Христом.
Перед тем, как на поставленный вопрос дать окончательный ответ, для того, чтобы протестанту было легче с ним согласиться, я предлагаю Вам, мой протестантский читатель, ответить на такие вопросы: "обязаны ли Вы вставать, когда Ваш пастор выходит на кафедру в начале собрания; или когда во время молитвенного псалма он жестом призывает собрание подняться"? Отвечая на эти вопросы, мы должны будем сказать, что нас, конечно же, никто не принуждает вставать, и что мы встаём добровольно. Но мы и обязаны вставать, ведь мы добровольно стали членами данной церкви, а значит, обязались жить согласно её установлениям и порядкам. (И если кто-либо из членов нашей церкви сказал бы, что он не будет исполнять этой традиции, поскольку это дело добровольное и в Библии нет прямой заповеди так поступать, то мы бы отнеслись к таковому нашему брату крайне отрицательно, а если бы он не изменил своей позиции, то со временем его в большинстве случаев отлучили бы от церкви).
Вот такой же ответ может дать православное богословие и на выше поставленный вопрос: каждый православный постится не иначе, как добровольно: его никто к этому не принуждает. Но раз он добровольно желает быть членом Православной Церкви, то он обязан жить согласно её установлениям и порядкам. И даже при том, что все верные обязаны соблюдать церковные посты, всё равно остаётся большое место для добровольности и личного усердия, ибо мера пощения определена Церковью только в общих чертах. Один может 40 дней ничего не есть; другой может есть только хлеб; третий может есть одну растительную пищу. Если же человек только начал воцерковляться, и не может ещё строго поститься, то пусть постится, как может. Если он привык есть мясо каждый день, а в пост начнёт есть только в воскресенье, то это будет для него пост, воздержание.
Поэтому, Церковь, назначив общие посты, во-первых, никого не принуждает поститься, а во-вторых, не определяет для каждого меру его пощения. То есть, Церковь не говорит, что в пост каждый должен съесть не раньше обеда 100 грамм хлеба и всё. Ничего подобного нет, и каждый постится по мере своей веры, ревности и здоровья.
Кстати, многих людей Церковь вообще освобождает от поста. К таковым людям относятся больные, находящиеся в тюрьме и на службе в армии, беременные и кормящие грудью женщины, физически тяжело работающие. Ведь цель поста есть ограничение и усмирение плоти, а тело у всех вышеперечисленных групп людей итак усмирено и претерпевает скорбь. Болезнь для больного и есть его пост, равно как и для беременной пост - её беременность, которая ослабляет её плоть. Поэтому, Православная Церковь имеет весьма мудрый подход к посту.
Последний арг. Поэтому, можно сказать, что эта книга занимает сейчас в Церкви место полу тайной книги, книги не для всех, а для умент, от противного. Мы уже говорили о том, что всякая секта и лжерелигия (1) подменяет и в тоже время (2) подражает Церкви, что и является главной целью их существования. И одна из величайших мировых религий, возникшая в VII веке - религия мусульманская. В ней, как известно, есть элементы иудаизма, христианства, а также свои - новые.
Так вот, хорошо известно, что важнейшая составляющая духовной жизни мусульман есть Рамадан - общемусульманский сорокадневный пост! Как он появился? Он не взят из иудаизма и не придуман Мухаммедом. Он взят из христианства! Таким образом, из этого факта мы можем понять, что Церковь, которой подражает и противостоит ислам, был и есть истинный богоугодный сорокадневный Пост.
III. О частичном пощении
Пророк Даниил так описывает свой пост: "Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои" (Дан. 10:3). То есть, постясь, пророк Даниил воздерживался не от всякой, а только от вкусной и приятной пищи. Вот таким постом часто постятся и православные, вкушая только простую и малокалорийную пищу растительного происхождения. Как видим, православное частичное пощение описано в Библии и оправдано примером великого угодника Божия: постом Даниила постятся православные до сего дня.
В Новом Завете мы также находим пример частичного пощения в лице пророка и предтечи Господнего, о котором мы читаем: "Иоанн… ел акриды и дикий мед" (Мр. 1:6). То есть, на протяжении всей жизни Иоанн частично постился, ограничивая себя во всякой пище, кроме весьма простой и грубой. И древняя Церковь постилась таким постом. Так, в вышеприведенной цитате из св. Ермы, Ангел заповедует ему частичное пощение: "в тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды".
Итак, частичное пощение необходимо для того, чтобы можно было длительное время пребывать в посте, ведь только редчайшие люди способны 40 дней ничего не есть, но зато многие способны к частичному пощению. И такой пост отнюдь не бесполезен, ибо привывает устойчивый навык воздержания от удовольствий плоти. И для многих намного больше будет духовной пользы от сорокадневного частичного пощения, чем, например, от трёхдневного полного воздержания от пищи.
Внутренний пророческий смысл частичного пощения можно усматривать также в том, что отказываясь от пищи животного и рыбного происхождения Церковь воспоминает и проповедует о блаженных райских временах до грехопадения, когда Адам с Евой питались одной растительной пищей; им не нужно было никого убивать для того, чтобы насытится. Частичный пост также пророчествует и о Царствии Небесном, где спасённые не будут убивать и есть животных, а будут вкушать только от плодов "древа жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой" (Откр. 22:2) [При этом, не нужно, конечно же, думать, что в Царствии Небесном будет пост]. То есть, хотя Б, хотя непосредственно недельный предпасхальный пост всегда выделяется, особенно в богослужении, и называется ог разрешил человеку после грехопадения употреблять в пищу животных, Церковь своими постами, в которые запрещена мясная пища, напоминает своим чадам о том, что такое положение, когда нужно убивать животных для пропитания, не есть совершенство и изначальный замысел Бога о человеке.
Поэтому, в частичном пощении нет ничего противоречащего духу и букве Священного Писания, или здравому смыслу. И православные не относятся к тем отступникам, которые запрещают "употреблять в пищу то, что Бог сотворил", ибо они ничего не запрещают употреблять, разве только учат "воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины" (Деян. 15:29), что запретили нам сами Апостолы. Остальную же (скоромную) пищу православные запрещают употреблять не вообще, а только на время поста.
Вот вегитарианцев, которые призывают принципиально и во всякое время не употреблять в пищу животных, можно отнести к таковым отступникам, о которых пишет Апостол. А если наш пастор призовёт свою общину один день побыть в посте и ничего не есть, то его мы, конечно, не станем относить к тем отступникам, которые запрещают употреблять в пищу сотворённое Богом. И если Ап. Павел призывает супругов временами воздержаться от супружеского общения (1 Кор. 7:5), то, понятно, это не значит, что он принципиально его запрещает и считает его грехом. Таким же образом, если православные призывают на время поста воздержаться от скоромной пищи, то это не значит, что они в принципе запрещают её употребление.
В связи с вышесказанным есть любопытное наблюдение. При жизни Христа учеников Его обвиняли в том, что они не постятся: "почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?" (Мк. 2:18). Сегодня мы обвиняем их уже в обратном, что они постятся и запрещают "употреблять в пищу то, что Бог сотворил". Разумно ли это? Действительно, какие только нападки не терпят от врагов истинные последователи Христа. Хоть постись, хоть не постись, а духу противления всё равно не угодишь, как говорил о том Христос: "Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам" (Мф. 11:16-19).
Итак, Христос говорил, что когда Он отойдёт к Отцу, то Его ученики будут поститься. Понятно, что православные, а не мы, протестанты, исполняем это пророчество. Сказать о протестантах, что "они постятся", или "часто бывают в постах", или, тем более, "пребывают в постах" никак нельзя, зато всё это без всякой натяжки можно сказать о православных.
На основании Библии возможны как общие для всех посты, так и частичное пощение. Человек может поститься по своему усердию и сверх положенного, как делают это многие монахи и другие подвижники благочестия, но для всех своих чад Церковь установила общецерковные посты, главнейшие из которых ведут своё начало от самих Апостолов.
И я не желаю и дальше ничего не знать и никак не исполнять заповеди, данные Апостолами Церкви на все времена. Я хочу присоединиться к единой жизни Церкви, к единому дыханию и к единой традиции, которой она держится повсеместно и во все века. Поэтому, естественно, я не могу больше придерживаться традиции протестантской, ничего не ведающей ни о каких церковных постах. И это есть очередная причина, по которой я не могу больше оставаться баптистом и вообще протестантом.
Православные часто молятся по молитвослову. То есть, они произносят слова молитвы не свои собственные, а читают или проговаривают наизусть уже готовые, много веков назад составленные и записанные молитвы других людей, которых Церковь считает святыми.
У нас же никаких молитвословов нет, и нет принципиально! Мы полагаем, что нельзя молиться чужими молитвами, а нужно молиться своими словами, от сердца. Ведь Бог есть наш Отец, а разве хорошо с отцом разговаривать заученным текстом? Если Христос, Апостолы и все библейские праведники молились, как мы считаем, своими словами, то и мы должны также молиться. Наши отношения с Богом должны быть личными, живыми.
В одной из проповедей наш пастор сравнивал православные молитвы по молитвеннику с тем, как если бы некий человек, прочтя письмо своего знакомого к своему отцу и пленившись красотой, стройностью и возвышенным поэтическим слогом этого письма, решил скопировать его и послать его своему отцу. Будет ли рад такому письму отец? Нет, ведь он желает, чтобы его сын сам, пусть и не так красиво, как другие, написал ему письмо от себя, от своего сердца. Поэтому, лучше молиться нескладно, но лишь бы не формально, лично, от себя, от сердца.
Так о молитве учат, и похожие примеры приводят все протестанты. Конечно, когда нам преподносят подобные истории в таком контексте, то трудно не согласиться, что молитвы по молитвослову есть какой-то бездушный холодный формализм, устраняющий наши личные отношения с Богом.
Итак, давайте узнаем, что думают и как понимают данные вопросы православные, а заодно и посмотрим, не осуждаем ли мы сами себя своими же словами, и не молимся ли мы сами заученными молитвами?
Прежде всего нужно вспомнить, что Сам Христос научил Своих учеников молиться заученной молитвой: "молитесь же так: Отче наш…" (см. Мф. 6:9-13, Лк. 11:1-4). Слова "молитесь так" означают, безусловно, "молитесь такими словами", хотя некоторые протестанты извращают эту ясную мысль и говорят, что Христос не желал, чтобы мы слово в слово повторяли эту молитву, а лишь дал нам образец молитвы. Это ложь и извращение мысли Христа. Иисус повелел Своим последователям молиться этой молитвой дословно.
И в Дидахе Апостолы повторяют эту заповедь для всей Церкви, говоря: "Также не должны вы молиться как лицемеры, но как повелел Господь в Своём Евангелии, так и молитесь: Отче наш, сущий на небесах… Молитесь так трижды в день" (гл. 8) [Важно заметить, что дальше Апостолы заповедуют верным молиться и другими молитвами: "Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. Сперва о чаше: Благодарим Тебя, Отче наш, за святой виноград Давида, отрока Твоего, который (виноград) Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! О хлебе же ломимом: Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собранный вместе стал единым, так и Церковь Твоя от концов земли да соберется в царствие Твое, ибо Твоя есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки" (Дидахе, 9:1-4). И также: "По исполнении же (вкушения) так благодарите: Благодарим Тебя, Отче святый, за имя Твое святое, которое Ты вселил в сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! Ты, Владыко Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, пищу же и питие дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез Отрока Твоего. Паче всего благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки! Помяни, Господи, Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и усовершишь ее в любви Твоей, и от четырех ветров собери ее, освященную в царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя есть сила и слава во веки. Да приидет благодать и да прейдет мир сей. Осанна Богу Давидову!" (10:1-6)].
Поэтому, молитвой "Отче наш" Церковь молится со времён апостольских и до сих пор. В начале каждого богослужения, молебна и так называемой "требы" православные произносят молитву "Отче наш", называемой ещё Господней молитвой, а также в процессе и в конце службы эта молитва может ещё не раз повторяться.
Некоторые же протестанты, как было замечено, не считают своей обязанностью молится молитвой "Отче наш", и никогда или почти никогда ею не молятся. Тем не менее, большинство молятся этой молитвой слово в слово, то есть заученно. В нашей артёмовской баптистской общине был обычай иногда всей общиной, стоя на коленях, петь молитву "Отче наш". Таким образом, мы хотя и редко, но всё же молимся заученной молитвой. И неужели один тот факт, что эта молитва уже давно составлена и записана, и произносится нами заучено, а не придумывается на ходу, делает её холодной, формальной и бессердечной? Неужели данный факт делает эту молитву чужим письмом, неприятным Богу и устраняет возможность помолиться Богу этой молитвой от сердца? Нет, конечно! Мы ведь понимаем, что Господню молитву, хоть она и заученная, можно произнести Богу лично от себя, от всего сердца.
Баптисты, - уместно здесь вспомнить, - часто поют одну песню, положенную на стихи М. Лермонтова, которая в нашем сборнике "Песнь возрождения" находится под № 221. Вот её текст:
"В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко -
И верится, и плачется,
И так легко, легко...".
Заметим, что раз мы признаём и любим эту песню, то мы тем самим признаём, что молитвы можно "твердить наизусть"; значит мы согласны с русским поэтом, что в созвучьи именно уже давно составленных и заученных слов молитвы может быть "сила благодатная" и "святая прелесть"; значит мы согласны, что такая заученная молитва даже очень может быть сердечной, личной и душевной, раз она снимает с души бремя сомнений, и даёт веру и слёзы умиления.
Кстати сказать, в своём стихотворении Михаил Лермонтов писал о молитве "Богородице Дево, радуйся". В любом случае, эти слова посвящены какой-то православной, давно составленной и слово в слово многими повторяемой молитве.
Протестанты могут сказать на это, что если мы и молимся заученной молитвой, то единственной, данной Самим Христом. Православные же молятся многими и другими человеческими молитвами, чего мы не делаем. Здесь нужно отметить, что протестанты в своём противлении Православию во многих случаях демонстрируют поразительную слепоту в отношении своего же учения и реалий своей же духовной жизни. Так, постоянно обвиняя православных в том, что они делают изображения Бога и святых, они сами делают массу подобных изображений, как бы не замечая того, что сами подпадают под своё же обвинение. На этот факт мы указывали в главе об иконопочитании. Ту же картину мы видим и сейчас: мы даже сами не осознаём того, что постоянно молимся чужими и вполне человеческими молитвами… - и вот тому примеры.
1) Все протестанты используют сборники псалмов и песен. Например, у баптистов, как уже было замечено, самый известный сборник песен - "Песнь Возрождения", в котором есть раздел песнопений, называемый "молитвенные". Эти песнопения есть не что иное, как молитвы, положенные на музыку. Открываем и читаем начала этих псалмов. № 21: "Услышь мольбу и вздох души моей, хочу Тебя, мой Бог, любить сильней". № 22: "Ближе, Господь к Тебе, ближе к Тебе". № 24: "О Боже Так вот, хорошо известно, что важнейшая составляющая духовной жизни мусульман есть милостивый, благослови ты нас". № 26: "Услышь слова мои Ты ныне". № 27 содержит перефразированную молитву "Отче наш": "О наш Отец на небесах! Прими моление мое". № 30: "Не пройди, Иисус, меня Ты, дух не осеня" - и т.д.
Почти в каждом из наших молитвенных псалмов есть прямое обращение к Богу [Обращения к Богу есть, конечно же, и в других наших псалмах - не только молитвенного раздела]. Потому они и называются молитвенными, и потому при пении этих псалмов мы всегда встаём, так как понимаем, что эти псалмы есть молитва к Богу, а сидя у нас молиться не принято. Таким образом, мы постоянно, на каждом собрании молимся Богу чужими, человеческими, записанными и заученными молитвами [Для самых непонятливых (которые могут возразить, что мы не молимся, а поём) скажу, что молитва не перестаёт быть молитвой из-за того, что её пропели, а не проговорили, ибо молитва по нашему же пониманию, есть обращение к Богу. Интересно, что в Православии есть восемь основных распевов, благодаря которым любой богослужебный текст (а все виды этих текстов состоят из молитв) можно спеть, и получается очень красиво. Так как, будучи в баптизме, я имел некоторое понятие о музыке и пении (поскольку, имея от природы музыкальный слух, я пел в хоре и различных "группах прославления"), то увидев, как гармонично и стройно православные могут спеть любой нерифмованный текст, я сильно этому поразился. До этого я никогда бы не подумал, что на музыку можно полагать не только стихи, но и текст, написанный не в рифму. Таким образом, многие православные молитвы можно как читать, так и петь, и от пения они, естественно, не перестают быть молитвами]!
Заметим, эти молитвы, которыми мы молимся - человеческие; их не Христос составил для нас, как молитву "Отче наш". И при этом мы понимаем, что хорошо молиться такими молитвами; что ими можно молиться и не формально, а от всего сердца и от всей души; что такие молитвы не оскорбляют отцовских чувств Бога; что их никак нельзя сравнивать с формальным и холодным чужим письмом. Так почему же мы тогда обвиняем православных в том, что они молятся Богу составленными другими людьми молитвами, если сами постоянно молимся Богу таковыми же молитвами?
2) Мы постоянно читаем книгу Псалтирь, которая в значительной мере состоит из молитв Давида и других псалмопевцев. Если мы благоговейно и молитвенно прочитываем эти псалмы, то мы молимся Богу чужими, записанными молитвами - и ни как иначе!
В мою бытность в баптизме на собраниях нашей общины практиковалось пение на коленях некоторых молитвенных псалмов из Псалтири. То есть, мы молились Богу не своими личными молитвами, а молитвами псалмопевцев. И если в начале 90-х годов после перехода в новый большой дом молитвы эта традиция артемовской общиной баптистов была, по всей видимости, позабыта, то произошло это отнюдь не потому, что баптисты осознали и покаялись в том, что оскорбляют Бога, молясь записанными, формальными, не личными и не идущими от сердца чужими молитвами, а потому, что в протестантизме вообще очень мало постоянства [Нужно заметить, что протестанты часто мало ценят связь поколений, обычаи своих предков и предшественников. Им постоянно хочется всё менять, ломать старые традиции - на то мы и протестанты. Вот и здесь: пришёл новый дух западного протестантства, пришло новое поколение, для которого такой обычай показался слишком скучным и устарелым, вот его без всякого сожаления и отменили]. Но принципиально, конечно, такая практика не осуждается и, наверное, сохраняется в других баптистских общинах.
Кстати сказать, Псалтирь есть древнейший молитвослов не только евреев, но и христианской Церкви, по которому она от начала своего существования воспевает и возносит Богу молитвы. Многие древние святые чрезвычайно похвально говорили об этой книге, свидетельствуя о великой пользе употребления её для моления [Например, св. Афанасий Великий (III-IV вв.) писал: "Псалмы Давида - это песни нашей души; его молитвенные гласы и вопли - гласы и вопли духа нашего, подавляемого грехом, удручаемого скорбями и напастями. Кроме сего, где мы найдем для себя лучшие образцы молитв, молений, благодарений, богохвалений и славословий, как не в псалмах Давидовых? (...) Посему и ныне каждый, произнося псалмы, пусть будет благонадежен, что Бог услышит просящих псаломским словом"]. Поэтому, до сих пор Псалтирь занимает важнейшее место в православном богослужении, молебнах и требах, на которых постоянно читаются соответствующие псалмы. И самые любимые и наиболее часто читаемые Православной Церковью псалмы это 50-й покаянный псалом Давида, и величественный, полный веры и надежды на Бога 90-й псалом, которые многие православные знают наизусть.
Кстати, многие баптисты сохранили эту православную традицию, и также выучивают 90-й псалом на память, в трудных обстоятельствах, повторяя его: во время войны его твердили наизусть особенно часто как православные, так и баптисты. Так что же, когда баптист молится Богу заученной - а не своей личной - молитвой, произнося 90-й псалом слово в слово, то неужели от этого его молитва становится холодной, формальной и неугодной Богу? Неужели эти слова нельзя повторять со слезами от самой глубины сердца?
3) Вспомним евангелизации [Евангелизации (здесь) - собрания, которые устраивают протестанты вне своего дома молитвы (на стадионах, в домах культуры, в больших палатках и т.д.), главная цель которых есть привлечение в свои ряды новых членов] с участием самых известных наших "евангелистов" [Не могу здесь не взять данное слово в кавычки, так как названные люди не являются на самом деле евангелистами, т.к. несут миру не чистое Христово Евангелие, а своё - протестантское, извращённое и погибельное учение, которое нельзя назвать Евангелием - благой вестью. О том, почему протестантскую проповедь нельзя назвать Евангелием, подробнее читать в главе 11 "О проповеди в Православии"] Билли Грэмма и Виктора Гамма [О моём впечатлении от встречи с этим человеком можно прочесть в 11 главе настоящей книги]. В конце своей речи заграничный гость призывал людей выйти вперёд и произнести покаянную молитву. Как она происходила? Проповедник произносил молитву по частям, а все вышедшие вперёд повторяли эту молитву за ним слово в слово. После этого он радостно сообщал людям, что Бог услышал их молитву и вписал их имена в книгу жизни. Но какая же это их молитва, если они не составляstrongли её сами, а повторяли за другим, заученно? Ведь мы в этом случае понимаем, что такую молитву Бог может услышать; что она может быть и сердечной, ведь слова молитвы подбираются такие, которые должны соответствовать состоянию сердца кающегося грешника.
4) Во многих протестантских брошюрах, буклетах, теле- и радио передачах, в конце помещается текст покаянной молитвы с призывом к читателю помолиться Богу этой молитвой и с обещанием того, что Бог услышит и простит его. Опять же, мы видим пример того, как протестанты призывают молиться чужими молитвами, полагая, естественно, что такая молитва может быть сердечной и услышанной Богом, если, произнося её, человек понимает и соглашается с её смыслом и, так сказать, пропускает через себя.
5) Как родители учат своих детей молиться? Не скажу обо всех протестантах, но меня мой отец учил молиться так: он произносил молитву по фразам, а я её слово в слово повторял. Таким образом, наши дети часто молятся заученно, словами своих родителей, но разве мы думаем, что такую молитву Бог не слышит и что она Ему не может быть угодна? Разве мы думаем, что заученность детской молитвы обязательно делает её холодной и бессердечной? Нет, конечно же: мы понимаем, что такая детская молитва может быть весьма Богоугодной. Православные же ощущают себя, по заповеди Христа (см. Мф. 18:3,4), именно детьми. Они, кстати, постоянно именуются "чадами" (т.е. детьми) Церкви. Поэтому, как баптистский ребёнок повторяет за своим отцом молитву, так и православные вот так по-детски повторяют за своими духовными отцами предлагаемые ими молитвы.
Итак, обвиняя православных в использовании записанных и заученных чужих молитв мы не осознаём и не замечаем того, что мы сами постоянно молимся и предлагаем другим молиться чужими молитвами. Да, православные, конечно, больше и чаще молятся общими и выученными молитвами, но важен сам принцип - мы также молимся молитвами, составленными другими людьми!
Но выяснив этот факт, мы ещё не ответили по существу на возражение протестантов против использования чужих молитв. Ведь если мы указали, что протестанты тоже молятся не только своими личными молитвами, то это ещё не оправдывает православных. Может быть как православные, так и протестанты грешат, когда молятся чужими молитвами, и православные грешат настолько больше чем мы, насколько больше нас молятся чужими молитвами?
Нет, в том, чтобы молиться молитвами других нет ничего дурного и не допустимого. И пример чужого письма здесь крайне неуместен, ибо оно было написано чужим человеком другому отцу. В Церкви же все люди уже "не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу" (Еф. 2:19), братья во Христе, у которых один Отец. Если уж говорить о примере письма, то хороший отец никогда не обидится, если его дети все вместе напишут ему одно общее письмо. И даже если писал письмо кто-то один, старший сын, а другие, меньшие, только слушали и соглашались, то неужели они меньше любят своего отца? Неужели те же тёплые и нежные чувства к своему родителю, которые вложил старший сын в письмо к отцу, не могут наполнять и сердца младших детей? Ведь когда мы поём общим пением молитвенный псалом, то все мы обращаемся к Богу одними, одинаковыми словами. И разве при этом мы не можем обращаться к Богу лично и каждый от своего сердца?
Протестантизм зародился в эпоху гуманизма, когда стали сильно подчёркивать личность человека, его индивидуальность. Потому в протестантизме так не развит дух соборности; потому в нём столько делений, течений и расколов. Православная же Церковь - соборная. Проповедуя о величайшей ценности каждой человеческой личности, Она не разъединяет, а объединяет их, зная, что природа у всех нас одна. Церковь знает, что молиться молитвой "Отче наш" хорошо всем верующим во все времена на всех языках. То есть, говорить Богу вот такие слова хорошо всем людям, независимо от их личности, житейских обстоятельств и всего прочего.
Почему нам так неприятна и даже, можно сказать, оскорбительна мысль о молитве молитвами других? На то есть две главные причины.
1) Мы очень настаиваем на важности личных отношений со Христом. Это формулировка, - наряду с такими, как "вера во Христа как своего личного Спасителя" и "только Писание", - является ключевой для протестантизма, его важнейшей характеристикой. Молитва же к Богу словами других лишает нас, по нашему ощущению, именно вот этой важнейшей составляющей наших отношений с Богом - личностности!
На самом же деле, такое мышление превратно. Как в Псалтири, так и в православных молитвах, составленными святыми, нет ничего такого, что не имеет отношения ко всем христианам. Пророк Давид и православные святые в молитвах прославляют и благодарят Бога, признают пред Богом свою греховность и никчемность, просят прощения о своих грехах, испрашивают душеполезные блага и т.д.
Все эти слова - актуальны и уместны для каждого христианина во все времена! Если св. Иоанн Златоуст молился: "Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание" и т.д. [Вечерняя молитва 7-я], то это не значит, что эти же слова я уже не могу произнести от себя лично, что они ко мне уже не относятся, что мне обязательно нужно придумать какие-то другие слова. Молиться такими словами хорошо и полезно многим, и их повторение, как и повторение, например, слов молитвы "Отче наш", никак не лишит человека его личных отношений со Христом, ибо каждый лично молит Бога о даровании лично ему смирения, целомудрия и послушания, и среди нас нет таковых, кому молиться об этом не нужно, кому эти качества не нужны. То есть, в молитвах всех христиан, причём во все времена, есть огромная единая основа, благодаря которой многие молитвы будут уместны, актуальны, благодатны и назидательны для всех христиан.
Вернёмся, опять, к примеру наших псалмов для общего пения. Молитвенно мы обращаемся к Богу такими словами: "Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать; научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всём исполнять. Чтобы жил Ты во мне безраздельно, Дух Святой чтоб во мне пребывал, чтоб любил я Тебя беспредельно и лишь имя Твоё прославлял" ["Песнь возрождения" № 23].
Эту молитву кто-то составил от своего сердца, от первого лица, но может ли кто-то из нас, баптистов, сказать, что в этой молитве есть слова, которые ко мне не относятся? Кто из нас не нуждается в том, чтобы его Бог научил молиться, исполнять Его священный закон или смиряться сердцем? Никто. Мы понимаем, что слова этой молитвы актуальны для всех нас, и произнесение их никак не лишает нас наших личных отношений с Богом. И важно отметить, что в этом псалме каждый из нас обращается к Богу лично: "научи меня…, чтобы жил Ты во мне…", хотя эти слова и не мы составили.
Кроме того, ведь даже когда мы молимся Богу своими молитвами, мы очень часто выражаем одни и те же мысли, пусть и не слово в слово. Все наши молитвы, как правило, имеют одну общую схему. Вначале мы благодарим Бога, потом просим о чём либо, а в конце славословим и заканчиваем словом "аминь". Каждое утро мы просим благословения на день, а вечером - на ночь. Перед едой, например, в нашей семье постоянно произносили одну и ту же короткую молитву: "Господи, благослови и освяти эту пищу, аминь". И если перед едой три раза в день десятки лет просить Бога благословения над пищей, то избежать повторения молитвы будет очень трудно. Можно поизощряться и придумать несколько вариантов этой молитвы, но они тоже будут повторяться, ибо на каждый приём пищи новой молитвы не придумать. Да и нужно ли это? Лучше однажды составить самые подходящие, классические, правильные слова для молитвы перед едой и молится ею постоянно, каждый раз молясь от сердца, чем постоянно пытаться выдумать что-то новое, по неразумию считая, что новизна молитвы есть важнейшее и непременное условие сердечной и искренней молитвы.
В начале и в конце каждого нашего собрания наш пресвитер произносит, по сути, одну и ту же молитву, часто дословно или почти дословно повторяя одни и те же фразы [Можно заметить, что среди баптистов есть многие, которые постоянно на собраниях молятся Богу одной и той же молитвой, лично ими один раз составленной и отработанной, но постоянно повторяющейся практически слово в слово. И при этом никто не обвиняет таковых в том, что они молятся Богу формально и холодно]. Даже если его молитва не повторяется слово в слово, то по сути он всегда перед началом собрания молится об одном и том же: благодарит Бога за возможность собраться и прославить Его имя и просит Его благословить собрание и Самому Духом пребывать на нем и научать нас.
Некоторые современные молодые пастора, желая избегать повторений, стараются постоянно придумывать какие-то новые формулировки в молитве. Но всё это - искусственные попытки показать, что наши отношения с Богом всегда свежие и живые. Мы просто не хотим понять и признать цикличность жизни, признать, что в нашей жизни есть постоянно повторяющиеся моменты (как-то: утро, вечер, приём пищи, начало и конец собрания и т.д.), когда хорошо произносить молитву одного содержания, и что этот фактор никак не лишает нас наших личных отношений со Христом. Ведь если мы каждое утро и каждый вечер на протяжении десятилетий говорим своей жене и детям одну и ту же заученную фразу "доброе утро" и "спокойной ночи", то этот факт не говорит ещё о потере личных отношений с нашими близкими, а, скорее, наоборот - о наличии живых отношений, что мы не теряем личный контакт с ними и не забываем в нужное время сказать нужные слова. Поэтому, постоянное повторении одних и тех же молитв многими христианами вовсе не лишает их личных отношений со Христом.
Мы скажем, что несмотря на общую для всех христиан единую базу в молитвах, у нас ведь есть переживания, просьбы и благодарения к Богу, связанные с нашими личными жизненными неповторимыми обстоятельствами, которые мы хотим выразить Богу своими словами. Так в чём же трудность? Православие, давая своим чадам примеры лучших молитв и призывая их молиться этими молитвами, никоим образом не препятствует и не запрещает им молиться также своими молитвами. Напротив, православные пастыри призывают учиться и стараться молиться к Богу своими словами [Например, в журнале "Православие и мир" (14 Апр. 2009 г.) в статье "Можно ли молиться своими словами?" мы находим ответы священников на эту тему. Так, протоирей Валериан Кречетов утверждает: "Каждый человек может молиться своими словами". Протоиерей Анатолий Ефименков: "Когда бывает много работы, ты рано встаешь и бежишь по делам, не успев открыть молитвослов, - в этих случаях обязательно молитесь Богу своими словами… и Бог вас услышит". Архимандрит Алексий (Поликарпов): "Каждый человек вправе молиться своими словами, и тому множество примеров", и т.д.].
И хорошие примеры молитв как раз и способствуют тому, чтобы человек научился сам правильно и Богоугодно молиться. Одним словом, молитвы по молитвослову никак не препятствуют и не исключают молитв своими словами. Православие об этом вопросе может сказать нам, протестантам, вслед за Господом: "сие надлежало делать, и того не оставлять" (Лк. 11:42).
2) Нас оскорбляет сама мысль и само предложение Церкви молиться молитвами других по причине нашей гордости и самомнения. Мы понимаем, что через молитвослов Церковь желает научить нас молиться, и это уже нас оскорбляет, ведь учить молиться можно детей или новообращённых, как мы и делаем, но не нас. Как правило, протестанты очень быстро начинают почитать себя духовно зрелыми и самостоятельными, по крайней мере, не нуждающимися в такой "унизительной" помощи, как научение молитве. Мы совершенно искренне убеждены, что можем помолиться нисколько не хуже, чем "какие-то там" Иоанн Златоуст, Василий Великий и другие отцы, учителя и святые Церкви. Мы вообще их не признаём, не уважаем, не знаем и знать не хотим, чтобы ещё учится у них молиться [Да и среди протестантов нет для нас такого авторитета, молитвой которого мы захотели бы помолиться].
А убедить и доказать нам то, что в действительности по сравнению с этими святыми мы "несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги" (ср. Откр. 3:17) представляется делом крайне сложным, ибо таково свойство гордыни, этого страшнейшего из грехов - она не позволяет заражённому ею трезво оценить себя. Нам нет возможности осознать свою гордыню также потому, что нам не с кем себя сравнить.
Только когда я стал читать книги православных святых: только когда я стал знакомиться с православными молитвами и Богослужением, только когда увидел, с каким смирением и благоговением относятся истинные православные к Богу и к молитве, я стал, по Божьей благодати, постепенно осознавать эту гордыню протестантизма. Протестант вообще всегда чувствует свою самодостаточность в духовной жизни; православный же человек всегда чувствует свою зависимость и глубокую общность со всей Вселенской Церковью. Но это - отдельный разговор.
Самый главный пример молитвы словами других людей дал нам, - чего протестанты не замечают, - Сам Иисус Христос, и речь идёт не о молитве "Отче наш". Вися на кресте Христос дважды взывал к Своему Отцу не своими словами, а словами псалмопевца Давида, ибо Его молитвенные вопли: "Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?" и "Отче! в руки Твои предаю дух мой" (Мф. 27:46; Лк. 23:46) - цитаты из Псалмов (Пс. 21:2; 30:6). Таким образом, как мы видим, даже Сам Христос не всегда молился Своему Отцу только Своими словами.
Также и Апостолы: они, бесспорно, молились не только своими молитвами, но и той молитвой, которой научил их Христос. Более того, будучи еврОтче нашеями, они молились и по еврейскому молитвослову, по которому иудеи до сих пор молятся. Поэтому, если Христос, Бог и Учитель, - Который имел совершенно живые и самые личные отношения со Своим Отцом и Который Сам мог помолиться наилучшим образом и наилучшими словами, - не считал для группах прославления себя оскорблением молиться к Богу словами раба Своего Давида; если и Апостолы молились записанными и заученными молитвами, то нас тем более не должны оскорблять моления, составленные лучшими Христовыми святыми.
И православного человека молитвослов совершенно не оскорбляет, ибо он мнит о себе значительно скромнее, чем протестант, а ведь "всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк. 18:14). Его гораздо больше интересует не то, чтобы его молитва была индивидуальная и неповторимая, а чтобы она была правильной и угодной Богу. Ему не оскорбительно молиться словами святых, т.е. своих более совершенных братьев во Христе, которых он горячо любит и почитает, если эти молитвы приводят его душу в правильное расположение к Богу.
Когда я впервые стал знакомиться с православными молитвами, то был просто поражён их силой и влиянием, которое они оказывают на душу. Все православные молитвы не просто величественны и красивы: они весьма глубоки и духовны, исполнены духа любви, веры, надежды, радости, умиления, благодарности, покаяния, сокрушения, самоумаления, кротости и смирения пред Богом. И этому благоговейному отношению к Богу, всему этому смиренному и покаянному настрою души православные верующие научаются в значительной мере именно посредством того, что они молятся по молитвослову.
Протоиерей Александр Мень по этому поводу совершенно справедливо замечает: "В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного "вдохновения", "настроения" и импровизации недостаточно. Подобно тому, как человек, смотря на картину или икону, слушая музыку или стихи, приобщается к внутреннему миру их создателей, так и чтение молитв связует нас с их творцами: псалмопевцами и подвижниками. Это помогает нам обрести духовный настрой, родственный их сердечному горению" [Мень, "Православное богослужение", стр. 144-145].
То есть, когда-то лучшие сыны Церкви вдохновенно молились Богу и записали свои молитвы, чтобы дать их в пример и назидание другим подобно тому, как псалмопевец Давид составил многие свои молитвы для нашего назидания. И теперь, когда человек молится молитвами Давида и других святых, он приобщается и исполняется того же духа, тех же чувствований [Если какой-либо протестант скажет, что у нас "должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Фил 2:5), а не какие у святых, то православные ответят, что они стремятся иметь чувствования святых не иначе как по той причине, что святые имели чувствования Христовы. Как писал Ап. Павел: "подражайте мне, как я Христу" (1 Кор. 4:16). Посему, не только одному Христу, но и святым нужно подражать по мере того, как они сами подражали Христу], которые имели к Богу эти святые; к нему приходит тот же покаянный, смиренный, благоговейный духовный и душевный настрой, какой имели они.
"Чужие" молитвы, - а лучше сказать молитвы более святых и опытных братьев, - являются отличным способом научить верующих вере и главным христианским добродетелям и качествам. Таким образом, молитвослов и написанная служба является прекрасным педагогическим средством Церкви, которое Она использует для научения своих чад Православной Вере, для передачи им правильного настроя в их духовной жизни.
Педагогике известен закон солёных огурцов. Если поместить свежий огурец в бочку с солеными огурцами, то он непременно станет вскоре таким же солёным, как и все остальные. Вот так часто происходит и с человеком: в какой среде он находится, таким он сам и становится. Если ребёнок, например, воспитывается в семье и среде, где ругаются, то в большинстве случаев он сам станет ругаться. Если же он воспитывается в интелегентной семье, где он слышит грамотную речь, то и сам он будет говорить на таком же языке. И ребёнок не только научится разговаривать так, как его родители, но и подобно им мыслить, чувствовать и воспринимать мир.
Данный принцип, конечно же, имеет отношение и ко взрослым, и в Библии мы находим ему подтверждение: "худые сообщества развращают добрые нравы" (1 Кор. 15:33). Об этом законе знает и народная мудрость, которая говорит: "скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты", и: "с кем поведёшься, от того и наберёшься". Поэтому, зная эту истину, Церковь так настоятельно предлагает своим духовным чадам молиться по лучшим образцам молитв, как бы говоря каждому: "общайся с лучшими моими святыми; перенимай их образ мышления и святое расположение к Богу; слушай их возвышенную и вдохновенную речь; приобщайся их духу; обращайся к Богу их словами; "дружи" и "водись" с ними, и ты станешь таким же, как они".
У нас, протестантов, всё происходит по тем же принципам. Когда к нам приходит новообращённый, то он, как правило, не в первый день начинает молиться. Он сначала много слушает, как молятся другие, и со временем начинает молиться сам, но его молитвы, конечно же, очень похожи на те, которые он слышал. Таким образом, начав общаться с баптистами он становится баптистом, и перенимает их отношение к Богу, в том числе и образ молитвы. И всем нам понятно, что если человек придёт не к нам, баптистам, а, например, к харизматам, то вскоре молится он будет несколько иначе, чем мы. По крайней мере, использовать слово "аллилуйя" в молитве он будет чаще, чем мы, и экспрессивности в молитве у него будет больше, чем у нас.
Мы все учимся и научились молиться по молитвам других - наших более опытных собратьев. Но разница с православными у нас та, что мы предлагаем в пример и образец своим младшим братьям свои собственные импровизированные молитвы, а православные предлагают в пример своих лучших святых, молитвы избранные, вдохновенные, возвышенные, поэтические, богословски выверенные. Отвергая пример этих прекрасных молитв, мы предлагаем в замен свои, чаще всего самые обычные, серые и посредственные молитвы.
То есть, по сути, я как протестант запрещаю людям учиться молиться у великих богословов и отцов Церкви, таких как Иоанн Златоуст и Василий Великий, но призываю учиться у меня! Не свидетельство ли это гордыни и духовной отчуждённости протестантизма от святого и богатейшего молитвенного опыта Вселенской Церкви? Всякому духовно здравомыслящему человеку очевидно, что предать забвению этот ценнейший, потом и кровью добытый и очищенный молитвенный опыт Церкви, мог внушить протестантам только дьявол, чтобы духовно обокрасть и увести нас от истинного Богопочитания и такой неземной красоты.
Ещё хочу заметить, что мы не позволяем на своих собраниях читать или произносить наизусть чужие молитвы по вышеуказанной причине: мы считаем такие молитвы не сердечными, а значит и не назидательными. Но ведь когда мы молимся при других, то всё собрание, кроме одного молящегося, только то и делает, что слушает чужую молитву! Но ведь мы не считаем такую молитву не назидательной, иначе бы мы так не молились. Мы не считаем и не говорим, что вот сейчас помолились четыре человека, а считаем, что помолились мы все. Ведь если мы, слушая молитву другого, соглашаемся с ней и говорим в конце слово "аминь", то это значит, что мы присоединяемся к молитве нашего брата; мы как бы говорим Богу: "со всем сказанным я согласен, и также благодарю и прошу Тебя о том же". Таким образом, молитва наших собратьев становится и нашей молитвой.
Если вернуться к примеру письма, то мы как бы написали Богу одно общее письмо: один написал, другие подписались; один помолился, другие сказали "аминь". Поэтому, если собранию верующих назидательно не только самим молиться, но и внимательно слушать молитву другого, внутренне присоединяясь к ней, то слушать и присоединяться к молитвам святых верующим будет настолько назидательнее, настолько эти молитвы живее, вдохновеннее и возвышеннее наших. И если уж мне всё равно непременно приходится учиться молиться по молитвам других; если мне всё равно на Богослужении приходится постоянно слушать молитвы моих собратьев, то лучше уж пусть это будут молитвы отцов Церкви, чем посредственные молитвы современных мне протестантов.
Ещё одна важная мысль о молитве "от сердца". О человеческом сердце Библия говорит так: "Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено" (Иер. 17:9). Потому, оно не может являться мерилом истины. По этой причине, очень часто искренние и сердечные молитвы Богу не угодны. Пример - фарисей в храме (см. Лк. 18:9-14). Он молился не заученными, а своими словами от своего сердца, но И. Христос осудил его молитву, ибо его сердце было исполнено гордости и самоправедности. Это очень важно понять! Правильно говорит об этом священник Игорь Иудин: "Но когда мы молимся своими словами, наша молитва бывает несовершенна. Ведь наше сердце несовершенно, оно не очищено, погрязло в грехах, в плотских страстях и в мирской суете. Сердце-то наше каменное, оно будет тянуть нас вниз, и молитва своими словами получится гордая и тщеславная, а мы это сами можем и упустить, не заметить. А когда мы молимся словами святых отцов, мы отчасти получаем то духовное состояние, в котором они пребывали, когда молились. То есть тянемся к Богу за ними, поднимаемся на их молитве вверх" [Журнал "Православие и мир" (14 Апр. 2009 г.), статья "Можно ли молиться своими словами?"].
Ещё один пример из жизни о молитве от сердца. Одна моя знакомая Элеонора, с которой мы дружили и некоторое время вместе трудились в качестве баптистских миссионеров в пос. Новолуганском, рассказала мне одну историю из своей жизни в г. Часов-Яре, где она работала с наркоманами. Когда на очередное занятие пришёл новичок, то в конце общения она предложила ему помолиться. Он отказывался, ссылаясь на своё неумение. Но она настаивала, говоря, по баптистской традиции, что это не сложно и что нужно просто помолиться о том, что на сердце. Новичок понял суть и помолился так: "Господи, дай моему другу Саньку доброе сердце, чтобы он поделился со мной анашёй".
Заметим, что он именно искренне помолился Богу своими словами о том, что у него действительно было на сердце, но угодна ли была Богу такая молитва? Конечно, этот случай редкий и комичный, но он ясно даёт понять, что молитва от сердца может быть Богу неугодной, если наше сердце не очищено от греха и страстей. Молитва от сердца тогда приятна Богу, когда оно чисто: "блаженны чистые сердцем" (Мф. 5:8).
Православные же по смирению не считают себя чистыми сердцем, а знают, что до истинной чистоты и святости им ещё нужно много расти. Потому, они очень сдержанно относятся к тому, чтобы молиться Богу исключительно своими словами, не прибегая к помощи церковных молитв. Православные, по скромности и смирению, любят молиться молитвами святых. Православных, я повторю, намного больше волнует не то, чтобы их молитва была оригинальная и неповторимая, а то, чтобы их молитва была Богоугодная. Они не столько желают выразить Богу всё, что у них на сердце, сколько настроить своё сердце на благоговейное, должное отношение к Богу; не столько высказать Богу то, что лежит в данный момент на сердце, подверженному различным страстям, греховным движениям, самовнушению и ложным, душевным [В противоположность духовным (ср. Иак. 3:15; 1 Кор. 2:14)] вдохновениям, сколько научиться говорить Богу то, что Ему угодно и действительно приятно слышать от человека.
Именно так мы сами относимся к своим детям. Мы желаем, чтобы они говорили с нами искренно, от сердца, но еще более мы желаем того, чтобы они, их сердце, было правильно к нам расположено. Сейчас, как все мы видим, вполне сбывается пророчество Ап. Павла о том, что в последнее время "люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны" и т.д. и в том числе "родителям непокорны" (2 Тим. 3:2). Мы видим, что многие дети разговаривают со своими родителями грубо, дерзко, неуважительно, оскорбительно, требовательно и эгоистично. Мы осуждаем такое поведение, но за что? За то ли, что эти дети говорят с родителями не от сердца? Нет, они как раз разговаривают с ними искренно и не лицемерно, высказывая именно то отношение, которое у них на сердце. Но мы их осуждаем за то, что само сердце их злобно, греховно и мерзко. И родители таких детей не хотят, чтобы их дети говорили с ними от такого своего сердца. Они тогда захотят слышать сердечный разговор от детей, когда в их сердце будет уважение и почтение к ним. Если же этого нет, то родителям будет предпочтительнее, чтобы они пошли к воспитанным детям и научились у них доброму отношению к родителям и тому, какими словами и каким тоном разговаривать с ними.
Вот так и в молитве: лучше молиться и обращаться к Богу уже составленными молитвами (о благодатности и Богоугодности которых свидетельствует соборный разум Вселенской Церкви), настраивая своё сердце на духовный настрой, который имели к Богу святые, чем молиться только от себя и быть уверенными, что одна искренность наших молитв уже так угодна Богу независимо от того, насколько наше сердце чисто.
Протестанты не молятся по православному молитвослову и не создают своего из-за убеждения, что молитва должна быть живой, а не формальной и бессердечной. Это убеждение вполне разделяют и православные. Но наша главная при этом ошибка заключается в том, что мы считаем, что молитвы своими словами являются живыми и сердечными сами по себе, а молитвы по молитвослову сами по себе - формальными и бездушными. Но это не так. На самом деле, и свои личные и заученные молитвы могут быть как живыми, так и холодными, в зависимости от молящегося. Вот чего мы не разумеем! "Нам нужно понимать, если человек молится, не важно, по молитвослову или своими словами, но без благоговейного, внимательного чувства к Господу, то такая молитва противна Богу, вызывает его негодование и гнев: "Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня. Но тщетно чтут Меня…" (Мф. 15, 8-9)" ["Православие и мир", 14 апреля 2009 г, статья: "Можно ли молиться своими словами?"].
Сколько раз я видел православных, которые с великим умилением и слезами на глазах молились Богу заученными словами, хотя другие, это верно, могут формально, бездушно, одним только языком произносить эти же молитвы. Но с молитвами своими словами всё точно так же. Одни люди могут молиться от всего сердца, а другие одним только языком, лицемерно и механически произносить правильные [Кстати, если оценивать правильность и Богоугодность протестантских молитв, то нужно будет сказать, что почти все они неугодны и мерзки для Него, и именно по причине нечистоты сердца. Протестант молится Богу, находясь в состоянии грубого и страшного прельщения (по православному прелести). Т.е., для Бога он не является Его чадом, так как не возродился правой верой и крещением; он не уверовал во Христа по Истине; не уверовал в Его "Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь"; не вошёл в нее, не омыл свои грехи благодатным крещением; не получил в миропомазании Духа Святого; не причастился в Причастии Тела и Крови Христовых; хулит множество Христом, Духом Святым, Апостолами и соборным разумом Церкви утверждённых догматов и проповедует свои богохульные учения, являясь открытым врагом Христовой Церкви. Но как при этом он молится Христу, Которого не познал и с Которым воюет? Он молится так: "слава Тебе, Господи, что Ты призвал меня в чудный Свой свет, что Ты простил и спас меня из этого мира и открыл мне истину. Благодарю Тебя, что Ты собрал нас здесь прославлять Твоё святое Имя" и т.д., хотя все эти слова есть чистая ложь, ибо Господь не прощал ему грехи, не спасал его, не вверял Себя, не собирал баптистов на собрание… Из молитв протестантов Богу угодны, по всей видимости, только молитвы, когда протестант молит Бога о том, чтобы ему познать истину. Из моих молитв в мою баптистскую бытность, угодными Богу были, как я думаю, только последние, когда я начал сомневаться в баптизме и стал искренне просить Бога о том, чтобы он наставил меня на путь правды и открыл мне истину, чего бы она мне не стоила] слова. Практически любой искренний протестант может подтвердить, что когда мы молимся прилюдно, особенно на большом собрании, то мы думаем преимущественно о внешней форме молитвы, то есть о том, как бы лучше и грамотнее выразиться и не сбиться при молитве. Поэтому, проблема холодности, бессердечности и формальности в молитве это не проблема молитвослова как такового. Человек как молитвой "Отче наш", так и своей собственной молитвой, может молиться горячо и сердечно, а может холодно и бездушно.
И об этом вопросе обильно пишут и говорят многие православные отцы, учителя, пастыри и богословы, именно - о необходимости сердечной молитвы и о недопустимости молитвы холодной. Не только полный, но даже самый краткий обзор и анализ вопроса: "что говорят православные святые о важности сердечной молитвы?" занял бы очень много страниц, чего нельзя позволить в виду ограниченного объёма данной книги. Поэтому привожу выборочно только одно из поучений на эту тему св. Иоанна Кронштадского:
"При молитве держись того правила, что лучше сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда замечаешь, что сердце твое хладно и молится неохотно, - остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, - например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты, или представлением великих, ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду человеческому, особенно же к христианам, и потом молись не торопясь, с теплым чувством; если и не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. "Хощу пять словес умом моим глаголати, нежели тьмы словес языком" (1 Кор. 14,19). Но очень хорошо, разумеется, было бы, если бы мы могли с должным сочувствием сказать на молитве и тьмы словес. Господь не оставляет трудящихся для Него и долго предстоящих Ему, в нюже (какую) меру они мерят, возмеривает и Он [Ср. Мр. 4:24: "какою мерою мерите, такою отмерено будет вам"] и, соответственно обилию истинных слов их молитвы, посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости. Хорошо продолжительно и непрестанно молиться [Ср. 1 Фес. 5:17: "непрестанно молитесь"], но не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть, могий вместити да вместит (Мф. 19,11,12). Не могущим вмещать продолжительной молитвы лучше творить молитвы краткие, но с горячею душою" [Св. Иоанн Кронштадский, "Моя жизнь во Христе", том 1, № 317].
Таким образом, о таком грехе, как бездушная молитва, Православная Церковь знает и многократно предостерегает от него. Но грех этот отнюдь не связан с молитвословом как таковым, а только с самим сердцем человека.
Теперь, для того, чтобы мы могли получить ещё более ясное представление о православных молитвах, приведу несколько молитв из молитвослова [Молитвы приводятся в русском переводе прежде всего ради моего протестантского читателя. Если же кто захочет познакомиться с православным молитвословом поближе, то я рекомендую приобрести молитвослов на церковнославянском языке с параллельным русским переводом. Русский перевод пусть будет для протестанта основным, но церковнославянский текст имеет свою неповторимую силу, красоту, величественность и благозвучие. Познакомиться с ним будет полезно хотя бы ради необычайного и незабываемого производимого им впечатления, а также для расширения своих представлений о нашей общей славянской культуре и языке наших предков. И ещё одна практическая заметка из личного опыта насчет молитвослова для тех протестантов, кто захочет ближе с ним познакомиться и попробовать по нему помолиться. Вначале нужно просто его почитать, понять и обдумать его содержание и привыкнуть к его языку, а затем уже по нему молиться], которыми часто молятся православные.
Перед началом всяких молитв: "Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вездесущий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, прииди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (3 раза).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради!
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах!...".
Утренняя молитва 5-я, Василия Великого: "Господи Вседержителю, Боже сил и всякой плоти, на высотах небесных живущий, призирающий на смиренных и испытующий сердца и внутренности, сокровенное людей знающий ясно, безнспокойной ночиачальный и вечный Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам, бессмертный Царю, прими моления наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в настоящее время от скверных уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, делом и словом и мыслию, сознательно и по неведению совершенные нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня явления Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он, Судия всех придёт на землю со славою воздать каждому по делам его; да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими и восставшими, при исполнении заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог Его славы, где празднующих глас непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и Тебя воспевает всякое творение во веки веков. Аминь".
Молитва 1-я пред Святым Причащением Василия Великого: "Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный, по преизбытку благости в последние дни облекшийся плотью, и распятый, и погребенный, за нас, неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную грехом природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царю, прими покаяние и меня, грешника, и приклони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои [Ср. Пс. 16:6]. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей, ибо прогневал благость Твою, преступив Твои заповеди и не послушав Твоих повелений [Перефразированные слова блудного сына (ср. Лк. 15:21)]. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не допустил мне погибнуть среди беззаконий моих, терпеливо ожидая моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего: "Я совсем не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жил" [Иез. 33:11]. Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло создание рук Твоих, и не находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины [Ср. 1 Тим. 2:4]. Потому и я, хотя и недостоин неба и земли и даже этой кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в собственном спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына [Все эти четыре образа взяты из Евангелия], и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлющий грех мира [Ср. Ин. 1:29] и немощи человеческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой [Ср. Мф. 11:28], пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию [Ср. Лк. 5:32], - очисти и меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в осуждение мне будет причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не соделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения [Ср. 1 Кор. 11:29], но дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение принимать часть святынь Твоих, но во общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, в которых Ты прославлен вовеки. Аминь".
Не знаю, каждому ли протестанту будет дана благодать узреть небесную (которой в баптизме решительно нет) красоту этих молитв, но я хочу засвидетельствовать о своём первоначальном впечатлении. Кроме главного - духа глубокого благоговения, смирения и прочего, о чём мы уже упоминали, православные молитвы впечатлили меня ещё тремя моментами.
1) Все они насквозь пронизаны образами, понятиями и словами из Библии, прежде всего Нового Завета. В последней молитве ссылками я указал главные библейские места, о которых вспоминал св. Василий Великий при составлении своей молитвы. Не в меньшей мере пронизано духом и буквой Св. Писания и всё православное богослужение. Этот факт потому так удивлял меня и радовал, что я, как всякий протестант, считал, что Православие проповедует не Евангелие, а какие-то человеческие, языческие, чуждые Библии предания. Но оказалось всё совершенно не так, и было стыдно за своё невежество.
2) Меня сильно поразило то, что все православные молитвы написаны одним духом. Читая молитвы святых Иоанна Златоуста и Василия Великого, живших в IV веке, Иоанна Дамаскина (VII-VIII вв.), Симеона Нового Богослова (X-XI вв.), оптинских старцев XVIII-XIX вв. и других святых, живших в разные времена и в разных странах, не чувствуешь никакой существенной разницы! То есть, я видел и осознавал, что Православие несёт одну единую "веру, однажды преданную святым" (Иуд. 3), единый молитвенный опыт, единый дух и мироощущение через все века. Эти молитвы - свидетельство того, что Православная Церковь с самых первых веков жила и живет единой духовной жизнью, являясь неким недвижимым родом в человечестве. В этих молитвах необычайно ощущается связь христианских поколений. Некто совершенно справедливо заметил, что всякая хорошая книга н/strongе имеет титульного листа. К Православию это высказывание относится в полной мере. Читая молитвы и книги православных святых можно не заметить, что начал читать уже другую молитву или книгу, и что авторы этих двух молитв или книг жили в разные времена и разных странах, и писали на разных языках.
3) Впечатлили меня молитвы также своей красотой, возвышенностью и величественностью. Один из самых любимых библейских стихов баптистов - 1 Кор. 11:3, где говорится о "простоте во Христе". Этими словами мы часто оправдывает не свою простоту, а свою духовную примитивность и бедность. Протестантизму не свойственно стремление к красоте и величественности, и он не только не создал и не способен создавать шедевры в архитектуре, в музыке, в изобразительном искусстве, в богословской мысли, в литературном слове, в культуре духовного общения [В Православии простое общение верующих друг с другом значительно уважительнее, учтивее и красивее нашего. Они красиво приветствуются и прощаются, говоря "со святым вечером", или "ангела хранителя", кланяясь при этом друг другу. Особенно красиво и уважительно приветствуются православные со священством. Очень понравились мне также такие выражения, как "ангела за трапезой", которое говорят православные за столом вместо мирского "приятного аппетита", и "Вашими молитвами" - так отвечают преимущественно священнику на вопрос "как Вы?" или "как Ваши дела?". Смиренное же выражение "простите меня Христа ради" также в обычае у православных], но и часто принципиально против всего прекрасного, называя его "уклонением от простоты во Христе".
Простота Христова заключается не в примитивности, а в доступности всякого самого простого человека прийти к Нему. Простота учения Христова заключается в том, что всякий может понять его основы и достичь спасения. Но эта простота не лишает Христа и христианства красоты, величественности и сложности. Что, Библия так проста? Откровение Иоанна Богослова так просто для понимания? Послание к Римлянам так просто написано? Догматы о Троице и природе Христа так просты? Ответить на эти вопросы "да" может только глупейший, вообще ничего не понимающий человек, ибо кто знает, что он ничего не знает, тот уже многое знает, а кто думает, что знает, тот не знает даже того, что ничего не знает.
Одним словом, Православие вполне сочетает простоту и царское величие. В Православии всё красиво, ибо Бог весьма красив. В Православии нет стремления к протестантской упрощённости. "Красота спасёт мир" - произнёс Ф.М. Достоевский, и красота именно Христова. Поэтому всякая истинная красота и благолепие свидетельствует о Христе. Всякая душа, в которой живет Христос, стремится к истинной красоте, к возвышенности и величественности. Потому православные молитвы так складны и так красивы. Потому мы не восхищаемся красотой православных храмов, музыки, икон, книг и молитв в том числе, что не живёт в нас православный Христос, источник всего истинно прекрасного. И разве можно сравнить православные молитвы по зрелости богословской мысли, по величию, красоте, смирению, глубине религиозного чувства, по красноречию, по любви и ревности к Богу и т.п. с протестантскими молитвами? Нет: предметы эти просто не подлежат сравнению. Но мы сами добровольно отказываемся от этой красоты, отвергаем её и никак не желаем быть частью такой великого духовного наследия! Я могу засвидетельствовать о себе, что если бы я был уверен в том, что Православие и баптизм есть веры равно спасительные, то я всё равно не остался бы баптистом только потому, что я познал (конечно же, в меру данной мне Богом благодати) красоту и величие православной духовности.
Теперь, по обычаю, хочу привести аргумент от противного. Что у сатанистов противопоставляется молитве? Ни что иное, как заклинания, в которых они обращаются (молятся) дьяволу. Но какими словами они молятся? Разве импровизированными? Нет, как известно, если не всегда, то чаще всего они используют заклинания уже готовые, которые были написаны по дьявольскому вдохновению другими, более опытными и посвящёнными их собратьями. И эти дьяволопоклонники понимают, что такие записанные заклинания имеют больше дьявольской силы (злодати), чем свои личные молитвы.
Дьявол, очередной раз повторим, всё делает в 1) подражание и 2) противопоставление Церкви, с которой он борется. Поэтому, своими записанными и читаемыми слово в слово заклинаниями он подражает Церкви, у которой есть записанные, читаемые слово в слово молитвы. И раз мы не признаём и противимся таким молитвам, то значит, не нам дьявол подражает, не нас копирует, не нам противостоит; значит, мы - не Церковь, с которой он борется, а ведь он точно знает, где истинная Церковь Христова, и кому ему нужно подражать.
Итак, в молитвах по молитвослову нет ничего ненормального или противоестественного христианской душе, и оные никак не лишают человека его личных отношений со Христом, и не являются холодными и бездушными, ибо холодность исходит не от молитв как таковых, а от сердца человека. Молитвами других молился Сам Христос на кресте, и так поступали и Апостолы. Молитвослов использовали также древние иудеи; он до сих пор остаётся в их обращении. "Отче наш", а также псаломскими и другими записанными молитвами молится Церковь от начала своего существования, чему подтверждение мы находим уже в Дидахе. И Церковь, предлагая своим чадам молиться по молитвослову, не запрещает им молиться и своими словами.
Напротив, для того молитвослов и нужен, чтобы научить человека самому правильно и с должным расположением обращаться к Богу. И православные молитвы предельно величественны, прекрасны, благодатны и Богодухновенны, дающие душе правильный духовно-душевный настрой. Свои же собственные молитвы, когда человек ещё не совершен и не научен духовной жизни, часто могут быть Богу неугодными.
Кроме того, различные сатанисты, которые всегда подражают (и извращают) не кому иному, как Церкви, обращаясь к дьяволу посредством давно слово в слово составленных и записанных заклинаний, показывают, что истинная Церковь молится своему Богу составленными молитвами.
Поэтому, протестантские осуждения православной практики молиться молитвами других неправедны, если к тому же учесть, что и сами мы постоян И об этом вопросе обильно пишут и говорят многие православные отцы, учителя, пастыри и богословы, именно - о необходимости сердечной молитвы и о недопустимости молитвы холодной. Не только полный, но даже самый краткий обзор и анализ вопроса: но обращаемся к Богу словами других. И эти напрасные обвинения протестантов в адрес Православия в использовании чужих молитв при том, что мы сами молимся такими молитвами, являются если и не первостепенной, то всё же не маловажной причиной, по которой я не желаю впредь оставаться баптистом и вообще протестантом.
[§ 1] Православные Храмы и совершаемые в них Богослужения радикально отличаются от протестантских служений и их домов молитвы. Эти различия мог легко заметить всякий, кто хотя бы однажды присутствовал на протестантской и православной службах[Протестанты, как правило, сильно противятся слову "служба", и называют свои собрания только "служением", считая, что в "службе" есть что-то обязательное и принудительное, как бы законническое; они же приходят на свои служения по велению сердца. На самом деле, всё это нелепые искусственные вымыслы, поскольку, во-первых, оба эти слова однокоренные и являются синонимами; во-вторых, православные также ходят на свои службы по велению сердца, и их никто туда не тянет и не может затянуть; в-третьих, в самопринуждении (в принуждении плоти) нет не только ничего преступного, но, напротив, это положительно заповедуется Евангелием. И неужели каждый протестант может сказать, положа руку на сердце, что он всегда ходит на свои собрания только по сердечному желанию, и никогда у него не было моментов, когда идти не хотелось, но он себя (и особенно своих детей) заставлял, то есть волю своей плоти подчинял воле своего духа и ума?].
Дон Ферберн пишет об этом так: "Любой евангельский христианин, который хотя бы поверхностно знаком с Православием, заметит драматическую разницу в формах богослужения православных и евангельских христиан. Вместо хорошо освещенных, относительно неукрашенных помещений - полутемные залы с большим количеством икон и свечей. Общее пение (под аккомпанемент органа, пианино или группы прославления) обычно заменено пением хора без музыкального сопровождения. Проповедь во время богослужения не занимает такого выдающегося положения, как у евангельских христиан, хотя Литургия в основном состоит из чтения избранных мест из Священного Писания. Большая часть богослужения проходит за иконостасом, вне поля зрения мирянина. Подобная атмосфера кажется чужеродной для евангельских христиан, и эта чужеродность легко может вызвать у них множество вопросов о Православии"["Иными глазами", с. 13].
Хотя протестантам свойственно не столько спрашивать - о, если бы они только спрашивали и слушали, вдумываясь, в ответы православных! - сколько обвинять и всему давать свои извращённые оценки. Таким образом, в настоящей главе я ставлю своей задачей дать библейско-историческое оправдание главным элементам православного Богослужения и устройства Храма.
Начну с ответа на два общих возражения протестантов против Православия в связи с данной темой.
[§ 2] Возражение 1. Главное место из Писания, которое приводят протестанты - Ин. 4:23, где сказано, что Богу нужно поклоняться "в духе и истине". Именно этим стихом они пытаются опровергнуть почти всё, что относится к православной храмовой жизни. От протестантов не редко можно слышать такое: иконы (или мощи, каждение, поклоны, крестное знамение и различные обряды) не нужны, потому что Богу нужно поклоняться в духе и истине. В своей истории баптисты так и пишут: "Внешняя обрядность в богослужении не нужна, ибо Богу следует поклоняться в духе и истине"[История ЕХБ в СССР, изд. ВСЕХБ, 1989 г., с. 66].
[§ 3] Для начала важно понять, что значит поклоняться Богу в духе? "В духе" значит, прежде всего, "в Духе Святом"[Протестанты, по крайней мере, русскоязычные, не имеют в виду такого толкования прежде всего потому, что в синодальной Библии, которой они пользуются, "в духе" написано с маленькой буквы, а значит, как они считают, речь идёт не о Духе Святом. На самом деле, синодальные переводчики имели такое правило: когда в тексте говорилось о Духе Святом как о личности, они писали "Дух" с большой буквы; когда же говорилось о сущности Бога, или и о сущности и личности одновременно, то "дух" писали с маленькой буквы, как в Ин. 4:24: "Бог есть дух". Но ещё важнее то, что слова "Отец", "Христос", "Иисус", "Бог", "Мессия" и т.п., а тем более местоимения, относящиеся к Богу ("Я", "Он", "Меня", "Который" и пр.), которые пишутся в русской Библии с большой буквы, в оригинале, на греческом, написаны с маленькой. Поэтому, нет никакого препятствия выражение "в духе", в Ин. 4:23, понимать как "в Духе"]. После грехопадения Адама до самого дня Пятидесятницы никто из людей не имел Духа Святого в себе, как говорил Христос Апостолам: "Он с вами пребывает и в вас будет" (Ин. 14:17); заметим: в Апостолах, как и других учениках Христа (и вообще в праведниках Ветхого Завета после грехопадения Адама) Духа ещё не было, а вошёл Он в человека впервые только на десятый день после вознесения Христова.
О ветхозаветных людях обычно говорится, что Дух Святой сходил и почивал на них, а не в них: "И сошел Господь в облаке, и говорил с ним (Моисеем), и взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать… Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане" (Числ. 11:25-26); "опочил дух Илии на Елисее" (4 Цар. 2:15); "И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий" (Числ. 24:2); "и сошел Дух Божий на Саула" (1 Цар. 11:6; ср. 10:10 и 19:23); "Дух Божий сошел на слуг Саула" (1 Цар. 19:20); "Тогда на Азарию… сошел Дух Божий" (2 Пар. 15:1), и т.д.
О христианах же говорится, что Дух Божий живёт в них: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1 Кор. 3:16); "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа" (1 Кор. 6:19). Именно это кардинально отличает ветхозаветных праведников от новозаветных: первые имели Духа Святого на себе (или же с собою, рядом с собой, как и говорит Христос в Ин. 14:17), то есть, Дух был рядом с ними, но не в них - вторые же имеют Его в себе, внутри себя[Нужно заметить, что хотя всё сказанное здесь можно без труда понять по Библии, тем не менее, буквально она говорит иногда, с одной стороны, о том, что Духа Святой пребывает не только в, но и на христианах - "Дух Божий почивает на вас" (1 Пет. 4:14). Объяснить это можно так: войдя в душу и тело христиан, Дух Святой не перестал, естественно, пребывать в тоже время и рядом с ними, на них; то есть большая благодать - пребывание Духа Святого в христианине - не устранила благодати меньшей - Его пребывание на нём. С другой стороны, в Библии иногда говорится, что Дух Божий пребывал в ветхозаветных праведниках - Иосифе и Данииле: "И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?" (Быт. 41:38); "Я (Валтасар) слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе" (Дан. 5:14). Объяснить это можно так: в этих словах нет безупречной богословской точности, ибо они были сказаны не Богодухновенными пророками, а языческими царями. В любом случае, даже если бы эти слова об Иосифе и Данииле были сказаны Самим Богом, никак нельзя отрицать того, что эти святые, до крестной жертвы и победы Христа, не имели и не могли иметь в себе Духа Святого в новозаветном качестве, то есть сама Его личность не жила в них, а имели они в себе только Его проявления - дух мудрости, света и разума, как говорит Валтасар. Если же этого протестанты этого не хотят признавать, и считают, что Дух Святой был и раньше в ветхозаветных праведниках, как сейчас в новозаветных, то для чего тогда Пятидесятница - в чём смысл сошествия Духа Святого? И о чём же тогда говорит Христос в Ин. 14:17?].
В этом и смысл дня Пятидесятницы: Дух Святой и прежде был среди людей и особенно близко Он был с праведниками, но только после победы Христа Он поселился в самих людях. Именно поэтому христиане и называются Храмом Духа Божия, как никогда не называются в Библии ветхозаветные праведники. Вот об этом и говорит Спаситель в Ин. 4:23: Богу нужно поклоняться с Духом Святым в себе, и только такое поклонение может поистине угодить Богу. Дар же Духа Святого может быть получен только в Церкви в Таинстве Миропомазания (читать об этом в гл. 14). Поэтому, протестанты, находящиеся вне Церкви и враждующие с Ней, не имеющие Миропомазания, никогда не поклонялись и в принципе не могут поклониться Богу в Духе Святом, ибо они не имеют Его и никогда не будут иметь, если не придут ко Христу через Его Церковь.
[§ 4] Справедливость данного толкования подтверждает и контекст речи Христа, ведь Он отвечает на вопрос не "как", а "где", то есть Он говорит не о способе, а месте поклонения Богу: "...не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине". Раньше Дух Божий пребывал сначала в скинии, а затем в иерусалимском Храме (по вере же самарян - на горе Гаризим).
Причём, хотя в Храме и пребывал Дух Святой, приходившие туда всё же не могли поклониться Богу в Духе, ибо в них Он не вселялся и во время храмового Богослужения. Но настает время, говорит Спаситель, когда Дух Святой особенным образом будет пр Дьявол, очередной раз повторим, всё делает в 1) подражание и 2) противопоставление Церкви, с которой он борется. Поэтому, своими записанными и читаемыми слово в слово заклинаниями он подражает Церкви, у которой есть записанные, читаемые слово в слово молитвы. И раз мы не признаём и противимся таким молитвам, то значит, не нам дьявол подражает, не нас копирует, не нам противостоит; значит, мы - не Церковь, с которой он борется, а ведь он точно знает, где истинная Церковь Христова, и кому ему нужно подражать.ебывать не только в иерусалимском Храме, но всей Своей Личностью (Ипостасью) Он вселится в каждого человека, кто родится свыше, кто получит дар Святого Духа. И те, кто уверуют во Христа, войдут в Его Церковь и получат дар Духа Святого, смогут поклоняться Богу на любом месте, ибо уже не только рядом с ними, но в них самих будет тот же Дух, который пребывает сейчас в иерусалимском Храме. На всяком месте - в отдельности или вместе, в частных домах, пещерах, домашних церквах или в Храмах, которые, как знал Христос, будут построены не только в Иерусалиме, имеющие в себе Духа Святого смогут поклоняться Отцу.
[§ 5] Теперь, что значит поклоняться Богу "в истине"? Это значит "по истине", "истинно"; то есть, Богу нужно поклоняться в истинной (правой) вере, имея правильные понятия и правильное отношение к Богу. Но, опять же, так поклоняется Богу только Единая Христовая Церковь - Православная. Понятно, что "свидетели Иеговы", не признающие Божество Христа и Духа Святого, не поклоняются Отцу в истине. Протестанты, хотя и не в такой степени, как "свидетели", но также исказили множество важнейших догматов веры, и посему поклоняются Богу не в истине.
[§ 6] Как же протестанты толкуют слова Христа о поклонении Отцу "в духе и истине"? Под "духом" они понимают не Дух Святой, а дух человеческий, и говорят, что Богу нужно поклоняться "в духе", то есть с чистым сердцем, от души, не лицемерно, а поэтому никакие обряды и внешние формы поклонения не нужны. Таковое понимание неверно, и вот почему.
[§ 7] Во-первых, Христос говорит о поклонении "в духе" как о чём-то новом, как о поклонении, которого прежде не было: "настанет время и настало уже". Итак, Господь говорит о сошествии Духа Святого, и ни о чём ином. Если же под поклонением "в духе" понимать поклонение искреннее, не лицемерное, не формальное, от чистого сердца и всей души, то так поклонялись Богу и ветхозаветные праведники - Авраам, Моисей, Давид, Даниил и прочие. Что же тогда нового в таковом поклонении? Или протестанты думают, что Иосиф и Исаия поклонялись Богу только формально, бездушно, механически, только внешне?
[§ 8] Во-вторых, искреннее поклонение Богу от всего сердца и души никак не противопоставляется возможности использовать в поклонении Богу различные формы и обряды, и никоим образом не отменяет их, ибо православные обычаи и обряды, используемые в поклонении Богу (крестное знамение, телесные поклоны, возжжение лампад, каждение и пр.) есть лишь форма и внешнее выражение поклонения духа человеческого Богу; противопоставлять же духу форму совершенно нелепо. Известна философская истина: "дух ищет себе форму". Дух Божий, вселившийся в учеников Христа, также нашёл формы для угодного Ему поклонения, в чём и наставил Церковь, по обетованию Христа: "Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину" (Ин. 16:13). Эти формы и запечатлены в православном Богослужении, обрядах и обычаях.
Трудно или даже невозможно представить поклонение Богу без формы: по крайней мере, с полной уверенностью это можно утверждать о человеке, находящемся в теле. Даже если он только в мыслях молится Богу (что также можно считать поклонением), то для этого он использует слова, которые есть форма для выражения мысли. И на словах противясь всякой внешней формальности, протестанты на своих служениях никоим образом без неё не обходятся и используют свои формы[В своей истории баптисты пишут: "Однако оставался неясным вопрос о форме крещения" (История ЕХБ, с. 54). То есть, протестанты также ищут формы для своих служений, и они для них не редко очень важны] и обряды - у них есть свои традиции и чины для совершения крещения, хлебопреломления, бракосочетания, погребения и обычных служб[Об этом подробнее будет сказано в гл. 19], только они, в сравнении с православными, весьма бедны. Поэтому, протестанты лишь упростили "внешнюю обрядность", но обходиться без неё, без формы, совсем они никак не могут, ибо это невозможно.
[§ 9] В своей борьбе с Церковью протестанты сделали многие понятия чисто отрицательными, что весьма затрудняет конструктивный диалог с православными, так как из-за этого они часто говорят на разных языках. Одно из таких слов - обряд; протестант слышит это слово только в негативном смысле, и его мозг невольно добавляет "мёртвый". То есть, для протестанта понятие "обряд" ассоциируется только с бездуховностью, формализмом, холодностью, мёртвостью.
На самом же деле, обряд это просто регулярно повторяемая последовательность определённых действий (и слов), это лишь форма для духа. И у протестантов, как было сказано, на деле есть свои обряды - крещения, бракосочетания и всех других служб. Когда протестанты крестят, они всегда совершают все (погружение, крестильная формула, пение, проповеди, руковозложение, поздравления и пр.) в одной последовательности. Всё это есть ничто иное, как обряд, но протестанты не хотят этого признавать. Для них обряд мёртв и всё. Но ведь от повторяемости каких-то действий обряд не становятся мёртвым автоматически, из-за самой по себе повторяемости. Если для кого-то обряд мёртвый, то это значит, что этот человек не раскрывает свою душу для данного обряда, не учувствует в нём душой; происходящее не находит отклика в его душе.
Например, на крещении баптистов я видел, как некоторые плакали. Это значит, что происходящий обряд находил живой отклик в их душе. Другие же, естественно, могли быть равнодушными. Но от этого сам обряд не становится мёртвым. Можно привести и мирской пример - церемонию (обряд) награждения, например, за фильм. Одни люди, имеющие к происходящему отношение, особенно награждаемые, всей душой учувствуют в этой церемонии, ловят каждое слово, наблюдают за всем: в напряжённые моменты они напрягаются, в весёлые - улыбаются. Другие же могут быть совершенно равнодушными к происходящему. Таким образом, обряд не бывает мёртвым самим по себе, пока есть те, которые живо его воспринимают, ценят и понимают.
Православные же обряды весьма духовные, символичные и смысловые. Всё православное Богослужение было создано Святой Церковью по воле и вдохновению Самого Духа. Православное Богослужение имеет Божественное происхождение, в чём не трудно убедиться, ибо если душой не противиться благодати, а принимать её, и с любовью вникать в православное Богослужение, то становится совершенно понятно, что такое величие, красоту, мудрость и гаркрасотой, возвышенностью и величественностьюмонию не мог создать человек сам по себе. Это чувство родственно тому, когда читаешь Библию и понимаешь, что она не могла быть написана человеком, без Божественного участия. Потому православный церковный человек, искренно верующий, никогда не назовёт Богослужение мёртвым, ведь он постоянно испытывает на нём и радость, и слёзы умиление и покаяния, и духовный восторг, и умиротворение.
Всё это, в определённой степени, многократно испытывал по милости Божией и я на православных Богослужениях. Например, когда я только принял Православие, я попал на службу в один монастырь, и когда стали петь символ веры и дошли до слов: "Верую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь", то слёзы радости и умиления сами просто потоком потекли из моих глаз. Подобных моментов было много, да не полезно о них писать: потому как же я могу назвать православное Богослужение мёртвым? Для меня теперь это просто богохульство - не больше, не меньше!
[§ 10] Очень важно, кстати, что ветхозаветное Богослужение было подобно православному, а не протестантскому; то есть, все действия и молитвы священников были одними и теми же, а не произвольными, и всё совершалось по определённому чину. Так что же, ветхозаветное Богослужение было из-за этого мёртвым, и ветхозаветные святые и пророки стояли на мёртвой службе? Нет, конечно. Можно взять пример и Библию. Её текст строго определён, и христиане веками читают и слушают на Богослужении одни и те же слова. Так что же, если библейский текст застыл и не продолжает дополняться и изменяться, то значит он мёртв? Опять нет. Поэтому, если протестантам православное Богослужение кажется мёртвым, то это лишь свидетельство того, что мертва их душа, к их же несчастью, и закрыта к его восприятию; что тот Дух, Который создал православное Богослужение, не живёт в их душе. Потому протестант и не чувствует в душе никакого отклика, потому он так убеждён в мёртвости православных обрядов и Богослужения.
Сами же православные богослужебные чины и обряды это дух и жизнь, это, повторю, совместное творение Духа Святого с духом святых людей. И всякий, кто того же духа с теми святыми, кто создал церковное Богослужение, живо воспринимает их, с большой радостью и удовлетворением. И нужно заметить, что православным весьма не свойственно рассказывать, особенно в подробностях, о своих духовных переживаниях, которые испытывать сподобляет их Господь на Богослужении. Это обычно держится втайне, во избежание гордости и людской похвалы, чтобы не потерять награды у Бога, по заповеди Христа - рассказывается же об этом иногда духовным людям, для назидания. А протестантам, которые горазды на всю вселенную кричать и "свидетельствовать" о своём духовном опыте и переживаниях, тем более кажется, что православные, раз ничего не рассказывают, нечего на своих "мёртвых" Богослужениях и не испытывают.
[§ 11] Возражение 2. Второе место, также не редко приводимое протестантами - Евр. 9:10, где ап. Павел пишет о ветхозаветном Богослужении: "и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления". Потому, говорят протестанты, в Новом Завете уже не нужно ничего ветхозаветного - ни Храмов, ни лампад, ни каждения, ни священнических облачений, ни поклонов, ни жертвенников и т.п., ибо всё это было установлено только до времени Нового Завета.
[§ 12] Если мы внимательно прочтём предложенное место Писания, то увидим, что оно не только не противоречит православному Богослужению, но напротив - служит важным свидетельством в его пользу. Ведь здесь говориться не о всецелом отвержении (как читают протестанты) ветхозаветного Богослужения, а о его исправлении(!). Параллельное этому место находится в Деян. 15:14-17: "14. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. 15. И с сим согласны слова пророков, как написано: 16. ''Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, 17. чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие''".
Приведенное пророчество взято из Ам. 9:11-12, и относится оно, безусловно, к Новому Завету. Христос пророчествовал об иерусалимском Храме: "Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено" (Мф. 24:2), и данное пророчество сбылось. Это событие, падение скинии Давидовой (и вообще иудаизма), и прозревал Амос. И Господь обещает, что иерусалимский Храм будет воссоздан и исправлен, причём уже не для одного еврейского, но для всех народов, о чём и говорят слова: "чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое". И христианские Храмы являются исполнением этого пророчества[Конечно, пророчество Амоса говорит о воссоздании и исправлении не только Храма, но об исправлении всего иудаизма, всей его веры и Богопочитания, то есть о преобразовании его в новозаветную Церковь для всех народов. Кроме того, под воссозданной скинией Давидовой, если толковать Писание методом рэмэз (намёк), можно понимать и воскресение Христово, но это будет отнюдь не первостепенный смысл].
[§ 13] Уместно также вспомнить здесь слова Христа: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. 5:17). "Исполнить" значит: "дополнить". Это относится и к ветхозаветному Богослужению: Церковь, под водительством Духа Святого, дополнила то, чего недоставало ветхозаветному Богослужению, и исправила то, что было в нём ветхим и временным, и главное из этого, конечно же, то, что Церковь отменила жертвоприношения животных, заменив их приношением "бескровной жертвы"[О бескровной жертве будет сказано в гл. 15], то есть Евхаристии.
[§ 14] Именно об исправлении, а не полной отмене ветхозаветного Богослужения, говорится и в "Апостольских Постановлениях": "Омовение, жертву, священство и богослужение местное Он преобразовал: вместо омовения каждодневного, дал одно только погружение, в смерть Его; вместо одного колена повелел избирать в священство наилучших из всякого народа и рассматривать не пороки на теле, но веру и жизнь; вместо жертвы кровавой установил жертву разумную, безкровную и таинственную, совершаемую в смерть Его ради образов, жертву тела и крови Своей, а вместо богослужения местного повелел и признал справедливым прославлять Его "от востока до запада на всяком месте владычества Его" (кн. 6/23), то есть определил христианам иметь не один, а много Храмов, и созидать их не на одном, а на всяком месте.
Таким образом, Церковь, согласно со Священным Писанием, воссоздала, исправила (преобразовала) и дополнила (усовершила) ветхозаветное Богослужение, а не тотально его отвергла, как протестанты.
Теперь поговорим о различных элементах православного Богослужения и устройства Храмов в отдельности.
О Храмах (в общем)
[§ 15] Протестанты, как известно, категорически не признают Храмов, и свои места своих собраний называют домами молитвы, но не Храмами. Хотя баптисты, например, последние годы стали строить свои дома молитвы в виде православных Храмов, иногда с апсидой[Округлая выпуклость в передней (алтарной) части Храма], устанавливая на них не только кресты (хотя раньше они категорически были запрещены - этот вопрос обсуждался в гл. 2), но даже купола в виде маковки (см. фотографию ниже) - характерной черты православных Храмов. Этим они, естественно, хотят заманить к себе православных, но где же здесь истина? Если Храмы не нужны, то зачем баптисты специально стали строить свои дома молитвы в виде Храмов?
 |
| Баптистский дом молитвы (г. Первомайск, Луганская область, Украина) |
[§ 16] Итак, важно решить вопрос: должны ли быть у Церкви Храмы? Важнейшее пророчество о христианских Храмах Дух Божий нашёл необходимым оставить уже в первой книге Библии, где патриарх Иаков вдохновенно говорит: "да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых…" (Быт. 9:27). Вот толкование этого места: "В еврейском языке шатер, скиния (что в переводе с греческого значит - шатёр, палатка) и Храм - одно и то же слово - hейхаль. Таким образом, в Быт. 9:27 содержится великое пророчество о том, что:
1) у Сима, т.е. у потомков Сима - евреев будет не один Храм (Ветхозаветный, Иерусалимский), а много - т.е. имеются в виду Новозаветные Храмы иудео-христиан; и
2) Иафет, т.е. его потомки иафетиды - греки, римляне, скифы (Быт. 10:2-5), принявшие от евреев Христианскую Веру, в том числе - и всё то, что касается учения о Новозаветном Храме, - как бы вселились в их Храмы, устроив и у себя такие же Храмы, как и у иудео-христиан, но и буквально, - войдя в жизнь их Храмов, когда не имели ещё своих".
[§ 17] Итак, евреи, потомки Сима (Апостолы и первые христиане были евреями) возвестили Евангелие язычникам (ревностнее всего приняли Христианство именно потомки Иафета), которые "вселились" в "шатрах Симовых" - в том смысле, что приняли от евреев всё то, что касается Новозаветного учения о воссозданном и исправленном Иерусалимском Храме (т.е. о христианских Храмам), стали посещать их Храмы и Богослужения, а затем и у себя устроили такие же Храмы.
[§ 18] Важно также осознавать, что у Бога на небесах есть Храм, где Он восседает на престоле, и где Ему поклоняются Ангелы и святые. Так, в Апокалипсисе говорится о мучениках за Христа: "За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них" (Откр. 7:15)[Впрочем, в Небесном Иерусалиме уже не будет Храма: "Храма же я не видел в Нем; ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец" (Откр. 21:22). Но Небесный Иерусалим явится только в конце всего - после брака Агнца и Церкви. До этого же события на небесах есть Храм]. Сидящим в Храме Господа видит и Исаия: "…видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм" (Ис. 6:1). Церкви же дана заповедь: "подражайте Богу, как чада возлюбленные" (Еф. 5:1). Вот поэтому, в подражание Богу, Ангелам и святым, служащим Богу в Храме, Церковь на земле также строит и обустраивает Храмы. И как ветхозаветная скиния (а затем и иерусалимский Храм) была устроена по образцу небесному - "по образу, который показал Господь Моисею" (Числ. 8:4); "сделай всё по образу, показанному тебе на горе" (Евр. 8:5) - то так же устраиваются и новозаветные Храмы - по образу, показанному Иоанну Богослову в Откровении, Моисею на горе Хорив и Исаии и другим пророкам в видениях.
[§ 19] И Православная Церковь воспринимает Храм и всё совершаемое в нём Богослужение прежде всего как присоединение к служению Ангелов и небесной Церкви, как сослужение с ними - в церковных песнопениях эта мысль утверждается постоянно, когда говориться, например, что верные на литургии "таинственно изображают херувимов"[По церковнославянски: "иже херувимы тайно образующе"]; что "силы небесные с нами невидимо служат"; что с Ангелами - "с сими блаженными силами" и мы "вопием и глаголем", и т.п.
Св. Иоанн Златоуст, например, говорит: "Священнослужение совершается на земле по чиноположению небесному. Ибо не человек, не Ангел, не Архангел, и не другой кто-либо из сотворенных, но Сам Утешитель учредил сие служение, и людей, ещё облечённых плотию, соделал представителями служения Ангелов"[Третье слово о священстве].
О том же говорит и св. Григорий Богослов в слове к готовящимся креститься: "Предстояние твоё великому алтарю, к которому будешь допущен тотчас после крещения, есть предизображение тамошней (небесной) славы, псалмопение, с которым тебя ведут, есть начало тамошнего песнопения"[40-е слово на св. крещение]. На православном Богослужении поистине небо встречается с землёй.
[§ 20] Теперь нужно задаться вопросом: были ли Храмы у древних христиан, или иначе: как относились первые христиане к местам своих собраний, и как они их устраивали?
Вот что говорит древнецерковная археология: "Катакомбы знаменуют эпоху раннехристианской духовной культуры и достаточно ясно характеризуют направление развития храмовой архитектуры, живописи, символики. Это особенно важно потому, что наземных храмов этого периода не сохранилось: они безжалостно разрушались во времена гонений. Так, в III в. при гонениях императора Декия в одном только Риме было уничтожено около 40 христианских храмов. Подземный христианский храм представлял собою прямоугольное, продолговатое помещение, в восточной, а иногда в западной части которого делалась обширная полукруглая ниша, отделённая особой низкой решеткой от остальной части храма. В центре этого полукружия обычно помещалась гробница мученика, служившая престолом. В капеллах к тому же имелась за престолом кафедра (седалище) епископа, перед алтарём - солея, затем следовала средняя часть храма, а за ней - отдельная, третья часть для оглашённых и кающихся, соответствующая притвору. Архитектура древнейших катакомбных христианских храмов являет нам чёткий, законченный корабельный тип церкви, разделённой на три части, с алтарём, отделённым преградой от остального храма. Это - классический тип храма, сохранившийся и до наших дней"["Настольная книга священнослужителя", изд. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2003 г., том 4, сс. 28-29].
[§ 21] Итак, места собраний древних христиан во всех главных элементах -
1) полукруглая ниша (апсида),
2) решетка, отделяющая алтарь (которая со временем преобразовалась в иконостас),
3) гробница мученика (сейчас ни один Храм не созидается хотя бы без частицы мощей),
4) престол (т.е. алтарь, жертвенник),
5) седалище епископа за престолом, что до сих пор имеется во всех Храмах,
6) солея (возвышенный помост) перед алтарём,
7) разделение здания на три части (алтарь, средняя часть и притвор)
- со всей очевидностью соответствуют православным Храмам, а не домам молитвы баптистов или пятидесятников. И само такое устройство мест собраний первых христиан свидетельствует, что к ним относились как к Храмам - местам, где особенным образом пребывает Господь. Конечно, древние христиане по причине гонений часто собирались и в частных домах, и в катакомбах, будучи вынужденными часто менять места своих собраний. По этой причине их первые Храмы часто были очень простыми. Но как только закончились гонения, христианские Храмы сразу приобрели величественный вид. Это говорит о том, что христиане всегда имели тенденцию устраивать места своих собраний как Божий Храм, как место особого Божьего пребывания.
[§ 22] Нужно отметить также, что разделение Храма на три части имеет глубокий богословско-символический смысл и обозначает сразу несколько духовных реалий:
1) трёхчастное деление всего сущего - область бытия Божия (алтарь), небесный ангельский мир (Храм) и мир земной (притвор);
2) человека - его дух, душу и тело;
3) трехчинность церковной иерархии;
4) трёхстепенное духовное состояние верующих - начало духовного пути - приближение к вере (притвор), жизнь в вере и возрастание во Христе и святости (Храм) и состояние совершенной чистоты и обоженности в Царствии Небесном (алтарь).
[§ 23] Переносной Храм евреев (скиния), а впоследствии и Храм стационарный, после их созидания были освящены. Так, Бог повелел Моисею: "И возьми елея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и будет свята" (Исх. 40:9). Также и Соломон освятил новосозданный Храм и иудеи праздновали это событие семь дней (см. 2 Пар. 5-6 гл; 7:1-10). По примеру древних евреев христиане также имеют обыкновение освящать новопостроенные Храмы, свидетельства чего находят уже в I-II веках[Бароний, "Церковные анналы", 112]. А после Константина Великого освящения Храмов стали совершаться в Церкви особенно торжественно.
[§ 24] Нужно заметить, что, как ни странно, протестанты также освящают свои новопостроенные дома молитвы - баптисты, например, приглашают гостей и многих пасторов с других общин, которые с воздетыми руками все по очереди молятся о новом молитвенном доме. При этом, естественно, вспоминается именно событие с освящением Храма Соломоном, и читаются соответственные места из Ветхого Завета. Но в этом протестанты противоречат себе, ведь Соломон освящал Храм Богу, а протестанты не признают Храмов: что же они освящают по примеру Соломона? Кроме того, протестанты не признают никаких вещественных святынь, святых мест и самой возможности материи быть святой (освящённой) - таких категорий просто нет в их богословии[Г. Вязовский, например, совершенно отрицает саму возможность вещественных святынь: "Проблема наличия "святынь" в баптистских церквах (хор, кафедра, Библия) - это беда непросвещенных людей, оставшихся во многом в православии" (Ветхая днями и крепкая ложью)] (этой теме была посвящена 1-я глава книги): как же и для чего тогда они освящают свои дома молитвы?
Ещё нужно заметить, что как древние евреи для освящения скинии, Храма и прочих святынь помазывали их елеем, так и Церковь при освящении своих Храмов всегда использует освященный елей - протестанты же, естественно, ничего об этом не знают.
Теперь хочу дать православный ответ на главные возражения протестантов против Храмов.
[§ 25] Возражение 1. "Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?" (Ис. 66:1). А также: "Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет" (Деян. 17:24). Вот, говорят протестанты, Бог велик и вездесущ, и для Него нельзя построить дом, чтобы Он там жил. Поэтому, Храмов нет и не может быть. (И как же иначе мог П. Рогозин назвать свою главу против православных Храмов, как не "рукотворные храмы"?).
[§ 26] Православный ответ таков: премудрый Соломон, построивший Богу Храм, прекрасно понимал то, что Господь велик, и что Его не вмещает и вся Вселенная. В своей молитве при освящении Храма он говорил: "Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил" (3 Цар. 8:27). Но тем не менее, Храм Богу был построен, причём по воле Самого Бога (см. 2 Цар. 7:13). И как дальше говорит Соломон в своей молитве? Разве так: "поэтому, поскольку Тебя и небеса не вмещают, и тем более этот Храм, то познав Твоё величие понимаю, что напрасны и весьма суетны были мои ожидания, что Ты сможешь поселиться в этом рукотворном Храме"? Нет, не так. Признав величие и необъятность Божию, Соломон просит: "Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой; услышь воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: "Мое имя будет там"; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй" (3 Цар. 8:28-30).
[§ 27] Таким образом, Бога не вмещает небо и земля, тем более не может вместить малое здание, однако же, Он Сам пожелал пребывать в Храме. Отвечая на молитву Соломона Господь сказал: "Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил Меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там во все дни" (3 Цар. 9:3). Еврейское выражение: "чтобы пребывать имени Моему там" (и вышеприведенное: "Моё имя будет там") означает: "чтобы пребывать личности Моей там". Эта мысль усиливается обещанием Бога, что в Храме будет Его сердце!
К тому же, в 3 Цар. 8:13 Соломон прямо говорит: "я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки". И ту истину, что Бог живёт и пребывает в Храме, подтверждал Сам Господь, говоря, что приходящие в Храм стояли "пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое" (Иер. 7:9). Подтвердил эту истину и Христос, когда сказал: "клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем" (Мф. 23:21). Итак, хотя Бога не вмещает Вселенная, Он пожелал пребывать и действительно жил в Храме.
[§ 28] Что же касается того, что Господь "не в рукотворенных храмах живет", то Апостол говорит это язычникам о самой сущности Бога, о чём говорил и Соломон: "Небо и небо небес не вмещают Тебя". Но при этом ап. Павел, как и Соломон, признавал, естественно, что Бог в тоже самое время (не теряя Своей вездесущности и невместимости) может особым образом пребывать и жить в угодных и построенных в Его честь Храмах. Иначе как согласовать слова Соломона, Бога и Христа Его о том, что Бог живёт в Храме (рукотворном, естественно), и слова ап. Павла, что Он "не в рукотворных храмах живёт"?
[§ 29] Итак, Бога, во всём Его величии и славе, не вмещают и небеса, но этот же Бог по любви к человеку ради его спасения умаляется и вселяется в "утробу приснодевственную"[Слова из православного песнопения] Своей Пречистой Матери. Поселяется Он, Невместимый, и в сердце человека, и протестанты в это верят - верят, что христианин - Храм Божий, и что Бог живёт в нём. Как же это может быть, если и небеса небес не вмещают Господа? Итак, с одной стороны Бога не вмещает и вся Вселенная, а с другой, Он может умещаться и пребывать - Своей личностью и особой благодатью - в посвящённых Ему Храмах (и в сердце человека).
[§ 30] Возражение 2. Бог говорит: "Не надейтесь на обманчивые слова: "здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень"" (Иер. 7:4). Вот, заявляют протестанты, очевидно, что надежда на Храм - суетна и ложна, потому Храмы и не нужны.
[§ 31] Чтобы ответить на этот вопрос достаточно только понять, что данные слова обращены к нечестивцам: "Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены", чтобы впредь делать все эти мерзости" (Иер. 7:8-10).
Таким образом, очевидно, что таковых лицемеров - творящих различные преступления и имеющие намерение и "впредь делать" их, и при этом приходящих в Храм и думающих, что они только поэтому будут спасены - Храм не спасёт, и их надежды на Храм окажутся ложными. Но для тех, кто приходит в дом Божий, пред лице Господа, с добрым расположением и страхом Божиим, надежда на Храм не будет обманчивой.
Это можно сравнить с Причастием, о котором Христос сказал, что оно дарует жизнь вечную и спасение (Ин. 6:54-58). Но приступающих недостойно, в нераскаянных грехах и без благоговения, Причастие не только не спасёт, но, напротив, погубит (см. 1 Кор. 11:27-30). Но из-за этого Причастие не становится не нужным или не спасительным. Вот так и Храм: благочестивые, приходя в Храм, духовно питаются и освящаются, взгревая и умножая свою веру, а лицемеры только умножают свои грехи, прибавляя к ним ещё и поругание над святыней.
[§ 32] Возражение 3. "И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись" (Мф. 27:51). Раздрание завесы в Храме означает, что Храм покинула Божия благодать, поэтому Храмы уже не нужны.
[§ 33] На самом деле, это не так, и с раздранием завесы благодать Божия не покинула иерусалимского Храма, ведь и после этого события христиане вместе с Апостолами приходили в Храм для молитвы и поклонения Богу: "Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый"; "каждый день единодушно пребывали в храме"; "все единодушно пребывали в притворе Соломоновом" (Деян. 3:1; 2:46; 4:12). Также и ап. Павел по прошествии многих лет после указанного события приходил в иерусалимских Храм для поклонения Богу и молитвы: "Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения" (Деян. 24:11), то есть поклонения в Храме.
Примечательно то, что молитва в Храме была для ап. Павла особо благодатна, поскольку Господь ясно ответил ему и говорил с ним: "Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне…" (Деян. 22:17-21). Соломон же, при освящении Храма, о том и молил Бога, чтобы на этом месте Он особо скоро слышал молящихся и отвечал им: "Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: "Мое имя будет там"; услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй".
Таким образом, иерусалимский Храм и после раздрания завесы исполнял своё назначение, и Господь продолжал там пребывать. Иначе, Он бы не говорил с ап. Павлом в Храме, и сами Апостолы и иудео-христиане не ходили бы в безблагодатный Храм для молитвы. Раздрание же завесы обозначало то, что теперь, после победы Христа, людям открылся доступ во Святая-святых, то есть доступ к Богу, которого они прежде не имели.
И действительно, христиане приступили к Богу и Святая-святых Храма не сравнимо ближе, и выражается это главным образом в том, что из алтаря выходит к ним в Святых Тайнах Сам Бог, давая верным в Причастии соединяться с Самим Собою. Иудейский же Храм Господь, дав иудеям почти 40 лет для покаяния, оставил, но намного позже - с его разрушением в 70-м году, но уже тогда, когда Он поселился в других - христианских Храмах.
[§ 34] Итак, тот факт, что Апостолы ходили в Храм молиться и после раздрания завесы говорит о том, что благодать Божия не ушла из него в этот момент. Кроме того, оставление Богом иудейского Храма ничего не говорит о не нужности Храмов христианских. Напротив, факт падения "скинии Давидовой" служит лишь исполнением первой части пророчества, и является как раз таки залогом того, что и вторая часть данного пророчества - о воссоздании и исправлении падшей скинии Давидовой - также исполнится, и действительно исполнилось появлением Храмов христианских.
[§ 35] Возражение 4. "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?" (1 Кор. 6:19); "Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: ''вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом''" (2 Кор. 6:16) ; "на которо/supм все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом" (Еф. 2:21-22). "…дом же Его - мы…" (Евр. 3:6). Вот, говорят протестанты, Храмов больше не нужно, поскольку сами христиане и их тела - Храм Бога. Об этом пишет, например, П. Рогозин: "…Бог избрал Своим обиталищем не стены храма, а возрождённое сердце верующего, как написано… (2 Кор. 6:16)"["Откуда всё это появилось?", глава "Рукотворные храмы"].
[§ 36] Здесь очередной раз мы видим одно и то же протестантское качество - неспособность к восприятию полноты истины; и здесь они ставят вопрос так, как будто нужно только выбирать - или быть самому Храмом Божиим, или иметь каменные Храмы: совмещение же этих двух истин кажется их сектантскому воображению невозможным.
Истина же заключается именно в том, что Храмом Божиим может быть и душа и тело человека, и каменный или деревянный Храм. И если бы рукотворный Храм был не нужен христианам, они не пребывали бы в нём ежедневно, и христианин ап. Павел не стал бы совершать паломничество в Иерусалимский Храм и молиться там Господу (и Господь не отвечал бы ему особым образом в безблагодатном Храме); и Господь не стал бы восстанавливать и исправлять скинию Давидову падшую, и не сказал бы, что Он сделает это для того, чтобы взыскали Его все народы, т.е. благодаря храмовому Богослужению.
[§ 37] Важно здесь отметить очередное противоречие в протестантском отношении к Храму. Баптисты, например, очень любят место Писания: "Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень" (Пс. 122:1). Этот стих постоянно цитирует пастор артёмовских баптистов, Кобзарь И.М., часто вместе с Евр. 10:25: "Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай…", призывая слушателей ревностнее и чаще приходить на собрания. Но если христиане собираются в доме Господнем, то как можно не считать его Храмом? Неужели Бог не живёт в Своём доме? Почему же тогда он носит название "дом Господень"?
[§ 38] Кроме того, протестанты, как было сказано, называют места своих собраний не иначе, как "дом молитвы", на основании слов пророка "…дом Мой назовется домом молитвы для всех народов" (Ис. 56:7). Но, опять же, домом молитвы нарекается никакое другое здание, как только "дом Мой", то есть дом Божий - Храм. Христос процитировал это место именно тогда, когда выгонял торговцев из Храма: "написано, - дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников" (Мф. 21:13). Но если дом молитвы есть дом Божий, то почему он не должен называться Храмом, и почему нужно думать, что Бог не живёт в Своём доме? Христианин только потому называется Храмом и домом Божиим, что в нём живёт Бог! Поэтому, если протестанты называют места своих собраний домами молитвы, то они должны признавать, что они есть дома Божии, то есть Храмы, (ибо, повторю, только дом Божий, Храм, называется домом молитвы), а значит и то, что в них живёт Бог. Но протестанты, при всей очевидной справедливости данного аргумента, отказываются это признавать[Впрочем, православные полностью согласны с протестантами в том, что их дома молитвы не являются Храмами, что Бога у них там нет]. Древние же христиане называли свои дома молитвами и домом Божиим, и Храмом.
Так, св. Дионисий Ареопагит (I в.) упоминает о "пространных в храмах предлагаемых наставлениях"[О небесной иерархии, гл. 1]; о том, что христиане "недостойных удаляют из храмов"[О Божественных именах, гл. 22] Тертуллиан (ум. 220 г.) писал: "Не горько ли видеть, как христианин, оставляя на время идолов, приходит в вашу церковь; как он из мастерской демона является в дом Божий"[Об идолопоклонстве, гл. 7].
Также и св. Григорий Неокесарийский (III в.) называет место собрания христиан "молитвенным храмом"[Правило 12], а св. Григорий Богослов (IV в.) просто Храмом Божиим: "возведи очи свои окрест, обозри вселенную, которую всю почти осиявают, как звёзды, храмы Божии открытыми алтарями, высоковерхими престолами, собраниями, стечениями целых семейств"[О смиренномудрии, целомудрии и воздержании], и т.д.
[§ 39] Теперь отвечу на вопрос: для чего же христианину, Храму Божию, нужен ещё и рукотворный Храм? Кроме очевидной причины - необходимость иметь помещение для собраний - Храм нужен, прежде всего, для Причащения! Главнейшее назначение Храма и всего совершаемого в нём - совершить Таинство Тело и Крови Христовых, и причастить верных этих Таин во спасение и соединение со Христом.
Кстати, именно по той причине, что в Храмах пребывает Господь, особенно в Причастии, они и устаиваются Церковью как можно богаче и великолепнее, как для Самого Бога. Потому протестантские возмущения, что православные погрязли в роскоши, строя себе Храмы-дворцы, с золотыми куполами - нелепы, ведь православные не свои дома, а дома Божьи делают такими величественными. А то, что и люди приходят в эти дома Божии также весьма важная часть живой проповеди Церкви: люди должны видеть, что Господь, призывая их к Себе, призывает разделить с Ним Его славу, честь и богатство. Храм это видимый образ Небесного Царства.
[§ 40] Второе весьма важное назначение Храма - возгревание духа и возбуждение в христианине веры и памятования о Боге. Хотя в христианине живёт Дух Святой, но ему трудно бывает постоянно гореть Духом, ибо жизнь в мире сем, с его шумом, заботами и суетой, постоянно стремиться охладить это горение, привести к забвению духовной жизни, разбавить единое стремление души к Богу другими стремлениями и желаниями. Храм же всем своим устройством, запахом ладана, горящими лампадами, образами Христа и святых и всеми своими святынями призван возбуждать в христианах дух веры и памятования Бога.
Хороший тому пример - человек, греющийся у костра зимой. Тепло тела человеческого можно сравнить с Духом Святым, живущим в христианине; зиму - с этим миром, а огонь с Храмом. И как нелепо будет, если этот человек отойдёт от костра, говоря: "зачем мне тепло костра? моё тело само источает тепло", то так же нелепо будет, если христианин скажет: "зачем мне Храм? Я сам - Храм Духа Святого". Ведь ясно, что как тепло костра никак не мешает, а только помогает человеку сохранять своё собственное тепло, так и благодать Храма только помогает пребывать в той же благодати человеку, приходящему в него.
[§ 41] Всё это отчасти понимают и протестанты, потому так ценят свои дома молитвы, и так настаивают на том, чтобы их члены как можно чаще приходили на собрания, сознавая, что без этого вера сильно охладевает. И если для протестантов возбуждением к их вере служат только общение и проповеди, то для православных - и сам Храм, даже вне Богослужения. Протестанту же, вне собрания, в своём пустом доме молитвы нечего делать: он никогда не задержится там, чтобы помолиться, порассуждать о Боге[А если некоторые старые баптисты, как я сам видел в своём детстве, и приходили на собрание специально пораньше, чтобы помолиться здесь Богу, то это как раз таки остатки православного благочестивого отношения к Храму - святому месту особого Божьего пребывания], посозерцать "красоту Господню", как может сделать это православный, и как писал Давид: "Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его" (Пс. 26:4). Если эти слова для православного весьма понятны, то для протестанта - чужды, ибо какую "красоту Господню" можно найти в пустых протестантских домах молитвы, которые и Храмами даже не именуются? О красоте иерусалимского Храма говорится и в Пс. 109:3: "В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни…". Посему, если ветхозаветный Храм был красив и благолепен, то насколько благолепнее должен быть Храм новозаветный - воссозданный и исправленный? И классические православные Храмы действительно много превосходят красотой и величием Храм иудейский.
У протестантов же этой красоты близко нет, а это говорит о многом, ибо, как сказал Ф.М. Достоевский, "красота спасёт мир". Определение это гениальное, и весьма важное в богословском отношении. Бог воистину красив (дьявол же невероятно безобразен и мерзок), и Церковь, имеющая в себе Бога, всегда стремиться к красоте и старается выразить её во всём - в слове, в молитвах, в песнопениях, в архитектуре Храмов и всём их убранстве, в иконописи, в одеянии духовенства, в обрядах и обычаях и пр. (Дьявол же, напротив, через своих людей стремиться выразить своё уродство и хаос, и появление и в последнее время жутких фильмов ужасов, уродливейших мультипликационных персонажей, безобразнейших видов живописи и искусства, демонической музыки и т.п. говорит о том, как далеко удалились люди в своих душах от Божественной красоты, а значит и спасения).
Итак, благолепие Православия есть выражение Божьей красоты, и удаление людей от Бога лишает их и чувства прекрасного, и стремления к нему. И именно отсутствие красоты характеризует протестантизм - всё в нём во всех отношениях убого, по сравнению с Православием. И чем больше протестанты удаляются от Церкви, тем меньше у них остаётся прекрасного. Поэтому, одно лишь сравнение православного Храма с протестантским домом молитвы, чуткого человека может вполне убедить в том, с кем и где пребывает Бог.
[§ 42] Возражение 5. "Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения" (1 Тим. 2:8). Вот, говорят протестанты, раз Апостол Павел призывает нас молиться на всяком месте, то значит Храмы не нужны.
[§ 43] Но если это так, то почему Апостолы Пётр и Иоанн молились не дома, а для молитвы нарочито "шли вместе в храм" (Деян. 3:1)? Для чего и ап. Павел, заповедавший Тимофею молиться на всяком месте, проделывал такой длинный путь, чтобы помолиться именно в Храме, где Бог особым образом ответил ему (Деян. 22:17-21; 24:11)? Очевидно, одно другому не мешает. Молиться можно и нужно всегда и везде, но молитву в Храме, в Своём доме, Господь быстрее слышит, да и самому человеку здесь легче молиться.
Так было и в Ветхом Завете: Бог и тогда, разумеется, слышал молитвы Своих людей (и отвечал на них!) не только в Храме, но на всяком месте - на поле сражения (1 Пар. 5:20), на постели (2 Пар. 32:24), во чрева кита (Ион. 2:2-11), в пустыне и песках Египта (Пс. 106:4-6, 10-13), в городке Дофаиме (4 Цар. 6:17-18) и т.д. Тем не менее, Храм, по воле Самого Бога, был построен, и целью его, кроме прочего, было скорое услышание Богом людских молитв (см. 3 Цар. 8:28-30). Одна истина никогда не противоречит другой; поэтому, истина о том, что Богу можно молиться на всяком мете, не отменяет другой истины, что молитвы в Храме имеют особую важность и благодатность, и Бог скорее и легче их слышит и отвечает на них.
[§ 44] Возражение 6. "…а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно" (Евр. 9:5). Протестанты заявляют: слова "о чем не нужно теперь говорить подробно" означают, что всё, что касается иерусалимского Храма, теперь, т.е. в Новом Завете, уже не нужно.
[§ 45] На самом деле, говорить подробно об устройстве иерусалимского Храма ап. Павлу не было нужды не по приведенной причине, а потому, что
1) Ветхий Завет уже давно и подробно сказал об этом;
2) еврейский народ, которому Павел адресует своё послание, уже давно устройство Храма изучил;
3) распространяться о данном вопросе не входило в цели настоящего послания Апостола.
Если бы всё, что касается ветхозаветного Храма было бы не нужно, то Господь не стал бы воссоздавать и исправлять скинию Давидову падшую (Деян. 15:16-17).
[§ 46] На последок хочу высказать одну важную мысль о Храме. Некоторым православным иногда может показаться, что протестанты тоже, наверное, благочестивы, что они пребывают в том же Боге, что и мы, но только они понимают веру несколько по иному, и почитают Бога иначе.
На этот вопрос я не буду здесь давать исчерпывающий ответ, а хочу сказать только одно: эта иллюзия пропадает, как только представляешь протестанта в православном Храме. Когда я попытался это сделать в своём уме - представить некоторых баптистских пасторов в православном Храме, совершающих крестное знамение и поклоны, смиренно подходящих со скрещенными руками к Чаше - я ужаснулся осознанию того, насколько нелепо выглядит эта картина, насколько сильно они на самом деле противится благодати, насколько баптистский дух несовместим с Православием (насколько он чужд и враждебен Духу Церкви), насколько сильно обнаруживается при этом духовная гордыня, в которой пребывают протестанты. Таким образом, православный Храм способен развеять иллюзии о том, что протестанты имеют Того же Духа, что и православные, и являются с ними одной Церковью[Хотя, данный метод трудно применим к экуменистам, по которым, из-за принятия ими уже другого духа (лести и "духовной всеядности"), не так легко можно увидеть эту духовную их несовместимость с Храмом Божиим].
Алтарь (Святая-святых)
[§ 47] В ветхозаветных скинии, а затем Храме, было "Святое-святых" (см. 3 Цар. 6:16). В Храме новозаветном также есть Святое-святых, называемое обычно алтарём (по названию главнейшей его принадлежности), только назначение его исправлено согласно духовным реалиям Нового Завета. Если раньше во Святое-святых входил один лишь первосвященник однажды в год, то теперь, после подвига Христа, вход в алтарь стал доступен всему священству (и его прислужникам); и если раньше священники служили в Храме (средней его части) - народ же стоял в притворе, то теперь весь народ стоит в Храме. После крещения же мужчина (или мальчик) по обычаю заводится (заносится) в алтарь, в знак того, что он потенциально может принять рукоположение и совершать священнодействия в алтаре. Женщины же, как не священнодействующие, в алтарь не заходят, за исключением некоторых женских монастырей.
[§ 48] Алтари были в Церкви изначала, о чём ясно свидетельствует церковная археология. Он размещался в передней части Храма, был выше остальной его части и отделялся завесой (иногда и решёткой)[Подробнее о завесе и решётке будет сказано ниже], по примеру ветхозаветной скинии: "За второю же завесою была скиния, называемая Святое-святых" (Евр. 9:3), а впоследствии - иконостасом.
Об алтаре прямо говорится ещё в "Правилах Апостольских": "Да не будет же позволено приносить к алтарю что-либо иное, кроме елея для лампады и фимиам во время святого приношения" (правило 3).
Из творений св. Дионисия Ареопагита ещё яснее видно, что в христианских Храмах были алтари. Так, в увещевании слишком суровому монаху Демофилу, изгнавшему из церкви кающегося, он пишет: "…наконец, принудив и священника выйти, ты с подобными себе вторгся вопреки закону в святилище и осквернил Святое святых, а пишешь к нам, что своим старанием сохранил Святое от угрожающего ему осквернения и доселе хранишь в целости. (…) Ибо Святое святых не от всех равно удалено - особенно близок к нему чин первосвященников, потом разряд священников, за ними следуют диаконы; чинам же монашеским назначены места у врат алтаря, у которых они и посвящаются… Поэтому чиноположение церковное повелевает, чтобы они не сами приобщались божественных таинств, но чтобы последние преподаваемы им были другими, т.е. теми, которые стоят ближе их ко внутренности Святилища…".
Об алтаре говорит и св. Григорий Богослов, как мы видели выше (§ 19, 38). Всё это совершенно чуждо и неизвестно протестантам: ни алтаря, ни завесы, ни елея, ни лампад, ни святого приношения, о которых говорят древние христиане, у них нет.
[§ 49] Хотя у протестантов нет алтаря, но теоретически они, естественно, будут возражать против того, что в алтаре служат только священники, ибо они не признают разделение верующих на священство и мирян, и помнят слова Писания о том, что все верующие могут приступать "с дерзновением к престолу благодати" (Евр. 4:16), ибо все они имеют "доступ к Отцу, в одном Духе" (Еф. 2:18). О том, что указанное разделение есть ясное учение как Библии, так и древней Церкви (и сами протестанты на практике разделяются на священство и мирян) будет подробно сказано в 12-й главе. Да и поскольку протестантизм просто насквозь пронизан всякими противоречиями, то и здесь не трудно их усмотреть. Ведь свои дома молитвы, например баптисты, особенно последние годы, строят во многом наподобие православных Храмов. Впереди, вместо алтаря, у них также есть возвышение, где располагается кафедра, места для служителей и хора. И если кто не из их числа, особенно женщина (которая в русском баптизме не проповедует), захочет зайти в эту переднюю часть и сесть, например, вместе с пастором и диаконами, то это будет расценено как крайнее бесчинство.
То есть, и баптисты понимают, что в переднюю часть их дома молитвы отнюдь нельзя входить всем желающим. Также было и в старом баптистском молитвенном доме, в котором я провёл своё детство. В передней части здания на возвышении стояла кафедра для проповедников, а за ней сидели пастор и диаконы. И на это возвышение не отнюдь не позволялось всем восходить.
[§ 50] Что же касается доступа к Отцу и престолу благодати всех верующих, то если даже понимать под этим "доступ к алтарю", то у всех верующих он безусловно есть в том смысле, что они приходят к алтарю и питаются от него Самим Христом, сами при этом становясь "Святое-святым". Но для такового доступа отнюдь не нужно всем заходить в алтарь.
Жертвенник
[§ 51] Непременной и важнейшей частью православного Храма является жертвенник, на котором совершается Страшная Жертва - Таинство Тела и Крови Христа. Протестанты же, отвергая учение Церкви о Евхаристии как жертве (об этом подробнее будет сказано в 15-й гл.), не имеют, естественно, и жертвенников. Итак, должны ли быть жертвенники у христиан?
[§ 52] Жертвенник был в ветхозаветном Храме по Божьему повелению: "И сделай жертвенник из дерева ситтим…" (Исх. 27:1; ср. 20:24), и о его важности и святости засвидетельствовал Сам Христос: "что больше: дар или жертвенник, освящающий дар" (Мф. 23:19). Есть жертвенник у Бога также и в небесном Храме, о котором неоднократно говорится: "И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем" (Откр. 11:1; ср. Откр. 6:9; 8:3, 5; 9:13; 14:18; 16:7).
Итак, древние иудеи поклонялись Богу в Храме, в котором был жертвенник, а Ангелы и святые на небесах и доныне поклоняются Богу в Храме с жертвенником. И поскольку воля Божия была в том, чтобы Храм иудейский был не упразднён, а исправлен; поскольку Храмы устрояются по образу небесному, по заповеди "подражайте Богу", то и они имеют жертвенники. И об этом мы находим у Апостола Павла прямое свидетельство: "Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии" (Евр. 13:10). (Этот факт, кстати, вполне подтверждает древне-церковная археология: в катакомбах, где собирались первые христиане, и во всех самых древних христианских Храмах есть жертвенники).
Но протестанты как бы не замечают слов ап. Павла, и не признают никаких христианских жертвенников! И заметим: под жертвенником нельзя здесь понимать Крест Христа, ибо Апостол пишет, что от него не имеют права питаться служащие скинии, то есть священники иудейские, а питаются, естественно, христиане. Чем же и от какого жертвенника питаются верные? Для Церкви во все времена ответ на этот вопрос был предельно ясен: верующие питается Телом и Кровью Христа от жертвенника Храма! Ведь параллельное место Евр. 13:10 находится в 1 Кор. 10:21: "Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской". То есть, в Церкви есть трапеза Господня, Его святые Тело и Кровь, которые и вкушают верные (и не имеют права вкушать служащие скинии), и приготовляется эта трапеза на особом столе, который является жертвенником["Трапеза" в греческом значит и "стол" и "еда". Православный жертвенник это и есть особо освященный и покрытый квадратный стол].
У протестантов тоже есть стол для хлебопреломления, но так как их учение о Причастии сильно искажено, то им совершенно не понятно, как этот стол можно назвать жертвенником, и почему ап. Павел так его называет.
[§ 53] Факт существования жертвенников у древних христиан многократно подтверждают, кроме археологии, и документы древней Церкви.
[§ 54] В "Апостольских Постановлениях" говорится: "Когда настанет молчание, один из первых епископов, вместе с другими двумя, став подле жертвенника…" (кн. 8/4). И далее: "По совершении сего, диаконы пусть приносят дары епископу к жертвеннику… два же диакона с той и другой стороны жертвенника… Итак, молящийся про себя первосвященник вместе со священниками и одевшийся в светлое одеяние и стоящий пред жертвенником, сделав рукою знамение креста на челе, пусть скажет: благодать Вседержителя Бога и любовь Господа нашего Иисуса Христа и причастие Святого Духа да будет со всеми вами…" (кн. 8/12). "Итак, бегайте приношений к жертвеннику Божию от людей с дурною совестию" (кн. 4/7). Заметим: о жертвеннике здесь говорится в самом буквальном смысле.
[§ 55] Вот ещё несколько цитат из этой книги: "Ныне же левиты народу вашему - вы епископы, служащие священной скинии, святой кафолической Церкви, и предстоящие алтарю (жертвеннику) Господа, Бога нашего, и приносящие Ему словесные и безкровные жертвы чрез Великого Первосвященника Иисуса" (кн. 2/25).
В молитве же на посвящение нового епископа находится прошение о том, чтобы Господь дал ему способность "благоугождать… Тебе в кротости и сердце чистом, непревратно, непорочно, незазорно принося Тебе чистую и безкровную жертву, которую Христос чиноположил, таинство Нового Завета…" (кн. 8/5).
"После этого да бывает жертва, при стоянии и безмолвном молении всего народа, а когда принесут ее, каждый чин особо пусть причащается тела Господня и драгоценной крови в порядке…" (кн. 2/57).
"… вместо жертвы кровавой Господь установил жертву разумную, безкровную и таинственную, совершаемую в смерть Его ради образов, жертву тела и крови Своей" (кн. 6/23).
"После молитвы один из епископов пусть дает в руки рукоположенного жертву" (кн. 8/5).
Из литургической молитвы: "И молимся Тебе, чтобы милостиво призрел Ты на предлежащие пред Тобою дары эти, Вседовольный Бог, и благоволил на них в честь Христа Твоего и ниспослал на жертву эту Духа Твоего Святого, свидетеля страданий Господа Иисуса, чтобы явил хлеб сей телом Христа Твоего и чашу сию - кровью Христа Твоего…" (кн. 8/12).
Во всех этих местах совершенно ясно говорится о Таинстве Причастия, о евхаристической жертве, которая приносилась, естественно, на жертвеннике.
[§ 56] И ещё: "Но и народу не позволяем мы совершать какое-либо из дел священнических, каковы: жертва, или погружение, или руковозложение, или благословение…" (кн. 3/10). В данном контексте также ясно, что под жертвой имеется в виду ни что иное, как Таинство Евхаристии, которое относится к делам священническим.
[§ 57] В "Апостольских правилах" мы читаем: "Если какой пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно собрания творить будет, и алтарь иной воздрузит…" (правило 31). Алтарь это то же самое, что жертвенник. Итак, в древней Церкви христиане воздвигали в своих Храмах жертвенники. Здесь лишь пресвитеру не позволено этого делать без воли епископа.
[§ 58] Из "Дидахе": "В день Господень собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо о ней сказал Господь: на всяком месте и во всякое время (должно) приносить Мне жертву чистую, потому что Я Царь великий, говорит Господь, и имя Мое чудно в народах" (гл. 14).
По контексту речи совершенно понятно, что по жертвой имеется в виду именно Таинство Причастия, а приносилась эта Жертва, естественно, на жертвеннике. И хотя приведенные цитаты, начиная с ап. Павла - I-го и II-го века, тем не менее П. Рогозин и здесь врёт, говоря: "До того времени (III в.) христиане, к удивлению язычников, не имели ещё ни Храмов, ни алтарей, ни жертвенников"["Откуда всё это появилось?", глава "Рукотворные храмы"].
[§ 59] Св. Ипполит Римский (170-235 гг.) в своей книге "Апостольское предание" называет Евхаристию жертвой: "Диаконы же пусть приносят к нему (епископу) жертву, и он, возлагая на нее руку вместе со всеми пресвитерами… Не возлагается на нее (вдову) рука потому, что она не приносит жертву и не имеет литургического служения" (гл. 4, 10). Опять же, здесь говорится о Жертве евхаристической, которая предполагает и жертвенник.
[§ 60] Св. Григорий Нисский (IV в.) также буквально говорит о жертвенниках христиан. Жалуясь на еретиков он говорит: "За что ненавидят нас, и что значат эти новые жертвенники, воздвигаемые в противоположность нашим?"[Цит. по: митр. Макарий, "Православно-догматическое Богословие", т. II, с. 109].
[§ 61] Итак, как центром ветхозаветного Богослужения было жертвоприношение (совершаемое на жертвеннике), так и сейчас центром новозаветного Богослужения является принесение "бескровной Жертвы" - Таинство Тела и Крови Христовых. При этом, ветхозаветное прообразовательное принесение в жертву животных было заменено на истинную жертву Христа, "непорочного и чистого Агнца" (1 Петр. 1:19). Таким образом, служение скинии Давидовой было не отвергнуто, а исправлено.
Протестанты же, для которых все эти понятия, вся вера и богослужебная жизнь древней (и современной) Церкви - совершенно чужды, являются чуждыми и Жертвы Христа; не имея жертвенника они, как и служащие скинии, о которых пишет ап. Павел, не имеют возможности и питаться от него, а значит - и возможности иметь в себе жизни, ибо по словам Христа, "если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни" (Ин. 6:53)[Об этом подробнее будет ещё сказано в 15-й главе].
Ковчег Нового Завета (дарохранительница)
[§ 62] Важнейшей принадлежностью и святыней ветхозаветного Храма был ковчег Завета, где хранилась манна небесная: "и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения…" (Исх. 26:33); "…скиния… имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною…" (Евр. 9:3-4). Ап. Павел пишет также: "Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков" (1 Кор. 10:11).
Что же прообразовала собою небесная манна, этот "хлеб ангельский" (Пс. 77:25)? Ничто иное, как "хлеб, сшедший с небес" (Ин. 6:41), то есть Христа - Его Тело и Кровь, как Сам Христос и объясняет (Ин. 6:48-59). Причём, в 58-м стихе Он ясно и буквально сравнивает Своё Тело и Кровь ветхозаветной манне: "Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей будет жить вовек". Вот этот уже истинный, а не прообразовательный Божественный Хлеб и хранится сейчас в новозаветных Храмах во Святая-святых на жертвеннике в дарохранительнице[Другие названия дарохранительницы - "ковчег", "кивот", "скиния"], которая есть ковчег Завета, но уже не Ветхого, а Нового. "Ковчеги (лат. arca) для хранения Св. Даров - первоначально не только в храмах, но также и в домах верующих - известны с III в."[Православная энциклопедия, дарохранительница].
И заметим, что Новый Завет был установлен именно на Тайной Вечере, когда Господь дал Своим ученикам вкусить этот небесный Хлеб. Потому дарохранительница с Хлебом Небесным, Телом и Кровью Христа, поистине есть ковчег Нового Завета.
Престол
[§ 63] Престол есть в Храме Божием на небесах: "За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них" (Откр. 7:15). Престол в Храме и Сидящего на нём Господа видит и пророк Исаия: "…видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм" (Ис. 6:1). И поскольку, как было сказано, христианам дана заповедь подражать Богу, и церковные Храмы устраиваются по образу небесному, то и в них есть престолы - седалища для епископов, которые олицетворяют собою сидящего на престоле Христа[Так как на жертвеннике в Святых Тайнах также пребывает Христос, то и он в Православии называется престолом. Например, когда св. Дионисий Ареопагит в письме к Демофилу пишет, что священнослужители "стоят ближе их (верных) ко внутренности Святилища, ибо они, окружая таинственно божественный престол…", то имеет он в виду, по всей видимости, н И действительно, христиане приступили к Богу и Святая-святых Храма не сравнимо ближе, и выражается это главным образом в том, что из алтаря выходит к ним в Святых Тайнах Сам Бог, давая верным в Причастии е престол епископа, а жертвенник].
И как в Откровении престол находится за жертвенником - "жертвенник, который перед престолом" (Откр. 8:3), то на этом же месте находится престол и в православном Храме; и как вокруг престола Божия были другие престолы - "И вокру/supг престола двадцать четыре престола…" (Откр. 4:4), "И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу" (Откр. 11:16) - так и в алтаре вокруг (полукругом с двух сторон) престола епископа располагаются меньшие престолы[Только в весьма больших Храмах есть возможность установить 24 малых престола. В меньших Храмах число престолов устанавливается по возможности] для священников, которые олицетворяют этих святых старцев, то есть самых близких ко Христу святых.
О том, что на небесах у Бога есть престол, и что восседает Он на нём среди других престолов, говорится также и у Даниила: "И поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями" (Дан. 7:9). По этому небе/strong [§ 61] Итак, как центром ветхозаветного Богослужения было жертвоприношение (совершаемое на жертвеннике), так и сейчас центром новозаветного Богослужения является принесение сному порядку и устраиваются престолы в православных Храмах, которые являются наглядным свидетельством и проповедью о невидимом устройстве Божьего Небесного Царства. Престол епископа и меньшие престолы для священников пророчески прообразуют также важное эсхатологическое событие, о котором предсказывал Христос: "когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых" (Мф. 19:28).
[§ 64] В Церкви из древности были в Храмах особые престолы для епископов (и для священников, очевидно, меньшие, как и сейчас). Об этом ясно говорится в "Апостольских Постановлениях" при описании того, как нужно устраивать здание церковного Храма: "Прежде всего, здание да будет продолговато, обращено на восток, с притворами по обеим сторонам к востоку, подобное кораблю. В средине[В кафедральном Соборе престол есть у епископа и в алтаре, и в середине Храма] да будет поставлен престол епископа, а по обеим сторонам его пусть сидит пресвитерство и стоят проворные и легко одетые диаконы…" (кн. 2/57); "А наутро прочие епископы пусть помещают его (новорукоположенного епископа) на принадлежащий ему престол…" (кн. 5/8).
[§ 65] Тертуллиан также писал: "Ну что же! Ты, желающий скорее упражнять любострастие в деле спасения твоего, пройди мимо церквей апостольских, в которых и до сего дня стоят подлинные кафедры апостолов, в которых огл/supашаются подлинные их писания, звучащие их голосами и являющие образ каждого из них"[О прескрипции еретиков, гл. 36].
"Кафедра" в греческом языке значит: "сиденье", "седалище". И Церковь до сего для называет престол епископа кафедрой - от сюда и названия "кафедральный Собор" и "епископская кафедра"[Со временем слово "кафедра" приобрело также значение "возвышение", ибо кафедра епископа всегда находилась и находится на возвышении]. И важно, особенно протестантам, отметить для себя, что кафедры были в церквах с I-го века: сначала для Апостолов, а потом и для их преемников - епископов.
[§ 66] О восседании на Богослужении на престоле пишет и св. епископ Григорий Богослов: "казалось, я сидел на горнем престоле. По обе стороны у меня на низших местах сидели пресвитеры - вожди стада. Диаконы стояли, и в белых своих одеждах изображали собою ангелов светлых. Народ точно рой пчёл толпился у решётки"[Сновидение о Храме воскресения в Константинополе]. О горнем месте упоминает и св. Иоанн Златоуст[1-е слово на Пятидесятницу]. В Православии же до сего дня место престола епископа именуется "горним местом".
[§ 67] Итак, протестанты, не имея престолов ни для епископов, ни для пресвитеров (а чаще всего они не имеют даже самих епископов - читать об этом в гл. 12), никак не следуют небесному образу, и устройство их домов молитвы в самых главных моментах совсем не таково, как было в древней Церкви.
Иконостас
[§ 68] В ветхозаветном Храме Святое-святых отделялось от остальной части Храма завесой: "И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы… и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса отделять вам святилище от Святаго-святых" (Исх. 26:31, 33). В воссозданном и исправленном Храме новозаветном также есть завеса. О ней упоминается в древнейшем документе Церкви - "Апостольских правилах": "Сосуд золотой, или серебряный освящённый, или завесу, никто уже да не присвоит на своё употребление" (правило 73).
Также и св. Дионисий Ареопагит говорит, что священники, "с благоговением исходя с ними (Святыми Дарами) вне священных завес…"[Письмо к монаху Демофилу], причащают верных у алтаря. Об алтарной завесе упоминают и святые отцы: св. Иоанн Златоуст: "когда ты видишь открывающимися обе половины завесы, то представляй, что отверзаются небеса и нисходят ангелы"[3-я беседа на послание к Ефесянам]; св. Епифаний Кипрский (315-403 гг.), описывая церковь, в которой он побывал, путешествуя, говорит: "В ней увидел я завесу тонкую и раскрашенную с изображением, кажется Христа или некоего святого; хорошо не помню"[Цит. по: Г.С. Дебольский, "Православная Церковь в её таинствах, богослужении, обрядах и требах", изд. "Отчий дом" 1994 г., с. 454]; св. Кирилл Александрийский (IV-V вв.): "Да научатся отнюдь не допускать человека незрелого внутрь священной завесы"[Толкование на Иоанна, гл 2], т.е. не поставлять незрелого священником.
[§ 69] Кроме завесы алтарь со временем стал отделяться не высокой решёткой, о чём упоминает, например, св. Григорий в вышеприведенной цитате (§ 66). Об этом пишет, около 316-317 года, также и Евсевий Кесарийский: "Чтобы (алтарное пространство) было недоступно для многих, (строитель) огородил (его) решетками из дерева, с предельно искусной тонкостью украшенными, чтобы смотрящим представить удивительный вид"[Церковная история, X 4. 44]. Со временем церковная завеса и решётка были преобразованы в величественный иконостас (хотя осталась и завеса[В ветхозаветной скинии было две завесы (см. Евр. 9:3). Поэтому, можно сказать и так, что Церковь оставила одну завесу, а другую преобразовала в иконостас], называемая ещё катапитасмой).
В том, что ветхозаветная завеса ныне стала иконостасом нет ничего недопустимого, ибо Церковь, как было уже неоднократно замечено, устройство ветхозаветного Храма не слепо заимствует, но исправляет его и приводит в большее совершенство. Иконостас же более матерчатой завесы отвечает нуждам Храма новозаветного. При этом назначение иконостаса осталось прежним - отделять Святое-святых (алтарь) от остальной части Храма. И как в иерусалимском Храме на завесе были святые изображения (херувимов), так и ныне на иконостасе находятся святые изображения - Христа, Девы Марии, Апостолов, Ангелов, пророков, древних патриархов и других святых.
Главная идея иконостаса - показать вселенскую Церковь Божию, объединяющую в себе ангельский и человеческий мир, Ветхий и Новый Завет. Иконостас есть видимое выражение той истины, что верные верою во Христа "приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева" (Евр. 12:22-24). Иконостас наглядно показывает, с кем православно верующие находятся в духовном общении, с кем составляют одну Церковь.
Амвон
[§ 70] В ветхозаветном Храме был амвон - возвышение для торжественных молитв священников пред лицом всего народа: "книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали" (Неем. 8:4). На амвоне молился и царь Соломон о построенном им Храме: "ибо Соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, а вышиною в три локтя, и поставил его среди двора; и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу" (2 Пар. 6:13).
В новозаветном Храме, воссозданной и исправленной скинии Давидовой, также есть амвон[А в кафедральных Соборах есть и второй амвон нарочито для епископа, посреди Храма] (и солея) - возвышение перед алтарём, на котором (амвоне) также совершаются молитвы (например, дьякон произносит здесь прошения от имени всей Церкви), произносятся проповеди, читается диаконом Евангелие, а главное - совершается причащение верных.
[§ 71] О наличии амвона (что буквально значит "возвышение") в христианских Храмах прямо говорится в "Апостольских Постановлениях": "Когда же окончит он (епископ) слово учительное, - говорю я, Андрей, брат Петра, - пусть все встанут, а диакон, взойдя на возвышение, пусть возглашает…" (кн. 8/5). И далее: "…дети пусть станут к амвону…" (кн. 8/11), и говорится это в связи с причащением. Так происходит в Церкви и до сего дня: верные, начиная с детей, подходят к амвону, где их причащает священник.
У протестантов, кстати, также есть, как правило, подобие амвона и солеи - их кафедра и хор располагаются впереди дома молитвы на помосте (возвышении). Правда, протестанты никогда не называют это место своих домов молитвы амвоном или солеёй, и не подходят к нему для участия в своей вечере (хотя христиане всегда причащались у амвона), а принимают хлеб и вино на своих местах. Одним словом, с одной стороны протестанты подражают Церкви, и в тоже время всё отвергают и искажают.
Притвор
[§ 72] В ветхозаветном Храме был притвор: "Большой двор огорожен был кругом тремя рядами тесаных камней и одним рядом кедровых бревен; также и внутренний двор храма Господа и притвор храма" (3 Цар. 7:12). У Церкви, воссозданной и исправленной скинии Давидовой, также есть притвор, и о нём упоминается ещё в "Апостольских Постановлениях" (кн. 8/13). Выше было сказано о духовном смысле притвора. В нём полагается стоять некрещеным и тяжко согрешившим и отлученным от причастия и общения церковного.
Эту меру церковного наказания - поставление согрешившего в притвор - нельзя не признать весьма мудрой: с одной стороны грешник не извергается из Церкви совсем, а с другой - стояние в притворе и запрет на молитву в Храме с верными очень наглядно даёт ему прочувствовать свой грех и его неизменный плод - извержение из Царства Божия и Богообщения, что даёт грешнику повод и стимул к искреннему покаянию. Протестанты же, естественно, ничего об этом не знают.
О церковных светильниках - лампадах и свечах
[§ 73] Необходимой частью ветхозаветного Храма был семисвечник: "И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него; шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его; И сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его" (Исх. 25:31-32, 37). На небесах ап. Иоанн в Откровении также видит семь светильников: "Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников" (Откр. 1:12); "И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом…" (Откр. 4:5). Потому и в новозаветном Храме, являющимся воссозданной и исправленной скинией Давидовой, устроенном по образу небесному, по заповеди: "подражайте Богу, как чада возлюбленные", также есть семисвечник, который, как и в Откровении, стоит "пред престолом" (Откр. 4:5). Протестанты же не имеют ни светильников с лампадами, ни семисвечников, ни престолов, ни вообще Храмов.
[§ 74] В Деян. 20:8 мы также встречаем особое упоминание о светильниках на собраниях первых христиан: "В горнице, где мы собрались, было довольно светильников". Хотя, безусловно, светильники использовались, в том числе, и для освещения (для этой цели они используются и в Церкви, особенно во все прежние века, когда не было электрических светильников), был у них (равно как и у свечей), безусловно, и сакраментальный - богослужебный смысл, иначе для чего бы Лука сообщал о светильниках, используемых для обычного освещения? Сакраментальное, а не практическое значение, имеют светильники и на небесах, ведь ясно, что горят они пред престолом Божиим не просто для освещения - Царство Христа и без них преизобилует светом.
Такое же сакраментальное духовное значение у светильников было и в Ветхом Завете: Господь повелел, "чтобы горел светильник во всякое время" (Исх. 27:20), "чтобы непрестанно горел светильник" (Лев. 24:1). Если бы целью светильника было обычное освещение, то, очевидно, ему не нужно было гореть постоянно - и днём и ночью, даже при отсутствии людей в Храме. Данный обычай соблюдается в Православии поныне: во многих Храмах есть лампады, которые горят непрестанно[Например, в Соборе св. Александра Невского г. Славянска, в котором я начинал своё диаконское служение, в трёх его пределах на престолах лампады горят непрестанно] - их называют "неугасимые".
А каково духовное назначение светильников - понять не трудно. Они символизируют свет Христов, просвещающий всякого человека (см. Ин. 1:4-9), напоминая о том, что христианин также должен быть "светом мира" (Мф. 5:14) и "светильником горящим и светящим" (см. Ин. 5:35); что он должен, как лампада, гореть и пламенеть духом (см. Деян. 18:25; Рим. 12:11) и сердцем (см. Лк. 24:32) к Богу, иначе - духовно бодрствовать, как говорил Христос: "Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи" (Лк. 12:35). И поскольку духовное бодрствование христианина выражается прежде всего в молитве, то горящая лампада есть символ молитвы.
Свеча же, кроме сказанного, означает мягкость и податливость сердца человеческого Божьей благодати: как воск тает под воздействием огня, так и наше сердце должно не упорствовать, а таять пред светом учения и заповедей Христа; и как свеча отдаёт свет, сгорая при этом, так и мы должны жертвовать собой и отдавать самого себя для служения Богу и ближним. Горящие свечи и лампады означают также духовную радость, торжество и умиление.
[§ 75] В Церкви издревле на Богослужениях использовались лампады и свечи, и отнюдь не только для практической цели - освещения. Так, на духовный смысл лампады указывает св. Дионисий Ареопагит (I в.). Он упоминает об использовании в церквах "вещественных светильников", которые служат "образом невещественного озарения" (полную цитату см. ниже).
[§ 76] О том, что в церквах, местах собраний древних христиан, использовались лампады, явствует и из Апостольских Правил: "Да не будет же позволено приносить к алтарю что-либо иное, кроме елея для лампады и фимиама во время святого приношения" (правило 3). А также: "Если какой христианин принесёт елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники, или возжет свечу: да будет отлучен от общения церковного" (правило 71).
Из сего можно заключить, что для древних христиан было обычаем приносить в церковь елей и возжигать свечи, что практикуют православные и сегодня. Правило же запрещает не вообще возжигать свечи, а делать это в капище и синагоге.
[§ 77] И ещё: "Если кто из причта, или мирянин, из святой церкви похитит воск, или елей: да будет отлучен от общения церковного, и пятерицею приложит к тому, что взял" (правило 72). Опять же, очевидно, что в церквах использовался воск (для свечей) и елей (кроме прочего, для лампад), очевидно, что для свечей и лампад.
[§ 78] О елее также упоминается и в "Апостольских Постановлениях": "Воду и елей пусть благословляет епископ…" (кн. 8/29). В контексте жизни древней Церкви можно не без основания полагать, что елей освящался, в том числе, и для возжжения его в лампадах.
[§ 79] Здесь же говорится: "Когда настанет вечер, ты, епископ, собери церковь, и после того, как скажут светильный псалом…" (кн. 8/35). Также и св. Василий Великий пишет: "во святой кафолической Церкви ежедневно воссылают славословия и молитвы утренние, равно как поются псалмы и приносятся молитвы ''светильничные''"["О исповедании веры", гл. 23]. Название "светильничные" получили некоторые псалмы именно потому, что при их чтении зажигались (как и сейчас зажигаются[По церковному уставу, некоторые лампады должны гореть во время Богослужения всегда, но в наиболее важные моменты службы возжигается большее их количество]) светильники, что ещё раз подтверждает, что лампады использовались в Церкви из начала, причём богослужебно-сакраментально, а не только в качестве освещения.
[§ 80] Св. Ипполит (II-III вв.) также упоминает о светильниках при Богослужении: "Когда приходит епископ, после наступления вечера, диакон пусть вносит светильник…"[Апостольское предание, гл. 25]. Хотя св. Ипполит говорит здесь о вечере, что вызывает вопрос о том, не для одного лишь освещения церковного здания требовалось вносить светильник, то требование вносить светильник именно диакону, рукоположенному священнослужителю, говорит в пользу того, что данное действо имело и сакраментальный смысл: особенно этот вывод кажется справедливым в контексте других, приведенных здесь (выше и ниже) свидетельств отношения древней Церкви к светильникам.
[§ 81] Но наиболее ясно о постоянном, даже днём, употреблении свечей - причём именно богослужебном - в древней Церкви свидетельствует Тертуллиан (ум. 220 г.) "Никогда не совершается у нас Богослужение без свечей, но мы употребляем их не для того только, чтобы разогнать мрак ночи, литургия совершается у нас и при свете дневном, но для того, чтобы изобразить через это (горящие свечи) Христа - Свет несотворённый, без Которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме"[Цит. по: "Настольная книга священнослужителя", том. IV, с. 761].
[§ 82] Блаженный Иероним (ум. 420 г.) пишет о том же: "Во всех Восточных Церквах, когда следует читать Евангелие, возжигается свеча и при солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак радости… чтобы под образом чувственного света показать тот Свет, о котором говорится в Псалтири: ''Слово Твоё - светильник ноге моей и свет стезе моей'' (Пс. 118:105)"[Там же].
[§ 83] Св. Иоанн Златоуст (IV в.) в Слове на память святого мученика Фоки свидетельствует, что в день его праздника церковь от множества горящих лампад походила на огненное море.
[§ 84] Также, на Седьмом Вселенском Соборе было подтверждена древнецерковная практика возжигать свечи, причём именно в духовно-символическом смысле: "изображению честнаго и животворящего Креста, святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и постановлением свечей честь воздаётся, какой и у древних благочестивый обычай был".
[§ 85] Здесь уместно также привести замечание Г.С. Дебольского: "Даже Реформация, которая отменила многие и древние обычаи Церкви кафолической, в некоторых местах встретила сильную защиту древнего употребления светильников при богослужении; и посему употребление их доселе сохранилось у лютеран в некоторых местах"["Православная Церковь в её таинствах, богослужении, обрядах и требах", Москва, изд. "Отчий дом", 1994 г., с. 51].
[§ 86] На всё это протестанты, кроме общих, уже рассмотренных в начале главы, возражений говорят, что семь светильников, по объяснению Христа, суть семь церквей (Откр. 1:20) и семь духов Божиих (Откр. 4:5), которые только образно названы светильниками. Да, семисвечник действительно обозначает семь церквей (и конкретные малазийские церкви, и, в ещё большей степени, семь периодов жизни Церкви, и полноту Вселенской Церкви), и семь таинств Церкви, и семь духов Божиих, - которых можно, по всей видимости, отождествить с "очами Господа" (Зах. 4:2, 10), то есть Его всеведением, - и вообще Божье совершенство, которое выражается числом семь.
Но разве понимание смысла символа говорит о ненужности самого символа? Если мы поняли, что флаг страны обозначает само государство и его людей, то разве это значит, что флаг уже не нужен? Или можно вспомнить о символе креста, который последние годы и протестанты стали устанавливать на своих домах молитвы. Крест обозначает страдания Христовы. Но если мы это поняли, то разве это значит, что сам символ уже не нужен, и что крест нужно снять? Вот так и с семисвечником: если мы понимаем, что он обозначает и что символизирует, то это не значит, что семисвечник уже не нужен. К тому же, в Откр. 1:12 ясно сказано, что ап. Иоанн увидел семь светильников, а не семь Церквей или семь духов.
О ладане и кадильницах
[§ 87] Протестанты, как известно, не используют ладана и каждения, считая это достоянием лишь Ветхого Завета (см. Исх. 25:29; 30:7-8; Лев. 16:12-13; 1 Цар. 2:28; Неем. 19:9). Но Новый Завет нигде не отменяет каждения. Напротив, в Новом Завете Апостол и тайнозритель Иоанн видит небесное Богослужение, на котором совершается каждение: "И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом" (Откр. 8:3; ср. 5:8).
Также и Исаия, видя небесный Божий Храм, в котором Серафимы славят Бога, замечает, что он "наполнился курениями" (Ис. 6:4). Верные же должны "подражать Богу, как чада возлюбленные" (Еф. 5:1). По сему, подражая Богу, Церковь, по небесному образу, также совершает воскурение фимиама на своих Богослужениях. К тому же, премудрый Соломон даёт общую оценку фимиаму, говоря, что он "радует сердце" (Прит. 27:9); и особенность этой тонкой духовной радости, бываемой при каждении, хорошо известна православным.
[§ 88] Важно заметить, что святые мудрецы принесли рождённому Спасителю три дара - золото, ладан и смирну (Мф. 2:11). Дары эти, конечно же, были принесены не случайно, а по вдохновению Божьему, и, несомненно, были угодны Христу. Вот так Церковь и поныне приносит Господу эти дары: золотом Она старается по возможности покрывать церковные сосуды, кресты, купола и пр.; смирна используется при изготовлении мира - важнейшей церковной святыни, через которую подаётся верным Дух Святой (этому вопросу будут посвящена гл. 14); приносит Христу Церковь и ладан на своих Богослужениях. Так за что же обвиняют православных протестанты, и почему они сами не приносят Христу ладан, если этот дар угоден Ему, и если на небесах Ангелы воскуряют фимиам перед престолом Божиим?
[§ 89] Протестанты говорят: фимиам символизирует молитвы - вот их мы и приносим Господу. Но разве ладан препятствует молитве или заменяет её? Напротив, как символ молитвы благоговейное воскурение ладана только содействует молитве и видимо её выражает. Ведь как при иудейском Богослужении, так и на небесах, есть и были и молитвы и фимиам, и одно гармонично дополняет другое и не вредит ему. Протестанты же, как обычно, не способны к восприятию полноты истины, и должны только выбирать - или молитва, или фимиам. Совместить же одно с другим они никак не могут - так дьявол повредил их логос.
[§ 90] Один из важных смыслов воскурения ладана заключается в том, что Господу, особенно на Богослужении, должно служить всем своим существом. И в православном Храме всё устроено премудро, чтобы человек участвовал в Богослужении всеми своими чувствами. Глазами молящийся видит иконы, священников и различные символические действия; ушами слышит молитвы, песнопения, проповеди, звон колоколов. Прикладываясь к иконам и Кресту, совершая крестное знамение, помазываясь елеем и окропляясь святой водой он задействует осязание; при вкушении Причастия или просфоры участвует вкус. Воскурение же ладана направлено обоняние, без чего участие человека в Богослужении было бы не полным.
Вообще, в мире у всего есть свой запах, и запах Храма, дома Божьего, это запах ладана, который сразу вызывает у входящего в Храм особые ассоциации, настраивая его на почтение к святому месту и молитву. Потому, воскурение ладана имеет важное значение в богослужебной жизни Церкви, и протестанты совершенно не правы, отвергая каждение.
[§ 91] Но, пожалуй, самое важное, что нужно знать протестантам о ладане - в Библии есть прямое пророчество о его приношении Господу в Новозаветной Церкви: "Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам[А что под фимиамом нужно здесь понимать именно фимиам, а не только молитву, следует даже из протестантской герменевтики, которая говорит, что если библейский текст можно понять буквально, то его всегда нужно именно так и понимать. Понять же буквально это место очень легко. К тому же, в протестантской герменевтике есть такой важный принцип, как "первочитатели" или "первослушатели". По этому принципу, библейский текст должно понимать так, как поняли бы его те, кому он был адресован прежде всего. Таковыми первослушателями являются в данном случае древние евреи, которые слова Малахии могли понять только буквально, что он говорит о принесении и воскурении фимиама] имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф" (Мал. 1:11). То, что данное пророчество говорит о Церкви, ясно, во-первых, из выражения "на всяком месте", поскольку во времена Малахии воскурение фимиама совершалось только в иерусалимском Храме; во-вторых, здесь говорится не о "народе" Израильском, а о "народах", то есть язычниках. В "Апостольских Постановлениях", например, говорится, что данные слова (Мал. 1:1), Господь изрёк о "вселенской Церкви Своей" (кн. 7/30).
[§ 92] Итак, в Церкви Православной приносят и воскуряют Богу фимиам (ладан). Протестанты же этого не делают. Из одного этого факта легко понять, что протестанты не в истине поклоняются и служат Богу, не исполняя Его воли и пророчества.
[§ 93] О том, что христианская Церковь издревле совершала каждение, есть ясные свидетельства. Так, в "Правилах Апостольских" мы читаем: "Да не будет же позволено приносить к алтарю что-либо иное, кроме елея для лампады и фимиам во время святого приношения" (правило 3). Зачем же древним христианам было приносить в алтарь фимиам, как не для его воскурения? Об использовании "чувственных благоуханий" (каждения) в древней Церкви говорит и св. Дионисий (см. § 95).
[§ 94] В постановлениях Седьмого Вселенского Собора мы читаем: "изображению честнаго и животворящего Креста, святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и постановлением свечей честь воздаётся, какой и у древних благочестивый обычай был". Заметим: использовать фимиам сей Собор не устанавливает, как новшество, а лишь подтверждает, ссылаясь на древность этого обычая в Церкви. Тот факт, что "каждение совершается во время молитвы с апостольских времен" признаёт и "свободная энциклопедия" Википедия[См. слово "кадило"].
[§ 95] Вообще, для того, чтобы согласиться с правомерностью и необходимостью использования на церковном Богослужении различных видимых и ощутительных для человеческих чувств вещей - икон, лампад и прочих предметов и священнодействий, в частности каждения - нужно понять природу человека и признать, что мы не можем познать Бога, Который есть чистый Дух, не поддающийся никакому описанию, иначе, как посредством видимых земных вещей. Поэтому Бог, приспосабливаясь к нам, как истинный Педагог, желая объяснить человеку, каков Он есть, постоянно уподобляет Себя чему-то земному, наделяет Сам Себя человеческими характеристиками и свойствами. Поэтому Библия говорит нам, что Бог имеет очи (Пс. 10:4), уши (Пс. 33:16), волосы (Дан. 7:9), лицо (Пс. 33:17), руки (Иов 10:8), крылья и перья (Пс. 90:4) и т.п. Потому Господь уподобляется то двери, то пастырю, то пути, то виноградной лозе и виноградарю (Ин. 10:7,11; 14:6; 15:1), то камню (Деян. 4:11) и пр. Потому и учение Своё Христос постоянно сопровождал различными притчами, уподобляя Царствие Небесное чему-то земному и человеческому. Со всем этим полностью согласны протестанты. Но ведь именно этот принцип приспособления, принцип познания Бога посредством видимого, понятного и осязаемого для человека, и положен в основу Богослужения Церкви.
Об этом замечательно говорит св. Дионисий Ареопагит: "Потому-то в первоначальном установлении обрядов святейшая наша Иерархия образована по подобию премирных небесных Чинов, и невещественные Чины представлены в различных вещественных образах и уподобительных изображениях, с той целью, чтобы мы, по мере сил наших, от священнейших изображений восходили к тому, что ими означается, - к простому и не имеющему никакого чувственного образа. Ибо ум наш не иначе может восходить к близости и созерцанию небесных Чинов, как при посредстве свойственного ему вещественного руководства: т.е. признавая видимые украшения отпечатками невидимого благолепия, чувственные благоухания - знамениями духовного раздаяния даров, вещественные светильники - образом невещественного озарения, пространные в храмах предлагаемые наставления - изображением умственного насыщения духа[Конечно, св. Дионисий не имеет в виду, что проповедь в Храме только "изображает" и символизирует насыщение духа, но не насыщает. Он говорит здесь только о символической стороне вопроса], порядок видимых украшений - указанием на стройный и постоянный порядок на небесах…; кратко, все действия, принадлежащие небесным существам, по самой их природе, нам преданы в символах… дабы мы чрез чувственное восходили к духовному, и чрез символические священные изображения - к простой, горней небесной Иерархии"[О небесной иерархии, гл. 3].
А также: "Известно, что совершение священных тайн ни у нас, ни у Церкви Ветхозаветной не производилось без боголепных символов… надлежало бесстрастную душу вознести к простому и внутреннему созерцанию боговидных образов и страстное тело врачевать и возводить к Богу по законам телесности, т.е. посредством предустановленных, преобразовательных символов, которые были бы сообразны с понятиями души и в то же время совершенно соответствовали бы истинам неприкровенного богословия, как образы, руководствующие к уразумению его учения…"[Письмо 9, к священноначальнику Титу].
Смыслов у каждения есть несколько.
[§ 96] 1) Освящение Храма и молящихся. Всякая святыня служит к освящению верных, и ладан, над которым перед каждением совершается особая молитва, служит той же цели.
[§ 97] 2) Каждение символизирует:
а) молитвы и их возношение к Богу, как написано: "и вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога" (Откр. 8:4), и как поёт Церковь: "да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое" (Пс. 140:2);
б) благодать Духа Святого;
в) духовное благоухание веры, которое должны распространять верующие своим словом и жизнью (см. 2 Кор. 2:14-16).
[§ 98] Что же говорят протестанты против каждения? Одни лишь нелепости и логические несуразицы. Например:
[§ 99] 1) "Никакое каждение не может заменить собою Духа Святого"[П. Рогозин, "Откуда всё это появилось?", глава "Каждение"]. А кто из православных говорит, что каждение заменяет Духа Святого, и что нам уже не нужен Св. Дух, поскольку у нас есть каждение? Так можно сказать о любой протестантской реальности, напримерstrong: проповеди, пение псалмов, молитвы, хождение на собрания, участие в евангелизациях, духовное образование и т.д. не может заменить собою Св. Духа, и с этим протестанты, конечно же, согласятся. Но если это так, то разве всё перечисленное уже не нужно? Нет, нужно. Почему же в отношении каждения они ставят вопрос так, что раз оно не может заменить собою Духа, то оно совершенно не нужно и запрещено, что Дух не может быть совместим с каждением) слово учительное, - говорю я, Андрей, брат Петра, - пусть все встанут, а диакон, ? Протестанты предлагают выбирать: или Дух Святой, или каждение, ибо как только совершится каждение, Дух Святой убежит, уверены протестанты. Православные знают, что бесы ладана бояться, а по протестантски выходит, что ладана боится Дух Святой. Очень "разумно".
[§ 100] 2) "Если мы живём и поступаем, как язычники, если Дух Святой не вселился в нас и не очистил нас от всякой скверны, если Он ещё не привёл нас к подражанию Христу, любви к Богу и любви к ближнему, то никакое ка/supждение нас не спасёт"[Там же]. Опять всё та же безумная протестантская логика и привычка противопоставлять одной истине другую. Ведь в вышеприведенной формулировке вместо слово "каждение" можно вставить что угодно, и сказать протестантам: "если мы живём и поступаем, как язычники, если Дух Святой не вселился в нас и не очистил нас от всякой скверны, если Он ещё не привёл нас к подражанию Христу, любви к Богу и любви к ближнему, то никакое посещение собраний, участие в евангелизациях, чтение Библии, богословское образование и пр. нас не спасёт".
Но можно ли на этом основании сделать вывод, что перечисленное не нужно и отменить посещение собраний и чтение Библии? Нет, это был бы безумный вывод! Но протестанты, как видим, согласны и на безумство, лишь бы удовлетворить жгучему желанию своего сердца и духа противиться Церкви и всячески хулить Её веру и устройство.
[§ 101] 3) "Нашим каждением пред Богом является наше достойное хождение пред Ним… и жертвенная способность и готовность проявлять любовь… (Фил. 4:18)"[Там же].радует сердце Здесь протестанты опять пытаются одну истину отвергнуть другой истиной, ставя вопрос так, что их совмещение совершенно невозможно. Если наша добродетельная жизнь есть благоухание Богу, то каждения уже не нужно, говорят протестанты: нужно выбирать, или добрые дела, или каждение. Воспринять же одну и другую истину, и дать каждой их них своё место протестанты никак не могут. То, что каждение ладаном никак не мешает и не исключает духовного каждения добрыми делами, они не могут допустить.
[§ 102] 4) "Напротив, Бог не благоволит к нашим курениям: ''Не носите больше даров тщетных; курение отвратительно для Меня…'' (Ис. 1:13-20)"[Там же]. Но разве здесь Бог говорит о том, что Ему отвратительно каждение как таковое? Нет. Эти слова обращает Господь к грешному народу Израильскому, обременённому беззакониями, оставившему и презревшему Господа (Ис. 1:4), возмутившемуся против Господа (2 ст.), коснеющему в нераскаянном упорстве (5 ст.). Вот таким нечестивым людям Бог и говорит: ваши курения отвратительны для Меня. Но если бы они раскаялись, то курение ладана и прочие жертвы были бы Ему приятны. Если же не так, и если Богу отвратительно всякое воскурение фимиама, то почему же Он Сам повелел совершать его? Почему и на небесах воскуряется ладан? Потому, приводить подобный аргумент против как такового воскурения фимиама - полное безумие.
[§ 103] Итак, протестантское заявление, что "применение… фимиама в христианской церкви решительно ничем не может быть оправдано"[Там же], и сама их практика, совершенно отвергающая каждение фимиама, есть просто демонстрация духовной их слепоты, ущербного сектантского духа и верности своим человеческим преданиям.
О телесных поклонах
[§ 104] Протестанты не совершают ни поясных, ни земных поклонов, говоря, что Богу нужно поклоняться не так, а "в духе и истине". Хотя в Ин. 4:23 Христос, говоря о поклонении Богу "в духе", имел в виду поклонение "в Духе Святом", о чём уже было сказано выше, но не станем на этом заострять внимание и согласимся с тем, что Господь непременно желает, чтобы человек поклонялся Ему в своём духе (и своим духом). Из этого протестанты делают совершенно не разумный вывод и говорят: "Богу нужно поклоняться в духе (в своей душе), а не телесно (внешне)".
Но разве поклонение Богу в духе означает запрет на телесное поклонение? Разве первое никак не может быть совместимо со вторым и должно непременно противопоставляться ему и упразднять его? Разве если человек телесно поклоняется Богу, то он в тоже самое время уже не может и духом Ему поклониться? Напротив, мы видим по жизни, что дух, душа и тело человека тесно связанны между собой, и когда плачет душа, плачет и тело, и когда радуется дух, с ним радуется и душа и тело, и лице человека бывает весело. Поэтому, что же неестественного в том, что человек, желая поклониться Богу духом, поклоняется Ему и телом, как говорится в "Апостольских Постановлениях": "Призри на преклонивших Тебе шею души и тела…" (кн. 8/9). Для протестантов же это почему то совершенно неестественно - они запрещают телесное поклонение. Им кажется, что нужно только выбирать - или поклониться Богу духом, или телом. Поклониться же Богу всем своим существом - и духом, и душой, и телом - они, почему то не могут, и отвергают таковое поклонение.
[§ 105] Причём, и здесь они сами себе, как обычно, противоречат. Поклоны можно разделить на 4 вида: поясной поклон, земной поклон (лицем до земли), коленопреклонение и поклонение головой, называемое в Православии "малым поклоном"[В Православии есть ещё "монашеский" поклон, когда человек лежит пред Богом на лице, распростерши руки в сторону, образуя таким образом своим телом крест]. Так вот, протестанты, отвергают только два вида поклона - поясной и земной, но признают малый поклон (хотя они его так и не называют), опуская в молитве свои головы, и коленопреклонение. Итак, если Богу не нужно от нас внешнее телесное поклонение, как учат протестанты, то зачем же они преклоняют пред Богом свои головы и колени, то есть, по сути, телесно поклоняются[Заметим, что "коленопреклонение" и "поклонение" слова однокоренные] Богу? Зачем они вообще используют своё тело в поклонении и прославлении Бога - приходят на собрания (в теле, естественно), встают и садятся, поют песни и проповедуют с помощью языка, и т.п. Ведь если Богу нужно поклоняться в духе, а не внешне и телесно, то нужно тогда просто выйти из тела, а иначе при поклонении Богу всегда будет задействоваться и тело человека, ведь даже если он просто будет молиться в своём уме, то его мозг (т.е. тело) также будет в этом участвовать.
Из сего понятно, что протестанты также поклоняются и служат Богу телесно, а не только духом и в духе. Да и если их спросить: "почему вы, молясь, преклоняете колени?", то они скажут, что "мы таким образом хотим выразить Богу наше почтение и смирение". Почему же если делать тоже самое, то есть становиться на колени, только ещё преклонять и голову до земли, как делал Христос (см. ниже), то протестанты это уже осуждают и не позволяют, говоря, что Богу не нужно так поклоняться, а "в духе"? Нелепость полная! (Хотя я ясно помню, как в дом моего отца в детстве приезжал баптист из далека, который после молитвы поклонился лицом до земли, что очень мне запомнилось).
[§ 106] Итак, причина отвержения поклонов протестантами заключается не в несовместимости духовного поклонения Богу с телесным (ведь они также служат и поклоняются Богу в теле и телом), и не в том, что Библия где-то запрещает или отменяет телесное внешнее поклонение - напротив, само слово "поклоняться" значит "преклоняться", то есть опускаться вниз перед кем-то, и во всех местах Библии, где используется слово "поклонение" и его производные, имеется в виду телесное, внешнее поклонение, что будет показано ниже.
Истинная причина отказа протестантов от земных и поясных поклоном заключается только в их человеческом предании, которое заповедует им всячески бороться с Церковью, отсекая от Её учения и Предания всё, что можно отсечь. Таким образом, протестанты оставили у себя из Православия то, что захотели: остальное нагло, бесцеремонно и безосновательно отвергли (поскольку одна из главнейших идей и линий протестантизма - упрощенство и минимум обрядов и традиций), а в оправдание приводят совершенно нелепые места Писания.
[§ 107] Итак, телесное поклонение никак не противоречит поклонению человеческого духа Богу, а лишь гармонично его дополняет, или, точнее, как раз и выражает таковое поклонение, ибо дух и тело человека неразрывно связаны: человек это духовно-телесное существо. Потому ап. Павел и пишет: "прославляйте Бога и в телах ваших..." (1 Кор. 6:20), а не только "в духе". Телесное же поклонение Богу как раз относится к прославлению Бога "в телах ваших".
Евреи, как известно, телесно поклонялись Богу: они "поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли" (Неем. 8:6); "По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились" (2 Пар. 29:29). Поклонялись Христу телесно и Апостолы: "Они поклонились Ему..." (Лк. 24:52).
В своих небесных, тонких телах поклоняются Господу Ангелы и святые: "И все Ангелы… пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу…" (Откр. 7:11); "И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу" (Откр. 11:16). Сам Христос, молясь Отцу, поклонялся до земли, как написано: "отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой…" (Мф. 26:39).
Христианам же заповедано подражать Христу и Его святым. Потому они изначала поклонялись Богу не только в духе и духом, но и телом. Так, в "Апостольских Постановлениях" описывается чин совершения Богослужения, и там есть такие слова: "диакон пусть говорит: ''преклонитесь…''. И епископ пусть молится, говоря: Бог верный и истинный… призри на этот народ Твой, преклонивший Тебе головы свои…" (кн. 8/38-39). А также: "Встав, Богу Христом Его поклонитесь…" (кн. 8/8, 15). Также и св. И. Златоуст упоминает о телесных поклонах как о самом обычном деле для христиан: "Если бы он (диавол) низверг тебя после долговременных непрерывных постов, земных поклонов и других подвигов, то и тогда не надлежало бы отчаиваться…"[К Федору падшему, увещание 2].
[§ 108] Конечно, Церковь вовсе не учит, что поклонение Богу может выражаться только посредством тела. Естественно, что парализованный человек и без участия тела может поклоняться Богу. Сокрушаясь духом, смиряясь душой пред Богом и ближним, усердно совершая какое-либо служение для Господа, читая Священное Писание, молясь Богу непрестанно (ср. 1 Фес. 5:17) во время различных занятий или даже лёжа на постели, христианин тем самым, в определённом смысле, поклоняется Богу (преклоняется пред Ним - Его волей и заповедями), но, во-первых, всё это никак не отменяет возможности во время общественной или частной молитвы телесно поклониться Богу; во-вторых, всё, что бы ни делал человек, живя на земле, что можно отнести к поклонению Богу, делается им при участии тела, в теле и телом (при чтении используются глаза; при проповеди - язык, при молитве - ноги и колени, при других служениях - руки и ноги и другие части тела, а также во всех случаях мозг), и между поклонением Богу в духе и поклонением телесным нет ни малейшего противоречия - оно есть только в духовно больном сознании протестантов, в их лживом учении, которое внушил им отец всякой лжи.
О стоянии на Богослужени
[§ 109] Протестанты на своих службах, как известно, преимущественно сидят, а православные - стоят. Чем объясняется такое различие, и кто поступает лучше? Протестанты более всего на своих собраниях уделяют внимание проповеди, потому они и сидят. Православные же собираются в Храме прежде всего для молитвы, для Богослужения, а молиться прилично, естественно, стоя, а не сидя, и протестанты на молитву также встают (хотя западные протестанты и харизматы всё чаще и на молитве сидят). И поскольку большая часть православных богослужебных текстов, которые читаются и поются в Церкви, являются молитвами, то потому верные стараются стоять, по слову Христа: "когда стоите на молитве" (Мк. 11:25). Посему, пророческие слова Господа о том, что "дом Мой назовется домом молитвы для всех народов" (Ис. 56:7) полностью соответствуют православному Храму, где молитва действительно занимает важнейшее, центральное место при Богослужении, где по этой причине молящиеся и стоят, а не сидят.
Протестантским же домам их собраний, которые они называют "дом молитвы", применяя к себе пророчество Исаии, данные слова соответствуют куда меньше, чем православным Храмам, и их гораздо справедливее было бы назвать "домами проповеди", ибо проповедь, а отнюдь не молитва занимает у протестантов главное место - оттого они и сидят.
Здесь хочу заметить, что протестанты много говорят о "христоцентричности" Богослужения и "личных отношениях со Христом", но на самом деле, на своих службах они очень много внимания уделяют не Богу и молитве, а друг другу. Если вы хотите увидеть действительно христоцентричное Богослужение - пойдите в православный Храм, особенно в монастыре, где верующие всю службу действительно обращены всем своим существом к Богу и молитве, и друг на друга почти не обращают внимания.
[§ 110] Это качество православной службы заметил и высоко оценил известный и авторитетный англиканский богослов Клайв Льюис: "Образец для меня - ''русская православная'' служба. Одни сидят, другие лежат ничком, кто-то стоит на коленях, кто-то просто стоит, кто-то ходит, и никто ни на кого не обращает внимания. Умно, учтиво и по-христиански. ''Не лезь в чужие дела'' - хорошее правило, даже в церкви".
А также: "Однажды я был на греческой службе, и больше всего мне понравилось, что там, насколько я понял, нет правил для паствы. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то опустился на колени... Самое же лучшее в том, что никто ни в малой степени не следил друг за другом. Хотел бы я, чтобы мы, англичане, это переняли! У нас есть люди, которым очень мешает, если сосед не крестится или крестится. Лучше бы они вообще не смотрели, тем более - не судили чужого раба"[Цит. по: А. Кураев, "Протестантам о Православии", изд. Киев, 1997 г., с. 247].
А причина, по которой православные стараются не обращать на Богослужении внимания друг на друга заключается именно в том, что сюда они пришли прежде всего помолится Богу! Потому православное Богослужение намного более "христоцентрично", чем протестантское, и именно православный Храм не только на словах, а на самом деле есть "дом молитвы".
[§ 111] Нужно сказать и то, что собрания христиан есть прежде всего Богослужение, и протестанты с этим не будут спорить. Но если это так, то служить приличнее и почтительнее, естественно, стоя, а не сидя: сидит господин, слуга же ему предстоит; так и солдат на службе стоит, а не сидит. Все небесные силы пред Богом стоят и предстоят: "И сказал Михей… я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его" (3 Цар. 22:19; ср. Ис. 6:2; Дан. 7:10; Откр. 7:11). Множество спасённых на небесах также "стояло пред престолом и пред Агнцем" (Откр. 7:9). Евреи на своих Богослужениях также стояли: "Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи" (Пс. 133:1); "И все Иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их" (2 Пар. 20:13); "приходите и становитесь пред лицем Моим" (Иер. 7:10; ср. 2 Пар. 5:12; 20:5; 1 Езд. 3:10; Неем. 8:7; 9:4-5).
[§ 112] Древняя Церковь также на своих Богослужениях преимущественно стояла, как это видно из археологических раскопок, где в древних Храмах, в том числе и катакомбах, не обретают никаких сидений. В "Апостольских Постановлениях", например, не раз говорится о стоянии священства и обычных христиан на Богослужении: "бдящие", то есть верные, "в день Господень сходятся… на общее стояние собрания" (кн. 3/6), а также: "Подобным образом диакон пусть надзирает за народом, чтобы никто не шумел, не дремал, не смеялся и не размахивал; ибо в церкви должно стоять со вниманием, трезвенно и бодро, имея слух устремленным к слову Господню" (кн. 2/57). И ещё: "Во время же чтения Евангелия все пресвитеры и диаконы и весь народ пусть стоят в глубоком безмолвии; ибо написано: "молчи и слушай, Израиль"; и опять: "ты же здесь стань и слушай"" (кн. 2/57).
Далее говорится о том, как совершать литургию: "…прямо ко Господу со страхом и трепетом стоя, станем приносить (бескровную жертву). По совершении сего, диаконы пусть приносят дары епископу к жертвеннику, а пресвитеры пусть стоят по правую и левую стороны его (епископа), как ученики, предстоящие учителю: два же диакона с той и другой стороны жертвенника пусть держат из тонких кож или из павлиновых перьев или из полотна рипиду, и тихо отгоняют малых летающих животных, чтобы не попали в чаши… первосвященник вместе со священниками и одевшийся в светлое одеяние и стоящий пред жертвенником (молится): …Ты сподобил нас стоять пред Тобою и священствовать Тебе" (кн. 8/12). Священство (прежде всего - епископы и пресвитеры), кстати, часто называются здесь именно "предстоятелями", прежде всего потому, что они на службах стоят пред Богом, Его алтарём, впереди верных. Предстоятелями называет священство и ап. Павел (1 Фес. 5:12).
Важно также заметить, что всё описанное выше - и само стояние на службе, и епископы, и стояние пресвитеров по правую и левую руку епископа, и приношении даров, и жертвенник, и рипиды, и священствование, и читаемые молитвы - всё это и поныне есть составляющие православного Богослужения. У протестантов же ничего этого нет: их убеждение, что они вернулись к жизни древней Церкви - жестокий дьявольский обман; их вера и служба совсем иные, чем у древних христиан.
[§ 113] Впрочем, в "Апостольских Постановлениях" упоминается и о сидении священства на некоторых моментах Богослужения: "В средине да будет поставлен престол епископа, а по обеим сторонам его пусть сидит пресвитерство и стоят проворные и легко одетые диаконы" (кн. 2/57). Описанный эпизод Богослужения (а православное Богослужение преизобилует библейскими текстами, символами и образами) епископ изображает собой Христа, сидящего на престоле, пресвитеры уподобляются старцам, сидящим на своих престолах пред Ним (см. Откр. 4:3-4), а стоящие диаконы - Ангелам (см. Откр. 7:11), ибо и одни и другие - служители. Всё описанное опять же вполне соответствует православному Богослужению, где в Храмах, особенно кафедральных[Т.е. там, где служит епископ], посреди алтаря стоит престол епископа, по обеим его сторонам - сидения для пресвитеров, где в определённые моменты службы епископ и пресвитеры садятся в предстояния диаконов.
"Постановления" говорят о возможности сидеть в определённое время и мирянам (кн. 2/57). Такая возможность есть и сегодня в православных Храмах, в которых сзади и по сторонам располагаются сидения. На них в определённые моменты Богослужения можно сидеть. Эти места занимают преимущественно пожилые и больные люди. Но стояние на Богослужении пред Богом предпочтительнее, ибо при этом оказывается больше почтение Господу, Его дому и молитве.
О молитве на восток
[§ 114] Православные в молитве всегда стремятся обращаться на восток, потому и Храмы свои, которые суть дома молитвы, всегда стараются строить на восток, и вот почему: "Св. Писание именует Христа Солнцем Правды["А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные" (Мал. 4:2)] которому надлежит взойти, а по сей причине - и Востоком свыше["…по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше" (Лк. 1:78)], поэтому Невеста Христова молится Небесному Жениху Своему: "приди"["И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!" (Откр. 22:17)], обращаясь туда, откуда Он - Солнце Правды - и должен прийти, т.е. - на Восток". Обычай этот наблюдает Церковь от самого начала своего существования.
Так, в "Апостольских Постановлениях", например, говорится об этом неоднократно: "Прежде всего, церковное здание да будет продолговато, обращено на восток, с притворами по обеим сторонам к востоку, подобное кораблю… После этого, все вместе встав и смотря на восток, по выходе оглашенных и кающихся, пусть молятся Богу, возшедшему на небеса небес на восток, воспоминая о древнем наследовании рая, находившегося на востоке, откуда изгнан первый человек после того, как нарушил заповедь, поддавшись навету змия" (кн. 2/57).
Действительно, рай, по свидетельству Библии, находился на востоке (см. Быт. 2:8; 3:24), и туда и обращают христиане свои взоры - и духовные и телесные. Причём, Церковь уподобляется кораблю, плывущему от тьмы греховной к свету Христовому, а если плыть от тьмы к свету, то необходимо, разумеется, плыть на восток.
[§ 115] О том, что древние христиане молились на восток, ясно свидетельствует и Тертуллиан (II-III вв.) в своей "Апологии" (гл. 16). Он защищает христиан от нападений язычников, которые говорили, что "солнце - наш (христианский) Бог", и объясняет причину происхождения такого взгляда: "Не вдаваясь в подробности, скажем, что мнение это произошло от того, что узнали, что мы молимся, обратившись лицом на восток".
[§ 116] Св. Василий Великий (IV в.) говорит, что обычай "к востоку обращаться в молитве" верные "приняли от апостольского предания"[Правило 91. Из 27 главы его книги о Святом Духе, к блаженному Амфилохию].
[§ 117] Св. Афанасий Великий[Протестантам свойственно отторжение православных титулов, таких как: "преподобный", "преосвященный", и в том числе и "великий". Но св. Афанасий получил такое имя отнюдь не случайно, ибо одно время, в 350 году, он был единственным епископом всей восточной римской империи, который не уклонился в арианскую ересь и ревностно отстаивал православное исповедание - единосущность Отца и Сына] (IV в.) подтверждает слова св. Василия, и, кроме того, даёт прекрасное богословское объяснение данному обычаю: "Еллинам же говорим следующее: когда мы кланяемся к востоку, то отнюдь не думаем, будто бы Бог ограничивался востоком; но поскольку Бог есть истинный свет и называется истинным светом, посему, устремляя взор на созданный свет, мы поклоняемся не ему, но Творцу его, светлою стихиею научаясь почитать светлейшего паче всех стихий и предвечного Бога. Верные же пусть услышат и узнают, что блаженнейшие Апостолы для того заповедали обращать Церкви Божии к востоку, чтобы мы устремляли взор к раю, который потеряли, к нашему древнему отечеству и стране, прося Бога и Владыку снова ввести нас туда, откуда изгнаны"[Ответ князю Антиоху, вопрос 37].
[§ 118] Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) также упоминает о христианском обычае молиться на восток, духовно противопоставляя его западу. В своём 1-м тайноводственном поучении он говорит новокрещённым: "Вы сперва взошли в преддверие крестительного притвора, стоя лицом к западу слушали, по повелению простирали руку, и как бы находящегося там сатаны отрицались… Хочу сказать и то, для чего вы лицом к западу стояли: ибо сие нужно. Поскольку место видимой тьмы есть запад, сатана же, будучи тьма, во тьме и державу имеет: для того прознаменовательно смотря на запад, вы отрицаетесь того темного и мрачного князя... Когда же ты отрицаешься сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз и древнее согласие с адом (Ис. 28:15): тогда отверзается тебе рай Божий, на востоке насажденный (Быт. 2:8), откуда за преступление изгнан был наш праотец (Быт. 3:23). Обозначая сие, обратился ты от запада к востоку, стране света".
Здесь же св. Кирилл свидетельствует о том, что крещаемые отрицались от сатаны, стоя лицом к западу, произнося слова: отрекаюсь "от всех дел твоих, и всея гордыни твоей, и всего служения твоего". Этот элемент до сих пор присутствует в православном чине крещения.
[§ 120] На всё это протестанты скажут, что Бог находится везде, не только на востоке, а потому и не важно, в какую сторону обращаться в молитве. На данное возражение св. Афанасий уже ответил в вышеприведенной цитате, говоря, что "когда мы кланяемся к востоку, то отнюдь не думаем, будто бы Бог ограничивался востоком", и пр. Тем не менее, молитва на восток имеет свой смысл, поскольку восток символизирует Христа, Его свет и утерянный рай. Причём, данный обычай установлен самими Апостолами!
[§ 121] Ещё протестанты лукаво вопрошают: а услышит ли Бог христианина, если он молится не на восток? Например, если он движется в автобусе на запад, или лежит на постели лицом к югу? Ведь верующим заповедано молится всегда и везде. Православный ответ: конечно услышит. Ну вот, говорят протестанты, из сего ясно, что совершенно не важно, в какую сторону молиться и строить свои дома молитвы.
[§ 122] Это - очередной пример ущербной, чисто сектантской логики, которую можно назвать логикой усечения или минимализации (или культом простоты), формула которой такова: "если без чего-то можно обойтись, то это и не нужно". Этой логикой постоянно пользуются протестанты, особенно в отношении Церкви. Понять крайнюю несостоятельность данного утверждения можно по такому примеру. Живёт человек в достатке. И вот некто у него спрашивает: "а можете ли вы выжить без своего автомобиля"? "Могу", отвечает человек. "А можете ли вы выжить без мебели, кровати, бытовой техники, штор, обоев, книг; без мяса, масла и разнообразной пищи - на одной каше, хлебе и воде"? "Смогу, наверное". Но следует ли из этого вывод, что раз так, то всё перечисленное ему не нужно? Нет, конечно же, ибо человеку для полноценной жизни нужны не только вещи первейшей необходимости, как вода, хлеб и тепло, но и многое другое. Иначе говоря, если без мебели можно прожить, то это ещё не значит, что её нужно выбросить. Протестанты же очень часто в духовных вопросах совершенно не понимают этой простой истины, и оспаривают её[Причём не нужно думать, что протестанты отказываются только от богатства духовной жизни, оставляя себе "прожиточный минимум", ибо они отвергают и существеннейшее в спасении (например, возрождение через Крещение, таинство Миропомазания, епископство, преемственность священства, реальность Причастия, Церковь и пр.), без чего никак нельзя иметь в себе Христа и быть Его Телом].
[§ 123] Можно привести и более близкий к нашему разговору пример. Многие протестанты хотя бы иногда молятся с воздетыми вверх руками. Баптисты, например, в лице своих пасторов так молятся при освящении своих домов молитвы, а харизматы - на каждом своём собрании. Так вот, таковых можно спросить: "а услышит ли вас Бог, если вы не будете воздевать руки в молитве"? "Конечно", ответят протестанты. "Ну раз так, тогда совершенно не нужно молится с воздетыми руками", нужно сказать им, пользуясь их же логикой. Согласятся ли с этим протестанты? А если нет, то что они на это скажут? "Да, Бог услышит нас и без воздетых рук, но это не значит, что использование этого символа в молитве не нужно. Воздетые руки нам только помогают молиться, символизируя стремление нашего сердца вверх, к Богу".
Вот мы и ответили на вышепоставленный вопрос. Да, Бог слышит Своих в любом положении тела. Да, православные могут построить Храм и не на восток, если по каким-то причинам нет такой возможности; они также не редко служат в таких домах, которые изначала не строились как Храмы и не обращёны на восток. Но это не значит, что молитву на восток нужно отвергать, и не нужно следовать вере апостольской Церкви.
Всякий символ всегда имеет свой смысл и силу, особенно если символ истинный и Божественный. И как воздетые в молитве руки имеет и свой смысл и силу, так и другие молитвенные символы - обращение в молитве на восток, горение лампады, каждение и крестное знамение - их имеют. И если протестантизм стремится к минимализации и отсечению всего, "без чего можно обойтись", то есть к духовной скудости, то Православие всегда имеет тенденцию к полноте и богатству духовной жизни.
Литургия, богослужебные тексты и священнодействия
[§ 124] Православное Богослужение отличается от протестантского, кроме прочего, тем, что оно имеет записанный устав, который определяет, как и какие священнодействия совершать, какие тексты читать и петь. Протестанты же богослужебного устава не имеют[Хотя и у них есть различные правила и чины (передаваемые большей частью посредством устного предания) совершения тех или иных служб, которым они следуют, что в конце концов является их уставом. Подробнее об этом будет сказано в гл. 19], и их службы носят более "непосредственный" характер. Молитвы, составленные и записанные заранее, они не читают, а произносят сами, свои - об этом будет довольно обстоятельно сказано в следующей главе. Здесь же важно сказать в общем в защиту православной позиции совершать Богослужение по уставу.
[§ 125] Прежде всего, нужно решить вопрос: как совершала Богослужение древняя Церковь? Были ли у неё записанные молитвы и богослужебные тексты, и указания, какие и в какой момент службы совершать священнодействия? Безусловно были, как ни удивительно слышать это протестантам, чему есть много подтверждений в древних документах Церкви.
Возьмём на рассмотрение несколько древних церковных книг.
[§ 126] "Дидахе", то есть "учение двенадцати Апостолов" - весьма ранний христианский памятник. Данная книга совсем небольшая - в ней коротко говорится только о самом главном, и к этому главному причислены, кроме молитвы "Отче наш", тексты коротких молитв, которые нужно возглашать при причащении:
"Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. Сперва (молитесь) о чаше: ''Благодарим Тебя, Отче наш, за святой виноград Давида, отрока Твоего, который (виноград) Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки''! О хлебе же ломимом: ''Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки'' (…). По исполнении же (вкушения) так благодарите: ''Благодарим Тебя, Отче святый, за имя Твое святое, которое Ты вселил в сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! Ты, Владыко Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, пищу же и питие дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез Отрока Твоего. Паче всего благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки! Помяни, Господи, Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и усовершишь ее в любви Твоей, и от четырех ветров собери ее, освященную в царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя есть сила и слава во веки. Да приидет благодать и да прейдет мир сей. Осанна Богу Давидову''!" (гл. 9-10).
Слова "так благодарите" означают: "благодарите вот такими словами". То есть, записанные и произносимые наизусть молитвы были в древней Церкви обычным делом, особенно на общественном Богослужении.
[§ 127] Следующая книга - "Апостольские Постановления", написанная св. Климентом в I веке преимущественно со слов Апостола Петра. Здесь даётся много молитвенных текстов и указаний, что и когда читать и делать. Например: "После этого диакон пусть молится о всей Церкви и о всем мире и странах его, о плодах земных, о священниках и начальниках, о первосвященнике и царе, о мире всего мира" (кн. 2/57). Православный человек сразу же поймёт, что речь здесь идёт о хорошо знакомой ему мирной (великой) ектеньи, в которой есть все упомянутые прошения.
[§ 128] Далее: "Во время же причащения всех прочих пусть говорят тридцать третий псалом" (кн. 8/13). Кстати, 33 Псалом до сих пор поют православные во время причащения. Также: "Когда настанет вечер, ты, епископ/em, собери церковь, и после того, как скажут светильный псалом (140-й)…" (кн. 8/34); "Точно также утром диакон, после того как скажут утренний псалом…" (кн. 8/37); "И епископ пусть молится, говоря…" (кн. 8/38), или: "пусть благодарит епископ так…" (кн. 8/39), и далее следует текст молитвы.
[§ 129] И ещё: "Потом первосвященник, испрашивая народу мир, пусть благословит его…" (кн. 2/57), т.е., даётся конкретное указание епископу благословлять народ, и в какое время это делать. Всё это, естественно, до сих пор присутствует на православных Богослужениях: в определённые уставом моменты епископ или священник благословляет молящихся. И подобных указаний в данной книге много. Здесь же многократно упоминаются певцы и чтецы, обязанность которых и заключалась в чтении Псалмов и прочих текстов, кроме тех, которые читались священниками и диаконами.
[§ 130] О чтецах упоминается и в "Апостольских Правилах" как об особых церковных служителях: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится…" (правило 69). Чтецы и сегодня исполняют в Церкви свои функции; у протестантов же никаких чтецов нет.
[§ 131] Следующая книга - "Апостольское Предание" св. Ипполита Римского (II-III в.). Здесь мы также находим множество указаний на то, как совершать различные Богослужения, какие совершать действия, и какие молитвы произносить в определённые моменты. Например, здесь говорится о том, как совершать службу при рукоположении епископа: "Один из присутствующих епископов, по просьбе всех возлагая руку на того, который посвящается во епископа, пусть молится, говоря так: "Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, Отче милосердия и Боже всякого утешения, в вышних пребывающий и на смиренных призирающий…". Произведенному во епископы пусть все предлагают лобзание мира, приветствуя его, ибо он удостоился этого. Диаконы же пусть приносят к нему жертву (св. Дары Причастия), и он, возлагая на нее руку вместе со всеми пресвитерами, пусть говорит, вознося благодарение: "Господь с вами". И все пусть отвечают: "И со духом Твоим". "Горе имеем сердца" (т.е.: вознесем ввысь сердца). "Имеем ко Господу". "Возблагодарим Господа". "Достойно и праведно есть". И тотчас он пусть продолжает так: "Мы благодарим Тебя, Боже, через возлюбленного Отрока Твоего Иисуса Христа, Которого в последние времена Ты послал нам Спасителем, Искупителем и Вестником воли Твоей…" (гл. 2-4).
И далее даются подобные указания о том, как совершать посвящение пресвитера, диакона и прочих причетников, как отправлять крещение и помазание елеем, и многое другое, какие действия при всём этом совершать и какие молитвы возглашать. Здесь же мы встречаем и упоминание о литургии: "Не возлагается на нее (вдову) рука потому, что она не приносит жертву и не имеет литургического служения. Посвящение (рукоположение) совершается над клириками благодаря литургическому служению, вдова же возводится для молитвы, а это - дело всех" (гл. 10).
[§ 132] Ещё одна книга древней Церкви - первая апология св. Иустина Мученика (начало II в.), из которой можно видеть, что Богослужение древних христиан имело конкретную форму (чин) и последовательность священнодействий и молитв. Он пишет, например: "По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает: аминь" (п. 65). Хотя - поскольку св. Иустин обращает свою апологию не к христианам, а языческим правителям - в его книге не описывается Богослужение так подробно, как в вышеприведенных книгах, составленных для верных.
[§ 133] Кроме этого, весьма важен факт существования многих древних литургий, которые разделяются на территориальные группы. Так, к Иерусалимско-антиахийским литургиям относятся: литургия Апостольских Постановлений, св. Апостола Иакова, св. Василия Великого, Иоанна Златоуста, св. Григория. Александрийские: св. Апостола и Евангелиста Марка, св. Кирилла Александрийского. Месопотамские: св. апп. Фаддея и Мария, Нестория (еретика), и другие.
Литургия это важнейшая часть Богослужения, на котором совершается Евхаристия. Так вот, что же мы видим? Христиане изначала служили литургию, и при этом они совершали её не произвольно, как кто найдёт нужным, но по определённому чину, в котором было указано, когда и какие молитвы священнику или диакону возглашать, какие при этом действия совершать, и что должен отвечать народ.
Важно также и то, что слово "литургия" в церковном смысле встречается и в Новом Завете, в Деян. 13:2, где сказано: "Когда они служили Господу и постились…". "Служили" в оригинале ![]() (литургонтон) - глагольная форма от
(литургонтон) - глагольная форма от ![]() (литургия). Подобная глагольная форма используется и в русском языке, когда, например, священник говорит: "завтра мне предстоит литургисать", т.е. служить литургию.
(литургия). Подобная глагольная форма используется и в русском языке, когда, например, священник говорит: "завтра мне предстоит литургисать", т.е. служить литургию.
[§ 134] Итак, древние христиане служили литургии, что и является причиной существования оных в таком большом количестве. Со временем, чтобы в Церкви было во всём единство, эти литургии Церковь объединила в одну, под редакцией св. Иоанна Златоуста. Ещё две литургии - святых Василия Великого и Григория Двоеслова, также служатся несколько раз в год.
[§ 135] Примечательно привести здесь свидетельство группы американских протестантов, поставивших (как и я в своё время) перед собою цель изучить веру древней Церкви и сообразоваться с нею. Впоследствии они, около 2 000 человек, приняли Православие, о чём один из них, Питер Гиллквист, и написал книгу "Возвращение домой". В отношении Богослужения древней Церкви они пришли к тем же, что и я, выводам - к другим выводам и невозможно прийти, если изучать вопрос серьёзно и непредвзято.
Итак, вот их заключение: "Христианское богослужение было литургическим с самого начала…"; "К этому этапу нашего (духовного) путешествия ни для меня, ни для кого из моих коллег не было секретом, что все ранние источники: "Дидахе", Иустин Мученик, Ипполит, - говорили о литургическом характере богослужения новозаветной Церкви. Но теперь глагольная форма греческого существительного leitourgia оказалась присутствующей в самом Новом Завете"[Главы 3 и 6].
Поэтому, когда П. Рогозин заявляет в своей "Хронологии", что литургия появилась в Церкви лишь в 1100 г. (!), то здесь он прибегает к одному из главнейших сектантский способов борьбы с Истиной - лжи, хотя и сектанты далеко не всегда врут так откровенно. Причём, в другом месте П. Рогозин заявляет: "Первая литургия… впервые была изложена письменно только в V веке"["Откуда всё это появилось?", глава "Церковное пение"]. В обоих случаях П. Рогозин лжесвидетельствует, а к тому же - сам себе грубо противоречит.
[§ 136] Теперь нужно решить несколько важных вопросов. Первый: с самого ли начала священнослужители Церкви произносили за Богослужением уже готовые записанные молитвы? Исходя из древнейших церковных документов, приведенных выше, и самого факта существования многих литургий с первого века - к важнейшим нужно отнести литургию ап. Иакова и "Апостольских Постановлений" - можно с полной уверенностью ответить на этот вопрос положительно. Записанные молитвы использовались Церковью ещё при Апостолах, и многие из этих молитв они сами и составили и предписали молиться ими.
[§ 137] Второй вопрос: всегда ли священнослужители молились в Церкви (вслух) только этими молитвами? Нет - из тех же документов видно, что по крайней мере епископам и пророкам (очевидно - рукоположенным пророкам) в древней Церкви позволялось произносить и свои собственные молитвы. Так, в Дидахе, после текста (приведенного выше) молитвы благодарения по причащении, говорится: "Пророкам же предоставляйте совершать Евхаристию по изволению".
Подобное замечание после текста молитвы есть и св. Ипполита: "И епископ пусть возносит благодарение, согласно нашему предписанию. Нет никакой необходимости, чтобы он повторял те же самые слова, которые мы говорили раньше, и заучивал их наизусть, вознося благодарение Богу; но каждый пусть молится по своей возможности. Если же кто-нибудь имеет возможность помолиться долгой и возвышенной молитвой, то это хорошо. Но если кто-нибудь, молясь, произносит умеренную молитву, согласно закрепленному образцу, то не препятствуйте ему. Только пусть его молитва будет здравой и правильной в учении" (Апостольское предание, гл. 9).
Итак, в древней Церкви у епископов была возможность произносить молитвы и "согласно закрепленному образцу" и свои собственные молитвы. Это признаёт, например, С. Санников: "К началу II века свободные молитвы в церковных собраниях стали практиковаться всё реже, а их место занимали канонизированные, поэтически отработанные молитвы, произносимые служителями"["Двадцать веков христианства", том. 1, с. 143]; поправить автора можно лишь в том, что "канонизированные, поэтически отработанные молитвы, произносимые служителями" "стали практиковаться" ещё в I веке: о II веке С. Санникова заставляет говорить уже не его исследовательская объективность, а его баптизм, который никак не хочет признать, что таковые молитвы были в век Апостолов.
[§ 138] Следующий вопрос, который будет особо важен для протестантов: почему же сейчас священнослужители Православной Церкви произносят молитвы только по закреплённому образцу?
Главная причина, по которой со временем молитвы за общественным Богослужением стали использоваться лишь "закреплённые", такова: сила действия Духа Святого в Церкви стала меньше. С этим большинство протестантов не только не спорят, но постоянно об этом говорят, считая век апостольский совершенно исключительным периодом жизни Церкви. Баптисты, например, пишут: "С одной стороны, верующие действительно не лишены Божьих благословений в любой момент истории. С другой стороны, нельзя не видеть, что апостолы были наделены особыми благодатными способностями (2 Кор. 12:12; Деян. 2:43; 5:12; 14:3; 19:11)"[М.В. Иванов (руководитель отдела богословия и катехизации РСЕХБ), "Баптисты отвечают"].
По видимому, оспаривают это только харизматы, которые не хотят смиряться с очевидной духовной реальностью и стремятся как древние христиане говорить на языках, пророчествовать и исцелять больных. (Хотя и они, доказывая, что у них есть дары языков, пророчества и исцеления, не могут не согласиться с тем, что воскрешать мёртвых, как Апостолы, они не могут). При этом харизматы впадают в прелесть, и через них действует, естественно, не Дух Святой, но это отдельный разговор.
Сейчас важно заметить, что баптисты и подавляющее большинство протестантов признают тот факт, что в древней Церкви Дух действовал в верующих особо сильно, производя в них, кроме чудесных даров, также исключительную святость и любовь, которая проявлялась, прежде всего, в общении имуществ, что описано в Деян. 2:42; 4:34-37. И святость эта, происходившая от преисполнения Духом, не терпела и малейшего греха. Так, мы видим, что когда Анания и Сапфира продали своё имение, принесли его цену к Апостолам, но утаили из него часть, то Дух наказал их смертью (Деян. 5:1-12).
Такого действия Духа мы уже не видим в последующие времена Церкви (разве только в жизни некоторых святых). И что сейчас ни Церковь, ни тем более протестанты, не имеют такой святости и исполнения Духом, понятно хотя бы из того, что ни у первых, ни у вторых нет общения имуществ (впрочем, общение имуществ можно усматривать в жизни монастырей, где насельники имеют всё общее и наместник, как в древней Церкви Апостолы, уделяет каждому по его нужде).
Да что говорить о такой высоте? Многие протестанты не только к этому не способны: опыт показал, что они часто не способны мирно и любовно поделить между собою гуманитарную помощь, которую присылали западные протестанты постсоветским в 90-х годах. Мне точно известно, что многие общины, разделяя эту помощь, сильно перессорились друг с другом, так что некоторые пастора во избежание нестроений и ссор совсем отказались от неё.
[§ 139] Но моя цель вовсе не укорить протестантов, а лишь указать на тот факт, что любви и святости древних христиан у них нет и близко, как, впрочем, нет их и у православных, если говорить в общем, и сейчас я вовсе не желаю выяснять, у кого больше любви. Главное понять и признать духовную реальность - святости, дарований и исполнения Духа древних христиан у Церкви сейчас нет. Поэтому, многих проявлений Духа в древней Церкви, о которых мы читаем в Деяниях - говорение на иных языках; знамения и чудеса; исцеления больных и воскрешение мёртвых; обильные пророчества; поражение слепотою и смертью за грехи; освобождение ап. Петра из темницы Ангелом; колебание земли по молитве верующих; общение имуществ - нет сейчас в Церкви (впрочем, нужно опять оговорится и сказать, что и чудеса и пророчества в Церкви и сейчас есть, но в меньшей мере). Дух в Церкви есть, и верные по мере своей ревности исполняются Им, и освящаются, но освящённость их сейчас (в общем) не достигает уровня древних христиан, чтобы были возможны такие проявления Духа.
[§ 140] Поэтому, только в этом контексте нужно понимать решение Церкви об упразднении возможности священникам на Богослужении произносить свои собственные молитвы, а довольствоваться лишь уже готовыми. В Церкви оскудели дары пророчества, и уже далеко не всякий священнослужитель, тем более на всяком Богослужении, может настолько вдохновенно, поэтично, величественно и продолжительно молиться, чтобы достаточно назидать Церковь, чтобы его молитвы были хоть как-то сопоставимы с теми, которые составили Апостолы и другие святые люди по вдохновению Духа.
Кроме того, Церкви нужно было гарантировать, чтобы на Её Богослужениях звучали только истинные слова (именно это условие, позволяя епископам произносить свои молитвы, и ставит св. Ипполит, говоря: "только пусть его молитва будет здравой и правильной в учении"), ведь как только появилась Церковь стали в огромном количестве возникать и ереси - постоянные спутники Церкви в Её земном странствовании.
Не менее важно для Церкви было и то, чтобы на Богослужении не было никакого перекоса - большого акцента на одном и забвение другого, то есть, чтобы в молитвах была правильная соразмерность:
1) прославления,
2) благодарения,
3) покаяния и сокрушения и
4) просьб.
Как же достичь всех этих целей? Можно ли быть уверенным, что каждый священник всегда будет на Богослужениях молится вдохновенно, величественно, безошибочно и соразмерно? Никак нельзя. Напротив, можно быть полностью уверенным, что этого не будет, ибо такое возможно только при великой святости и дарованиях Духа. Потому Церковь и составила богослужебные тексты и молитвословия, и отказаться от них ради предоставления каждому свободы молиться по своему усмотрению было бы для Церкви смерти подобно.
И нужно не забывать, что литургии и записанные молитвы стали составляться и использоваться ещё во времена Апостолов. То есть, даже во время особого действия Духа Церковь не обходилась без записанных молитв. Иначе говоря, Дух Святой не имел намерения предоставить совершение Богослужения на произвол каждого священнослужителя, и с самого начала заботился о том, чтобы церковные службы были приведены в угодный Ему порядок. Кстати, ап. Павел, заканчивая указания о том, как проводить Богослужения, говорит: "только всё должно быть благопристойно и чинно" (1 Кор. 14:40). "Чинно" значит: "по чину", "упорядоченно". Вот поэтому Церковь и упорядочила и определила чины для совершения всех своих служб, которые так и называются: "чин (т.е. порядок, последовательность) литургии", "чин благодарственного молебна", "чин крещения" и т.д.
И как Церковь, по вдохновению Духа Святого, написала книги Нового Завета, и определила библейский канон, так написала и определила Она по действию Того же Духа и канон богослужебный. При этом, в начале, когда действие Духа было особо сильным в Церкви, одарённым и исполненным Духом священнослужителям позволялось произносить и свои молитвы, а впоследствии от этого отказались. Хотя, например, св. Иоанн Кронштадский, живший на рубеже XIX-XX веков, служа литургию, добавлял и свои короткие молитвы и прошения, и никто его за это не осуждал и не запрещал в служении, осознавая, что он делает так по вдохновению от Духа Святого. И когда Церковь перед пришествием Христовым опять придёт к пламенению Духом первых христиан, то, очевидно, таких случаев будет намного больше. Сейчас же Церкви нужно жить согласно настоящей духовной реальности.
[§ 141] У большинства протестантов сказанное выше вызовет недоумение и вопрос: "да о какой вдохновенности, точности и соразмерности в молитвах говорят эти православные, и что тут такого сложного? Нужно молиться от сердца, и всё. У нас на Богослужении молятся не только пресвитеры, но и многие не рукоположенные верующие, и всё получается очень вдохновенно и хорошо".
Так могут думать и говорить только тот, кто не слышал и не вникал в смысл православных молитв, кто не ощущал на себе их силы и величия. Это можно сравнить с человеком, который родился в пещере и всю жизнь прожил при свете свечей, никогда не видя солнца. И если таковому сказать, что ты живёшь во мраке, то он тоже может спросить: "да какой здесь мрак? вот если потушить свечу, будет мрак, а при свечах очень светло". Понять же он сможет суть дела, только если выйдет на солнце. Вот так и протестанты: слыша молитвы своих собратьев и не зная молитв, которыми молится Церковь на своих Богослужениях, им может казаться, что они очень хорошо и вдохновенно молятся. Избавиться же от этой иллюзии можно только познакомившись и оценив молитвы православные.
Лично для меня в своё время этот опыт был очень ярким: читая и слушая церковные молитвы я просто не верил своим глазам и ушам - я даже не мог представить, что к Богу кто-то обращается в таких величественных, глубокомысленных, почтительным, смиренных словах. А ведь произнесение таких молитв передают душе именно тот настрой и дух, какой имели те святые, которые составили эти молитвы… Впрочем, подробнее об этом будет сказано в следующей главе. Вообще, противление величественным православным молитвам и замена их своими собственными есть порождение протестантского культа простоты, который хронически не переносит высокое и прекрасное (об этом будет сказано ещё в § 171-174).
[§ 142] О православном Богослужении особенно протестантам важно знать то, что всё оно преисполнено библейскими мыслями, текстами и персонажами. Так, за неделю в соборе (где служба проходит ежедневно) полностью прочитывается Псалтырь, а Новый Завет - за год, причем, многие тексты читаются много раз. На каждой службе поют заповеди блаженства (Мф. 5:3-16), молитву "Отче наш" (Мф. 6:9-13), песнь Богородицы (Лк. 1:46-55), песнь Ангелов (Лк. 2:14), песнь Серафимов (Ис. 6:3), молитву Симеона-Богоприимца (Лк. 2:29-32), а также множество псалмов и символ веры, отражающий главные библейские догматы.
Кроме того, Богослужение пронизано Богословием святых отцов Церкви. Об этом хорошо пишет архиепископ Илларион: "В богослужении мы слышим чистый и неиспорченный отголосок богословия святоотеческого, древнецерковного... В богослужении я слышу те же самые чистые и высокие понятия об истинах христианской жизни, которые пленили меня в богословии святоотеческом. Богослужение имеет прямую связь с богословием... Так, например, канон Пятидесятнице целиком заимствован из творений Григория Богослова. Глубокое богословское содержание имеют творения таких великих песнописцев и песнотворцев, как святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Феодор Студит и многие другие...
Никакие исследования не могут до конца постичь всей глубины и благодатной силы богослужения, так как оно содержит в себе не только временное и преходящее, но также вневременное и примирное. Но именно это и побуждает к углубленному ознакомлению с христианским богослужением, чтобы приобщится его благодатных и духовных благ"[Цит. по: "Настольная книга священнослужителя", том I, с. 6].
[§ 143] На главное же возражение протестантов против православного Богослужения - что поскольку все молитвы и действия в нём строго определены и зафиксированы, то оно мертво - уже был дан ответ в начале главы (§ 6-10).
О пении и музыкальных инструментах
[§ 144] В ходе православного Богослужения, как известно, не используется никаких музыкальных инструментов; протестанты же используют многие из них, включая синтезаторы и электрогитары. И опять простой вопрос: кто же поступает правильно?
[§ 145] В Ветхом Завете, как известно, при славословии Бога использовались музыкальные инструменты: "Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях" (Пс. 150:3), и т.п. Но, как уже говорилось, новозаветная Церковь, не отвергнув полностью Богослужения ветхозаветного и много из него позаимствовав, тем не менее, приняла его не полностью и "исправила" его (см. Евр. 9:10) в свете Нового Завета, как научил Её Дух Святой. И одним из таковых исправлений явился отказ от музыкальных инструментов, которые были, как и весь вообще ветхозаветный закон, лишь детоводителем к совершенству (ср. Гал. 3:24-25). Ведь часто то, что хорошо для детей, уже не нужно и даже вредно для взрослых. Это ясно показал Христос в нагорной проповеди, неоднократно повторяя одну и ту же формулировку: "вы слышали, что сказано древним… а Я говорю вам" (Мф. 5 гл.). И как, например, развод с женой в Ветхом Завете был позволителен, а в Новом уже нет (Мф. 5:31-32), так и игра на музыкальных инструментах уже не позволительна при новозаветном Богослужении.
[§ 146] Что же в этом плохого, спросят протестанты, почему инструменты не позволительны? По двум важнейшим причинам.
[§ 147] 1) Музыкальные инструменты возбуждают чувственность, и навевают впечатления душевные, а не духовные, вызывая плотскую, мирскую, а не духовную радость и веселие[Впрочем, сказанное относится к инструментам нашего мира. На небесах же, где музыкальные инструменты духовны и совершенны, они используются (см. Откр. 18:22)] (об этом хорошо говорит св. Климент, см. § 152-153). Время же этой жизни это время не веселия, а покаяния и упорной, страшной борьбы с бесами и страстями. Что музыкальные инструменты имеют именно указанное свойство отчасти понимают (особенно понимали раньше) даже многие протестанты, использующие обычно отнюдь не все инструменты, а только те, которые они считают "духовными". В 80-х годах и ранее советские баптисты использовали на своих собраниях только фисгармонию, и я сам хорошо это помню. Фортепиано, гитара и прочие инструменты категорически не позволялись. И в этом, естественно, был смысл, потому что действительно, звучание фисгармонии не такое плотское и душевное, как, например, звучание электроинструментов. Но, со временем, так как протестантизм катится вниз (с чем не спорят даже сами честные протестанты) они стали использовать практически все инструменты, а песнопения их становятся всё более свободные, ритмичные и плотские, вплоть до стилей "поп" и "рок".
Я помню, как в 90-х годах на "евангелизации" с участием Виктора Гама в г. Донецке после исполнения баптистской музыкальной группой одной ритмичной песни, под сопровождение оглушающей ударной установки, некто, очевидно баптист старой закали, громко крикнул: "бесовская музыка". И его ощущения были верны.
[§ 148] 2) Инструменты созданы людьми, а голосовой аппарат человека - Богом. Церковь же всегда избирает лучшее. Когда я был ещё баптистом, к нам, в Артёмовск, приезжал Юрий Богачёв, имеющий два высших музыкальных образования. Он пел и продавал кассеты со своими песнями. После собрания в общении с нами он сказал (возможно, отвечая на вопрос, какая музыка ему нравится больше всего): "Православная музыка это небесная музыка". Меня сразу это высказывание очень впечатлило. Мне было удивительно слышать такое свидетельство о Православии, хотя о нём тогда я ещё и не помышлял. Когда же со временем я узнал и стал слушать православные песнопения - хоры без музыкального сопровождения, то я понял, о чём говорил Юрий, который, даже став баптистом, не мог не признавать, как профессиональный музыкант не лишённый чувства прекрасного, что православное пение это лучшая музыка.
Действительно, теперь и я могу всей душой засвидетельствовать, что ничего в мире музыки и пения не может быть сравнимо с православными академическими песнопениями, особенно в монашеском исполнении. Поэтому, когда П. Рогозин называет православное пение "мёртвым" и "бездушным"[Глава "Церковное пение"], то на самом деле, эти характеристики он даёт самому себе. Ведь если радиоприёмник ничего не ловит, то это значит, что он сломан, а не то, что в эфире нет никаких волн. Так и здесь: если кому-то кажется православное пение мёртвым и бездушным, то это значит, к сожалению, что мертв и бездуховен тот, кому такое кажется.
[§ 149] Итак, ничего нет лучше и духовнее пения Богозданным человеческим голосом, и это лучшее и избрала Церковь для Богослужения. Для ветхозаветного же человека, ещё не просвещённого Евангелием и Духом Святым, ещё во многом чувственного и душевного, эта высота была труднодостижима, потому Господь, как истинный Педагог, и позволял "до времени исправления" использовать музыкальные инструменты при Богослужении.
[§ 150] Теперь стоит задать вопрос: использовали ли музыкальные инструменты древние христиане? В Новом Завете мы не находим об этом ни одного свидетельства или намёка. О пении же есть прямые заповеди: "научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу" (Кол. 3:16). Также в и другом месте Апостол пишет о важности назидать "самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу" (Еф. 5:19). Пел и Христос со Своими учениками: "воспев, пошли на гору Елеонскую" (Мф. 26:30), а также "Павел и Сила, молясь, воспевали Бога" (Деян. 16:25), находясь в темнице.
[§ 151] И если в Новом Завете ничего не говорится об употреблении музыкальных инструментах христианами, то мы не встречаем там и запрещения. В писаниях же древних христианских святых мы находим уже не только одобрение пения, но и ясную позицию неприемлемости музыкальных инструментов при собраниях христиан.
[§ 152] Об этом совершенно ясно говорит св. Климент Александрийский (150-215 гг.): "Словом, а не древней псалтирью, трубою, тимпаном и флейтой должно чтить Бога. Если Бог и допустил в Ветхозаветной церкви пение, сопровождаемое игрой на музыкальных инструментах, то единственно из-за немощи, малодушия и беспечности иудеев"[Цит. по: "Настольная книга священнослужителя", том 5, с. 382]. (Мысль о том, что музыкальные инструменты были допущены Богом для иудеев лишь по их слабости и несовершенству, повторяют и другие именитые святые отцы, такие как Иоанн Златоуст (IV в.) и Феодорит (IV-V вв.), например, при толковании 149-го псалма).
[§ 153] Св. Климент пишет также: "Предоставим поэтому дудки пастухам, флейты - людям суеверным, поспешающим за богослужение идольское; желаем мы полнейшего изгнания этих инструментов с наших трезвых общественных пиршеств (…) Человек поистине есть инструмент мирный. Все другие инструменты, если кто точнее к ним присмотрится, суть орудия войны; ими воспламеняются желания, они разнуздывают страсти, чувственное вожделение… Мы же в качестве инструмента пользуемся для прославления Бога единственно мирным словом (Логосом), а не псалтирью уже, какая иудеями в Ветхом Завете употреблялась, и не трубой, и не тимпаном, и не флейтой, которые обычно употребляют люди военные, но к которым прибегают и презрители страха Божия при праздничных своих хоровых плясках, через разыгрываемые на этих инструментах мелодии уснувшую чувственность возбуждая. (…) ибо апостол присоединяет далее: со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу (Кол. 3:16)"[Педагог, кн. 2/4].
[§ 154] Таким образом, христиане никогда, с самого начала, не использовали на своих собраниях музыкальных инструментов - это важный факт! Кроме того, об этом нет ни единого упоминания и в Новом Завете. Поэтому, протестанты, обвиняющие православных в том, что они многое позаимствовали в своём Богослужении из Ветхого Завета, сами взяли из него именно то, что не следовало брать, что было только временным.
О колоколах
[§ 155] В небесном мире Ангелы, возвещая о начале важных событий, трубят в трубы (см., например, Откр. 8:2, 6-10). В Ветхом Завете для созыва народа на молитву, жертвоприношение, праздничные собрания и войну использовались серебряные трубы: "а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу; сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши… и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, - и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим" (Числ. 10:7-10).
Церковь также с древних времён использовала различные средства для созыва верных на молитву, в том числе и трубы. Г. Дебольский пишет: "Во времена христианства зов к богослужению совершался различным образом. В некоторых местах о днях и часах богослужения объявляли особые вестники (![]() ). Этот зов к богослужению, по мнению писателей, был древнейший. В иных местах возвещали о времени богослужения посредством труб, по подобию ветхозаветных, посредством ударения молотом, биения в дерево или билами. По мнению некоторых в V, других в VII, а иных в IX и в X веке, сделалось известным употребление колоколов при церквах. Употребление их принадлежит уже векам умирения Церкви после Константина Великого. Впрочем, нельзя думать, чтобы в древности колокола были вовсе неизвестны. Иудейский первосвященник, в праздничные дни, носил одежду, украшенную золотыми колокольчиками, и ап. Павел упоминает о меди звенящей (1 Кор. 8:1); только язычники не употребляли колоколов при своих идольских служениях, по той причине, что звук их, по суеверию, вообще считали зловещим"["Православная Церковь в её таинствах, богослужении, обрядах и требах", с. 458]. Со временем из всех этих средств наилучшим по благозвучию и наиболее соответственным духу Церкви были избраны колокола.
). Этот зов к богослужению, по мнению писателей, был древнейший. В иных местах возвещали о времени богослужения посредством труб, по подобию ветхозаветных, посредством ударения молотом, биения в дерево или билами. По мнению некоторых в V, других в VII, а иных в IX и в X веке, сделалось известным употребление колоколов при церквах. Употребление их принадлежит уже векам умирения Церкви после Константина Великого. Впрочем, нельзя думать, чтобы в древности колокола были вовсе неизвестны. Иудейский первосвященник, в праздничные дни, носил одежду, украшенную золотыми колокольчиками, и ап. Павел упоминает о меди звенящей (1 Кор. 8:1); только язычники не употребляли колоколов при своих идольских служениях, по той причине, что звук их, по суеверию, вообще считали зловещим"["Православная Церковь в её таинствах, богослужении, обрядах и требах", с. 458]. Со временем из всех этих средств наилучшим по благозвучию и наиболее соответственным духу Церкви были избраны колокола.
[§ 156] На это протестанты скажут: "колокола не нужны, ибо:
1) о них не говорится в Библии;
2) нас не надо звать на собрания и объявлять о главных моментах Богослужения и его окончании - мы и так знаем, когда приходить на собрания, и сами видим, когда оно закончилось".
По поводу первого: протестанты исходят из ложной и как раз таки не библейской предпосылки, что обо всём, что есть в Церкви, должно быть сказано в Библии - на самом деле, в Церкви, по Библии, есть предание, которому нужно следовать, а кроме того, В Церкви есть Дух Святой, Который, по слову Христа, наставляет Её на всякую истину; к тому же, у протестантов есть много того, о чём не говорится в Библии - об этом подробно будет говориться в гл. 19.
По поводу второго: протестанты и здесь находятся под воздействием своего культа простоты и принципа, о котором мы уже говорили (§ 122): "если без чего-то можно обойтись, то это и не нужно". На самом деле, если верные и без звона колоколов знают, когда им приходить на службу; если Церковь может существовать и без колоколов; если спастись можно и без них, то это вовсе не значит, что они не нужны.
О священнических облачениях
[§ 157] У ветхозаветных священников были особые облачения: "Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне" (Исх. 28:4; ср. 31:10). Также и Христа на небесах тайнозритель Иоанн видит облачённым в поддир - одежду иудейских первосвященников, опоясанного золотым поясом (Откр. 1:13).
Церковь, в подражание Христу, и устраивая свои Богослужения по образу Богослужения ветхозаветного, которое Она не отменила полностью, а лишь исправила и преобразовала, также определила своим священнослужителям облачаться в особые одеяния, каждое из которых имеет свой смысл. Так, белый подризник (срачица), который одевает священник на литургии, напоминает ему о необходимости приступать к Богу с чистой душой, и обозначает также святость Крещения, и чистоту и святость Христову, ибо священник совершает службы не своей силой и праведностью, а Христовы /ми - он лишь Его орудие. Нарукавники (поручи) также указывают на то, что священнослужитель совершает Богослужение и Таинства не своей силой, а силой и благодатью Божьей: его руки на службе это орудия Божии. Поручи символизируют также узы Спасителя: "и связали Его" (Ин. 18:12). Епитрахиль это перекинутая через шею лента, символизирующая полотенце[По-гречески "лентион", что значит "полотенце"], которым препоясался Христос, когда умывал ноги Своим ученикам (Ин. 13:5). Епитрахиль означает готовность священника служить своей пастве, как Христос послужил Апостолам, и т.д.
[§ 158] Протестанты, конечно же, не признавая вообще особого священства в Церкви, не признают и особых священнических облачений, считая их излишними, не находя в Новом Завете заповедей в отношении сего предмета. Хотя и здесь они не до конца последовательны, и отчасти осознают необходимость и важность в определённые моменты одеваться особенно. Так, протестантские пасторы, совершая крещение, одеваются в белый халат, а один баптистский пастор, как я сам лично видел, на этот случай пошил себе мантию синего цвета, чрезвычайно похожую на православный подрясник. Также и сами протестантские крещаемые обл/strongачаются в белые одежды. Не редко и протестантские хористы в больших городах одеваются в особую одинаковую одежду.
К тому же, у многих баптистов запрещено выходить на проповедь в свитере, а допускается только строгая одежда - костюм или белая рубаха с длинным рукавом и галстуком. Почему же протестанты следуют этим обычаям, если в Новом Завете об этом ничего не сказано? Очевидно, всё это - остатки в протестантизме церковного мышления.
[§ 159] Итак, сама логика вещей требует того, чтобы священнослужители совершали Богослужение не в обыденной, а особой священнической одежде. Конечно, богослужебные ризы, какими мы их знаем сегодня, появились в Церкви не сразу; они, как и всё в Церкви - Богословие, богослужебные чины, символика, иконопись, архитектура, песнопения и пр. - постепенно развивались.
Однако из предания известно, что "апостол Иаков, брат Господень, первый иерусалимский архиерей, носил белую льняную длинную одежду иудейских священников, и головную повязку (кидар на подобии чалмы). Апостол Иоанн Богослов также носил золотую повязку[Имеется в виду кедар с золотой пластиной, которую носил иудейский первосвященник (см. Исх. 28:4, 36-38; Лев. 8:9)] на голове, как знак первосвященника. Многие считают, что фелонь оставленный апостолом Павлом у Карпа в Троаде (2 Тим. 4:13), был его богослужебным одеянием. По преданию Богоматерь своими руками сделала омофор для святого Лазаря, воскрешенного Христом из мертвых, и бывшего затем епископом Крита. Таким образом, уже апостолы употребляли некоторые богослужебные одеяния. Вероятнее всего, от них в Церкви сохранилось предание, выраженное блаженным Иеронимом (IV в.), согласно которому отнюдь недопустимо входить в алтарь и совершать богослужение в одеждах общих и просто употребляемых"[Цит. по сайту: http://polystavrion.com/?page_id=27]. Также и в "Апостольских Постановлениях" говорится: "первосвященник (епископ) вместе со священниками и одевшийся в светлое одеяние…" (кн. 8/12). Одеяние, очевидно, имеется в виду особое.
[§ 160] Вообще нужно сказать, что одежда имеет весьма важное значение для человека, являясь как бы продолжением его тела. На небесах Господь и Ангелы всегда облачены в великолепные одежды. И одежда, её вид и фасон, отнюдь не нейтральна; она всегда имеет свой дух и характер. Меняется мир и нравы народов, меняется и их одежда, ибо дух ищет себе форму. Потому Церкви было крайне важно найти и сохранять соответствующие Её духу и вере одежды, прежде всего для священства, что Она и сделала, определив как для Богослужения, так и для быта священнослужителей особые одежды. И разве можно не видеть того, насколько вид православного священника в рясе (и с бородой) духовнее и благодатнее вида (гладковыбритого) протестантского пастора в костюме?
Или иначе: почему протестанты отвергают древние духовные облачения для своих пастырей, а предпочитают мирские костюмы? Ведь, например, обыденный священнический подряemсник это одежда, которую носил Христос, Апостолы и вообще древние иудеи и первые верующие. Церковь же просто сохранила эту одежду. И фасон расы и подрясника несравнимо духовнее, чем современная, мирская, во многом масонская одежда. Например, галстук это чисто масонское изобретение. Если его развязать, то получится змей - символ дьявола. Так чем же галстук-змей лучше подрясника, в котором ходил Христос?
Благословение народа
[§ 161] На православном Богослужении и вне его епископ и священник благословляет людей посредством произнесения различных слов благословения и начертанием (рукой или крестом) в воздухе образа креста, или возложением руки на голову. Благословлять народ Бог заповедал священникам ещё в Ветхом Завете: "скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их" (Числ. 6:23-27).
В Православной энциклопедии об этом говорится так: "В ветхозаветном храмовом богослужении Аароново благословение произносил чередной священник после принесения утренней жертвы. При произнесении благословения священник обращался лицом к народу и воздевал руки, в этот момент запрещалось смотреть на него (см. Талмуд, Берахот 11; Мегилла 18 и 24-27; ср. Лев 9:23-24). На этом основана христианская традиция преклонять голову, когда епископ или пресвитер благословляет народ… В современном православном богослужении слова псалма 66:1: "Боже, ущедри ны (нас) и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны", являющиеся парафразой Ааронова благословения, возглашаются священником в качестве конечного благословения на полунощнице, на часах, 1-м и 9-м (Великим постом - и на 3-м, и на 6-м), великом повечерии"[См. "Аароново благословение"]. В иных случаях православные священнослужители используют и другие слова благословения.
[§ 162] Протестанты не редко говорят, что благословение имеет отношение к словам, и ничего общего не имеет к начертанию рукою образа креста. На самом деле, это не так: хотя "благословение" действительно буквально значит "благое слово", но словесное благослословение не редко в Библии сопровождается действиями рук. Так, Иаков, благословляя сыновей Иосифа, возложил на них руки (Быт. 48:9-20). Посредством рук благословил также Христос детей - "И, обняв их, возложил руки на них и благословил их" (Мк. 10:16) - и Апостолов: "И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их" (Лк. 24:50). Да и сами баптисты в лице своих пресвитеров тоже, благословляя детей, новокрещённых, а иногда и покаявшихся, возлагают на них руки. Также и ветхозаветные священники, как мы видели, благословляли народ, воздевая руки. Посему, в использовании рук при благословении нет ничего не допустимого и противобиблейского. А что руками начертывается крест, то это только потому, что Крест - средство нашего спасения и главный символ христиан.
[§ 163] То, что в Церкви с древности практиковалось особое священническое благословение, явствует, например, из "Апостольских Постановлений", где говорится: "Епископ благословляет, не благословляется, возлагает руку, рукополагает, приносит, благословение получает от епископов, но отнюдь не от пресвитеров… Пресвитер благословляет, не благословляется, благословения принимает от епископа и сопресвитера, также дает их сопресвитеру, возлагает руку, не рукополагает… Диакон не благословляет, не дает благословения, а получает его от епископа и пресвитера… Диаконисса не благословляет…" (кн. 8/28).
Совершенно ясно, что здесь речь идёт не о простом словесном благословении - ибо почему дьякон и диакониса не должны благословлять, если даже обычным верующим заповедано: "благословляйте проклинающих вас" (Лк. 6:28); "благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение" (1 Пет. 3:9); "благословляйте гонителей ваших" (Рим. 12:14) - а об особом, священническом благословении с участием рук. И действительно, в Церкви и поныне благословляет епископ и пресвитер, но не диакон.
[§ 164] Важно сказать ещё об особом сложении священником пальцев руки при благословении. Складываются они так: указательный палец держится прямо и обозначает букву "и". Средний палец сгибается и обозначает букву "с". Безымянный сгибается ещё сильнее и на него, накрест, полагается большой палец, образуя букву "х". Мизинец слагается как средний. Таким образом, получается аббревиатура "исхс", обозначающая "Иисус Христос". Это всё соответствует и греческому языку, ещё лучше, чем русскому. Потому такое сложение пальцев получило в Церкви соответствующее название: "Христоименитое перстосложение".
Таким образом, ветхозаветная заповедь призывать "имя Мое на сынов Израилевых" получила в Новом Завете ещё и такое выражение и смысл - новозаветный священник уже не только словами, но и рукой призывает имя Господа Иисуса Христа на верных. Причём, по преданию Сам Господь первый так благословил Своих учеников, когда возносился на небеса (Лк. 24:50), а Апостолы научились от Него. Потому с древности Христос на иконах часто изображается с таким сложением перстов.
Теперь хочу ответить на два возражения, которые могут возникнуть у протестантов по прочтении данной главы.
[§ 165] Возражение 1. "Современная православное Богослужение не таково, как было при Апостолах. В первом веке не было таких Храмов, священнических облачений, чинопоследований, как сейчас; иконостаса, куполов, колоколов и многого другого". Г. Добровольский, например, говорит: как могло быть в литургии I-го века прошение "В память и отпущение грехов святейших Патриархов Православных", если Патриархов ещё не было["Во свете Писания", глава "Святая литургия"]?
[§ 166] На это нужно сказать, что если в начале не было таких как сейчас Храмов, облачений и прочего, то это вовсе не значит, что сего не было вообще. Напротив, выше было показано, что практически всё, что есть в Церкви сейчас, было по самой сути и в древности. Сейчас есть Храмы - и в древности были Храмы; сейчас есть иконостас со святыми изображениями, отделяющий алтарь от Храма - и в древности была завеса перед алтарём с изображениями; сейчас есть в Церкви алтарь, амвон, жертвенник, престол, лампады, притвор, каждение, пение без музыкальных инструментов, стояние на службе, телесные поклоны, молитва на восток и т.п. - всё это было и в древности. Но при этом Церковь не должна слепо сохранять формы архитектуры, священнических облачений, храмового убранства, чины для Богослужения, мелодии для песнопений в случае, если Она по внушению и научению Духа Святого смогла найти лучшие и более совершенные[Здесь нужно сказать о том, что совершенство может пониматься в нескольких смыслах. 1) Абсолютное совершенство, которое имеет только Бог. 2) Совершенство как соответствие своему назначению. В таком смысле, ребёнок может быть вполне совершен, то есть полностью отвечать своему назначению. Так, Христос и в детстве был в этом смысле совершенен. В этом смысле и богослужебные формы древней Церкви были совершенны, то есть они отвечали Её предназначению и обстоятельствам, в которых Она находилась. 3) Усовершенствование совершенства, то есть приведение совершенства в большее соответствие к совершенству абсолютному. В таком смысле, взрослый святой более совершенен святого ребёнка, 30-тилетний Христос был более совершенен Христа новорождённого. И в таком же смысле, богослужебные формы Церкви (архитектура и внутреннее устройство Храмов, облачения священства, пение, символика, чины Богослужения и пр.) V или XIX века более совершенны, чем они были в I веке] и подходящие для другого времени и обстоятельств формы для всего этого. Церковь это живой Богочеловеческий организм, а всему живому присуще развитие. Как развивается человек физически, а христианин и духовно, так развивается и вся Церковь в целом. И если рассматривать те изменения, которые входили в Церковь с течением времени, то только совсем предвзятый и озлобленный против Православия не сможет признать их превосходство над заменяемым.
Так, кто может не согласиться, что московский Храм Василия Блаженного и многие другие не сравнимы по красоте и величию с древними римскими базиликами или обычными домашними церквами? Кто не признает, что многоголосное академическое пение, вошедшее в Церковь несколько веков назад, намного величественнее, красивее и торжественнее былого одноголосного пения? Кто пожелает теперь иметь в Храме одну матерчатую завесу, коль Церковь пришла к сто[Глава ль величественной идее иконостаса? Кто захочет видеть священство в простой древней мантии и повязке на голове, отвергнув пришедшие им на смену величественные одеяния и головные уборы духовенства, с большей силой выражающей славу и велилепие Небесного Царя? Кто не признает, что звон колоколов несравнимо благозвучнее, величественнее и духовнее, чем удары била по дереву или звук трубы? И так далее. Поэтому, если рассматривать те преобразования, которым подвергался Храм и церковное Богослужение в течении церковной истории, то нельзя не признать, что все это было сделано по водительству Духа Святого, и что новые формы были благолепнее прежних.
Кстати, ущербность мышления старообрядцев заключается именно в слепой приверженности старым формам благочестия, и не способности следовать за Духом Святым тогда, когда Он открывает Церкви лучшее. Если бы вся Церковь всегда мыслила по старообрядчески, то в этом случае действительно никогда не могло бы у неё появиться ни иконостаса, ни многоголосого пения, ни колоколов, ни новых чинов Богослужения - ничего нового. Но при этом нельзя думать, что Церковь постоянно изменяет свои богослужебные формы - нет. Церковь как раз таки очень консервативна (что признают протестанты и в чём также обвиняют Церковь), а латинское conserv (как и английское conserve) значит "сохранять". Церковь всегда стремиться сохранять "веру, однажды переданную святым" (Иуд. 3), и формы выражения своей веры. А если Она что и меняет в форме - не в самой вере, а только в форме выражения этой веры, ибо ни одно изменение формы, допущенной Церковью, не привело к изменению сути веры, а только к лучшему её выражению - то всегда очень обдумано и медлительно, и только в том случае, если действительно найдена лучшая форма. Но коль найдена совершенная форма, или лучшей Церковь не знает, Она всегда крепко её держится.
[§ 167] Теперь давайте подумаем о самих возражателях: так ли они привержены апостольским формам Богослужения? Протестанты приводят 1 Кор. 14:26-31, где ап. Павел делает коринфянам некоторые предписания о Богослужении, и говорят православным: "на ваших Богослужениях происходит всё не так, как здесь написано".
Но, во-первых, собрания протестантов также весьма сильно отличаются от того, о чём пишет Апостол - об этом подробнее будет сказано в 19-й главе.
Во-вторых, ап. Павел не пишет обо всём сразу, и попросту не упоминает здесь о литургии, которая служилась в Церкви с самого I-го века[Если же во время написания ап. Павлом данного послания, одного из ранних, литургия ещё не служилась в Коринфе, то вскоре непременно стала служиться, ибо "свободное" Богослужение было временным явлением в Церкви, присуще лишь самым первым годам Её жизни].
В-третьих, ни ап. Павел, ни кто другой нигде не говорят, что описанной здесь формы Богослужения нужно держаться всей Церкви во все времена. Напротив, православные и подавляющее число протестантов согласны, что многое, о чём здесь пишет ап. Павел (говорение языками, истолкование, пророчества, откровение) были присущи только самым первым христианам, а в дальнейшие века Церкви на Богослужениях этого уже не было. Причём, нужно не забывать, что сами протестанты как никто другой постоянно меняют формы и своих служений, и "евангелизаций", и всей вообще организации своей общинной жизни. Поэтому, не логично обвинять Православие в том, что и оно на протяжении истории меняло формы своего Богослужения, причём изменения эти всегда были весьма необходимыми и духовно адекватными.
[§ 168] А дома молитвы протестантов - таковы ли они сейчас - и по архитектуре и по размеру - какими были они у первых христиан, или хотя бы у первых русских баптистов? Нет, конечно. Украинские баптисты хвалятся своим огромным домом молитвы в г. Виннице, у которого во дворе, например, кроме прочих достопримечательностей, сделан искусственный водоём с живыми лебедями. Разве были ранее у баптистов или древних христиан такие дома молитвы? Нет, но при этом баптисты, естественно, не думают, что они изменили евангельской вере и самим себе.
Протестантизм вообще намного больше и быстрее Православия меняет формы своего Богослужения. Раньше не было у баптистов ни фортепиано, ни других музыкальных инструментов, кроме фисгармонии - сейчас есть. И разве с самого возникновения баптизма у них были богословские колледжи и университеты, разветвлённое на разные отрасли богословия, методики и курсы по изучению Библии, заочные и воскресные школы, детские лагеря, фланелеграфы на библейскую тематику, христианские газеты и журналы, сборники песен "Гусли", "Песнь Возрождения" и пр., хоры разных возрастов, поющие по партитурам[Первые баптисты, например, пели в один голос, очень медленно, распевая один слог на 8-12 нот], группы прославления, оркестры, сурдопереводчики, съезды, конференции, миссии, объединения, евангелизации, требующие больших финансов и сложной организации (как с участием Билли Грэма), и т.д.? Нет, всё это появилось со временем. Но при этом баптисты, естественно, не считают всё перечисленное искажением веры апостольской, а лишь развитием и нахождением новых форм для выражения своей веры. Но если так, то пусть они и православных не обвиняют в том, что у нас в течении истории менялись формы Храмов и облачений, богослужебные тексты и т.п.
[§ 169] При этом нужно ещё раз заметить, что Православие несравнимо более консервативно и медлительно на какие бы то ни было новшества, чем изменчивый протестантизм. Протестанты постоянно меняют формы Богослужения, песнопения и стили музыки, причём часто - просто ради самого изменения. Музыка баптистов старого поколения уже не нравится молодёжи - она им кажется слишком заунывной и тягостной - вот они и вводят новые песни и более быстрые ритмы. Былой ход Богослужения также уже многим не нравится, и его заменяют, не мало не церемонясь[Некоторые "прогрессивные" баптистские пастора вообще не имеют определённой последовательности в своих собраниях, и меняют его каждое воскресенье - какой план напишет пастор утором, так богослужение и пройдёт]. И так во всём. Многие протестанты просто заражены идеей постоянно всё менять, чтобы никогда не быть консервативными - слово "консервативный" для многих протестантов вообще синоним "мёртвый".
Православию же это как раз совершенно не свойственно, и они веками поют одни и те же песнопения, веками совершают по форме одни и те же священнодействия. Поэтому, обвинение протестантов Православия в изменении устройства первых церквей не обоснованно, и они сами всё меняют намного быстрее, и по таким причинам, по которым бы Православие никогда бы ничего не меняло.
[§ 170] Что же касается патриархов, то, безусловно, их не было в I-м веке, и прошения о них написал не ап. Иаков. Но когда в Церкви появились патриархи, в литургии, ап. Иакова и другие, были добавлены прошения о них. Точно так же, когда Церковь жила при царях, Она молилась о них и всём царствующем доме поимённо. Когда их не стало, то прошения эти стали опускаться.
[§ 171] Возражение 2: "православное Богослужение (и вообще всё Православие) - слишком сложно и не понятно". При этом протестанты очень любят приводить в отношении Православия слова ап. Павла: "удалились от простоты во Христе" (2 Кор. 11:3).
[§ 172] На это нужно сказать, что не Православие сложно, а протестантизм слишком прост и примитивен - таким он и задумывался дьяволом. Потому протестанты так любят говорить о "простоте во Христе" и так часто цитируют данный стих. Но при этом они путают простоту Христову с упрощенством, примитивностью и профанацией. Протестантское стремление к простоте часто выражается в открытой борьбе со всем прекрасным, величественным, таинственным в вере, имеющим глубокий смысл и мудрость, которую нельзя постичь до конца и сразу. О такой простоте хорошо сказал русский народ в пословице: "простота - хуже воровства".
И протестанты действительно тем и отличаются от православных, что, - не довольствуясь одним извращением церковных догматов, - многое попросту отбрасывают и отсекают от Веры Христовой (Веры древней Церкви), оставляя только немного - самого простого и легко понятного. Потому, многие отличия протестантизма от Православия состоят именно в том, что у православных это есть, а у протестантов нет: у православных есть каждение, престол, жертвенник, алтарь, светильники, иконостас и многое другое, а у протестантов нет. Таким образом, под лозунгом "простоты Христовой" они сделали из Церкви жалкое, уродливое и убогое Её подобие.
[§ 173] Простота Христова это не примитивность и не упрощенство. Простота Христова относится прежде всего к нравственности - это христианские бесхитростность и простодушие. О простоте евангельского учения можно говорить и в том смысле, что каждый, и самый простой и не грамотный человек, может понять суть заповедей и веры Христовой, и достичь святости и спасения. И действительно, сколько в Православии есть простых людей - бабушек, которые не могут говорить на богословском языке и многого не знают, но они понимают то, что им нужно, но при этом не требуют того, чтобы Богослужение и всё Православие упростили так, чтобы им всё до конца было понятно. Такое упрощение это оскорбление величию и мудрости Бога, Который в Богослужение и всё Богословие Церкви, как и в Библию, вложил великий смысл, который можно по мере собственного духовного роста постигать всё глубже и глубже, и так до бесконечности.
Известно, как протестанты ценят Библию[Впрочем, к сожалению, часто только на словах. В настоящей книге показано множество мест Писания, которые протестанты отвергают и ни во что ставят ради своих человеческих преданий]. Но разве она написана просто? Разве может человек понять весь её смысл, даже если будет читать её ежедневно всю жизнь[Хотя в баптизме есть много таких, которые искренне считают и постоянно говорят о том, что в Библии всё ясно и просто написано! Такие заявления - оскорбление величию и мудрости Бога. Таковым людям можно поставить тысячи вопросов по Библии (причём, не только исторических, топографических, археологических и текстологических), а просто смысловых, на которые они не смогут ничего ответить, но при этом они наивно считают, что Библия - совершенно простая книга]? Нет, конечно. Нам, студентам ДХУ, преподаватель по Ветхому Завет говорил, что когда он учился в богословском Университете, то они целый год изучали первую главу Бытия. Но это ведь не значит, что мы совсем не можем ничего в Библии понять и что даже пытаться не стоит ее читать и изучать.
То же самое можно сказать и о самом Боге - Он бесконечно велик и далеко превосходит человеческие способности познать Его вполне, но из этого не следует, что человек вообще не может познавать Бога, и что нужно желать или требовать, чтобы Бог стал проще и понятнее. А именно этого - упрощения Богослужения и Богословия - требуют протестанты от Православия, не понимая того, что в это всё равно, что требовать упрощения Самого Бога.
[§ 174] Посему, Богослужение (и Богословие) Церкви - величественное и мудрое. Оно, как и Библия, устроено так, что вникать в него может начать самый простой человек, находя в нём духовную пищу по силам и соответственно своему духовному росту - как писал св. Дионисий: "…божественное открывает себя и бывает воспринимаемо в соответствии со способностью каждого из умов…"[О Божественных именах, гл. 1/1] - но которое (Богослужение) никогда не будет изученным и "пройденным материалом" и для весьма усовершенствовавшихся, которые всегда будут черпать в нём что-то новое и назидательное для души, открывая всё новый более глубокий смысл.
[§ 175] Итак, Церковь изначала в устройстве своих Храмов и Богослужения главнейшими принципами были:
1) символизм, то есть выражение Божественных догматов при помощи видимых и ощутительных вещей (см. § 95) и
2) подражание образу небесному.
Хотя, естественно, всё, что касается храмового Богослужения, не было и не могло быть сделано сразу, через неделю после рождения Церкви - для такого дела требовалось время, тем более что постоянные гонения, захваты и разорения христианских Храмов сильно препятствовали процессу формирования Богослужения и храмового устройства. Тем не менее, у древних христиан были (хотя и не такие величественные, как сейчас) и алтари, и жертвенники (с мощами мучеников), и престолы, и завесы с изображениями, и амвоны, и притворы, и светильники. Древние христиане имели литургии (и различные записанные молитвы), и на своих Богослужениях: совершали каждения, телесно поклонялись Богу, молились на восток, не использовали музыкальных инструментов и преимущественно стояли. Священники за Богослужением также: использовали особые одежды и благословляли народ.
Всё это протестанты отвергают, и подавляющее их число совершенно не знают о том, каким было Богослужение древней Церкви. Таким образом, их уверенность и заявления о том, что они вернулись к вере древней Церкви - иллюзия и дьявольский обман.
В I части книги были рассмотрены многие важные и наиболее часто выдвигаемые протестантские обвинения против православных догматов и увидели, что все они безосновательны и противоречивы, и что православные догматы и реалии духовной жизни прочно основаны на Св. Писании, жизни древней Церкви и просто здравом смысле.
Но, кроме того, что реформаторы отвергли крестное знамение, все вещественные святыни, иконы, молитвы святым и за усопших, весь древний чин Богослужения, посты, монашество, учение о необходимости дел для спасения и т.п., они - и это самое главное - отвергли таинства, а без них уже не мыслимо само существование Церкви, так как вся Ее таинственная, духовная жизнь как Тела Христова заключена прежде всего в них.
Что же такое таинство в православном понимании?
По определению таинства есть священнодействия, совершаемые священнослужителями Церкви, которые за видимой своей стороной сообщают верующему особую невидимую и спасительную благодать Божию. Семь Таинств Церкви суть следующие:
1) Священство;
2) Крещение;
3) Миропомазание;
4) Евхаристия;
5) Исповедь;
6) Брак;
7) Елеопомазание.
Православное определение таинств (и их число) в общем-то соответствует католическому[Правда, в католицизме есть одна только видимая сторона таинств, никому не передающая невидимой Божьей благодати, ибо из-за многих своих ересей западная Церковь была в 1054 г. отсечена от Церкви Вселенской и лишилась истинных, благодатных священнослужителей, могущих совершать таинства. Подробнее об этом читать в главе "Почему не католицизм"].
Реформаторы, начав удалять из католицизма все человеческие наслоения, сильно увлеклись и отсекли в Веры Христовой много истинного и Божественного[В начале книги уже была высказана мысль о том, что католичество пошло путём нововведений и прибавлений к Апостольской Вере, - которую доныне содержит Православная Церковь, - человеческих преданий, а протестанты, решив избавиться от преданий человеческих, отвергли вместе с ними много из предания Божественного и Апостольского. При занятиях сравнительным богословием и, в особенности, при изучении отцов Церкви первых веков трудно не согласиться с тем, что православные имеют все основания так думать]. Из семи таинств Церкви решено было оставить только два - Крещение и Причастие, причём реформаторы долго не сходились с собой в этом вопросе. Лютер и Меланхтон одно время называли таинствами Крещение, Евхаристию и Исповедь, хотя первые два считали более важными; Цвингли признавал таинствами Крещение, Евхаристию и Брак, а Кальвин вместо Брака - Священство["Православно-догматическое богословие", том II, с. 315].
Но, конечно, определение и понимание сути таинства реформаторами было сильно искажено и рационализировано. Лютер считал таинства простыми знаками, возбуждающие веру во Христа, а Кальвин и Цвингли - знаками, которые свидетельствуют и удостоверяют участника таинства, - и, что ещё важнее, всю церковь, - в его вере["Православно-догматическое богословие", том II, с. 314]. То есть, крестясь протестант таинственно не погружается во Христа, и участвуя в хлебопреломлении, он не причащается реально самого пречистого Тела и Крови Христовых. Посредством воды и хлеба с вином, которые суть только символы и знаки, протестант только укрепляет свою веру и свидетельствует своей общине и самому себе о том, что он уже соединён (погружён и причащён) со Христом через свою веру. Одним словом, в таинствах у реформаторов нет на самом деле ничего таинственного, а само слово таинство прилагается протестантами к крещению и хлебопреломлению только традиционно и условно, да и то - далеко не всеми протестантами.
Именно по причине явного несоответствия слова "таинство" реформаторскому о них понятию, со временем многие протестанты, в том числе баптисты и большинство других конфессий протестантского толка постсоветского пространства, совсем отказались от его использования, найдя тот предлог, что слово таинство не встречается в Библии. Для постсоветских баптистов это чуждое и враждебное слово, пахнущее какой-то мистикой, обрядностью и человеческим преданием. Но хотя баптисты не считают и не называют главные церковные священнодействия таинствами, они всё равно совершают все их подобия, ибо вся суть и важнейшая задача всякой "христианской" секты (как, впрочем, и всякой лжерелигии) заключается именно в том, чтобы подражать Церкви и подменять Её, то есть быть антицерковью[Греческая приставка (анти) значит 1) против и 2) вместо. Как антихрист 1) противится Христу и в то же время 2) подражает Ему и выдаёт себя вместо Христа, так и всякая секта потому антицерковь, что 1) противится Церкви и 2) подражае/strongт Ей, выдавая себя вместо Неё].
Так вот, баптисты (как и все остальные протестанты) совершают все подобия церковных таинств, ибо наши пастора 1) крестят (в подражание таинству крещения); 2) возлагают руки на крещенных (в подражание таинству Духа); 3) совершают хлебопреломление (в подражание таинству Евхаристии); 4) принимают у кафедры покаяние грешников (в подражание таинству исповеди); 5) рукополагают пресвитеров и дьяконов (в подражание таинству священства); 6) бракосочитывают (в подражание таинству брака) и 7) по просьбе верующих молятся о больных[А некоторые протестанты также мажут больных елеем] (в подражание таинству елеопомазания). Итак, у баптистов нет таинств[Хочется заметить, что у Православия и протестантизма есть не мало единых убеждений, и к ним относится и вопрос о наличии в протестантизме таинств. Здесь православные полностью разделяют убеждение протестантов и считают, что в протестантизме действительно нет таинств - истинных и спасительных], но есть почти все символические действия и подобия таинств.
Что же касается того, что в Библии нет слова "таинство", то здесь баптисты не правы. Дело в том, что русские слова таинство и тайна однокоренные и передаются одним греческим словом (мистирион)[Отсюда наши слова мистерии, мистика, мистический, которые протестанты, как правило, знают только в отрицательном смысле], которое вмещает в себя оба эти понятия и многократно встречается в греческом оригинале Нового Завета.
Тайна значит то, что кем-то от кого-то скрывается. В таком смысле слово использует ап. Павел, когда неоднократно пишет про тайну язычников: "тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его" (Кол. 1:26); "тайны, о которой от вечных времен было умолчано" (Рим.14:24; см. также Рим. 11:25; Кол. 1:27; 4:3; Еф. 3:3,4; 6:19). Тайна, скрываемая от ветхозаветних евреев и открытая ап. Павлу, заключалась в том, что язычники и евреи по Божьему промыслу должны были составить один народ Божий, одну Церковь; что всякий верующий и принимающий Христа духовно становится иудеем и наследником всех Божьих обетований для Израиля (см. Рим. 2:28,29). И хотя на эту тайну тонко указывали пророки Ветхого Завета, тем не менее, она была сокрыта от еврейства и даже другие Апостолы не сразу её уразумели, что видно из Деяний Апостольских[Подробнее об этом читать в главе о миропомазании]. Также, ап. Павел пишет о "тайне беззакония" (2 Фес. 2:7), имея в виду скрываемый от непосвященных заговор, составленный после вознесения Христова некоторыми иудеями-отступниками о том, чтобы привести к власти над всей землёй антихриста. И. Христос использовал слово
в таком же смысле, когда говорил Своим ученикам о том, что "вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано" (Мф. 13:11); то есть, вам тайны Царствия Божия Я открываю, а от других - утаиваю.
Слово же таинство значит не то, что сокрыто, но то, что известно, но до конца не понятно и не исследимо из-за глубокого смысла самой мистерии. И в таком смысле ап. Павел использует слово в 1 Тим. 3:16: "И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти…". То, что И. Христос есть Бог не скрывается, а проповедуется Церковью всему миру открыто, но это всё равно тайна, таинство, ибо мы до конца не можем понять, как "человек Христос Иисус" (1 Тим. 2:3) был одновременно Самим Богом; как Бог стал человеком? О em такой же великой тайне говорит ап. Павел и в Еф. 5:30-32: "потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви". Опять же, в том, что Церковь есть Тело Христово нет тайны в смысле секрета, но сама тайна эта весьма глубока и не поддаётся исследованию, ибо как можно понять, что человек, тварное и грешное существо, может быть одним целым до полного единства с Самим Богом? Мысль эта захватывает дух и всю сущность человека, но понять её до конца он не может, ибо она есть великая тайна (мистерия) христианства.
Но чаще всего слово имеет в Новом Завете оба указанных значения. Ап. Павел пишет: "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны…, а не имею любви, - то я ничто" (1 Кор. 13:2). Здесь под тайнами имеется в виду и знание всех тайн, и познание всех таинств, то есть всех сокровенных глубин христианской веры, и что как одно, так и другое бесполезно для человека без любви. Также: "кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом" (1 Кор. 14:2). Говорящий на незнакомом языке говорил и тайны, br /так как его никто не понимал, и часто говорил, безусловно, о вещах глубоких и таинственных.
Нужно также заметить, что даже когда слово используется в смысле тайны, то в этой тайне всегда есть и таинство. Тайна язычников есть и таинство, ибо во Христе язычники таинственно и непостижимо становятся евреями. К тайнам же Царствия Божия также относится не только неизвестное непосвящённым, но и все таинственные и до конца непостижимые догматы христианской веры. В тайне беззакония также есть очень много таинственного. И так во всех случаях. Потому, собственно говоря, в греческом языке понятия тайна и таинство и обозначаются одним словом. Греческая Православная Церковь семь своих таинств называет именно словом
. Русская же Церковь для большей ясности разделяет понятия тайна и таинство, называя таинствами чаще всего именно семь важнейших совершаемых Ею священнодействий, то есть Вашими молитвамицерковные таинства, хотя нередко Евхаристия, например, называется тайнами Христовыми.
Семь главных церковных священнодействий потому называются в Православии мистериями, что полностью соответствуют данному понятию. Таинства Церкви являются и тайной для внешних, к которым допускаются только верные и посвященные, и таинством, так как в каждом из них есть нечто таинственное и до конца непостижимое, в чём мы убедимся при рассмотрении каждого таинства в отдельности.
На протестантское же возражение насчёт того, что слово "таинство" не встречается в Новом Завете в словосочетании с православными таинствами, - то есть, в Евангелии нет, например, выражений "таинство крещения" или "таинство Евхаристии", - хорошо отвечает Димитрий Чуйков: "это не столь важно, так как, например, слово "Троица" в Священных Писаниях вообще нигде не встречается, тогда как смыслом, который это слово выражает, пронизано все Библейское учение, и большинство сектантов, слава Богу, соглашается и с идеей Троицы и с техническим термином, который выражает эту идею (то есть со словом "троица"[Например, в нашем сборнике "Песнь Возрождения" под номером 1549 находится псалом (который мне в своё время очень нравился и который мы исполняли своей "группой прославления" на собраниях баптистов в г. Артёмовске), в котором есть такие слова: "Отец, и Сын, и Дух Святой - Святая Троица… Тебя мы славим в этот час Святая Троица"]), выработанным Православной Церковью в ходе развития осмысления Ею Божественного Предания. Слово "таинство" есть подобный технический термин, который Церковь употребляет для описания известных священнодействий, заповеданных Христом. И как большинство "христианских" деноминаций не отвергло Православного Троического Богословия и самого слова "троица", - и это при том, что в Библии такого слова нет, - так следовало бы сектантам не отвергать и Православный термин "таинство", тем более что слово "таинство" встречается в Библии, а главное, конечно, не отвергать самого Боговдохновенного учения о семи Таинствах Святой Апостольской Церкви"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 43, 44].
К тому же, когда ап. Павел пишет: "Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих" (1 Кор. 4:1), то под этими Божьими тайнами здесь должно разуметь прежде всего церковные таинства, домостроителями которых являлись Апостолы в преимущественном смысле.
Кроме того, в Библии есть великолепное по своей красоте, поэтичности и точности пророчество о семи таинствах Церкви: "Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: "кто не разумен, обратись сюда!" и скудоумному она сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное; оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума"" (Пр. 9:1-6). Димитрий Чуйков разъясняет эти слова так: "Этот Ветхозаветный отрывок содержит замечательное пророчество о семи Церковных Таинствах, и выделяет из них наиглавнейшее - Евхаристию.
- "Премудрость", то есть - Бог; "построила себе дом", то есть - Христос основал Свою Церковь; "вытесала семь столбов его", то есть - Христос основал Свою Церковь на семи Таинствах; "заколола жертву", то есть - Бог Отец принес Сына Своего в искупительную жертву (Христос был пронзён на кресте копьем: см. Ин. XIX,34; ср. также 1 Кор. 5,7); "растворила вино своё" - вино растворяется (разбавляется) водой; "вино" в стихе 2 есть Кровь Христа, а "вода" - жидкость, истекшая из прободённого бока Христа вслед за Его Кровью (см. Ин. XIX,34); Кровью Христа мы искуплены от рабства греха, а вода, истекшая из пронзенного Христа, есть символ нашего очищения от греха. Как неразбавленное водою, то есть крепкое вино, пьянит человека, и потому может повредить ему, так и вкушение Крови Христовой может оказаться губительно для не очищенного в воде крещения Духом Святым. Поэтому слова "растворила вино свое", прикровенно указывают на учреждение Христом всех 7-ми Таинств: во-первых, самой Евхаристии, так как "вино" есть Кровь Христа; затем Крещения, в котором человек омывается святой Христовой водой от своих грехов; Миропомазания, в котором крещенному даруется освящающая его благодать Духа Святого; Покаяния, очищающего от греха; Елеопомазания, в котором помазуемому также прощаются грехи; Священства, благодаря которому Божии поставленники получают власть прощать грехи, то есть очищать скудоумных; и Брака, которое помогает человеку сохранить себя чистым от любодеяний. Итак, слова "растворила вино свое" нужно понимать в том смысле, что Христос сделал все необходимое для того, чтобы приступающий к Страшным Его Дарам вечной жизни причастился Крови и Плоти Христа не в осуждение себе, а в оправдание. - "Приготовила у себя трапезу", то есть - Христос учредил у Себя в Церкви Таинство Причащения; "послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских", то есть - Христос послал Своих Апостолов, пророков, благовестников, учителей, людей мудрых и книжных (ср., например, Мф. XXIII,34) на провозглашение во всеуслышание ("с возвышенностей городских") Евангелия; "кто неразумен обратись сюда", то есть - кто грешен, обратись к Евангелию, к Церкви, или иначе: покайся, слыша Евангельский призыв, и приди в Церковь. - "Скудоумный", как и "неразумен", значит - грешный; "идите ешьте хлеб мой" - то же, что: "приимите, ядите: сие есть Тело Мое" (Мф. XXVI,26); "и пейте вино мною расстворенное" - то же, что: "И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов" (Мф. XXVI,27,28); "оставьте неразумие", то есть - раскайтесь во грехах; "и живите", то есть - вечно есть подобный технический термин, который Церковь употребляет для описания известных священнодействий, заповеданных Христом. И как большинство й жизнью Божиего Царства, вкушая от Чаши Жизни; "и ходите путем разума", то есть - живите жизнью Святой, Соборной, Апостольской, Православной Церкви Христа, участвуя в Ее семи Таинствах, и повинуйтесь Ее священноначалию, в котором преимущественно обитает Премудрость Божия"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 39-41].
Не согласиться с таким толкованием можно только по предвзятости. Важно также заметить, что само число таинств, семь, имеет большое значение, ибо 7 - Божественное число, что хорошо понятно по книге Откровение.
Теперь, если мы зададимся вопросом о свидетельствах от противного, то обнаружим, что практически все лжерелигии, культы и сатанинские секты имеют свои посвящения, таинства и мистерии, в которых учувствуют только посвящённые. Здесь дьявол опять самым очевидным образом показывает и доказывает, что истинная Церковь, которой он противостоит, имеет таинства.
Перед тем, как приступить к рассмотрению каждого таинства в отдельности, хочу поведать моему читателю о том решающем значении, которое имело православное учение о таинствах в моём в своё время решении оставить баптизм.
Узнав ответы, которые даёт православная апологетика на все главные протестантские возражения, я не мог отрицать разумность и твёрдую библейскую, а также историческую обоснованность православного богословия. Мои ум, совесть, чувства, душа и всё естество свидетельствовали мне, что Православие содержит великую Истину! Естественно, передо мной возник и всё больше стал приобретать значимость и остроту вопрос: "могу ли я теперь оставаться баптистом и вообще протестантом"? Или, другими словами, настолько ли важна православная истина, и настолько ли велики и пагубны заблуждения протестантов, чтобы мне идти на полный и такой болезненный во многих отношениях разуклонением от простоты во Христерыв со всеми моими единоверцами, родными и друзьями, подвергая их смущению, страданию и некоторому даже позору, который, как я знал, будет наиболее неприятен моему отцу-пастору[Впоследствии мне баптисты часто говорили, что я предал свою семью и опозорил отца]?
Вопрос действительно был судьбоносный, от решения которого, я понимал, зависела вся моя жизнь, в том числе и вечная жизнь. Я долго обдумывал и взвешивал, как говориться, все pro et contra. Я прокручивал в голове одну за одной все спорные темы с целью ответить на один этот вопрос: является ли данная православная истина и данное протестантское заблуждение настолько важными, чтобы мне разрывать с баптизмом?
Когда я анализировал вопросы о крестном знамении, об иконах, о молитвах святым и Ангелам, о Богородице, о постах и монашестве, то есть спорные вопросы, поднятые в первой части книги, то не из-за одного из них я не готов был разрушить свою жизнь. Я рассуждал, что все эти вопросы не могут лишить меня спасения и что они не являются самой сердцевиной нашего с православными разделения. Я считал, что теоретически я могу принять православное понимание вышеперечисленных вопросов и оставаться в среде протестантов. Не стоило только всем рассказывать о своих взглядах, так как меня бы не поняли, но в своей комнате тайно (ср. Мф. 6:6) молиться Богу пред иконами, обращаться по желанию к святым и к Богородице, признавая Её приснодевой и Богоматерью, использовать молитвослов, осенять себя крестным знамением, поститься и т.д.
Я думал, что если мои братья протестанты не доросли[Так я думал в то время по своей еще наивности. Я не понимал ещё того, что протестанты не просто не доросли до Православия, а что они духовные непримиримые враги Православия, что они совершенно другого духа. Они не просто не имеют святынь, икон и т.д., а активно хулят, поносят и отвергают истину. Сейчас бы для того, чтобы оставить баптизм, мне вполне бы хватило одного того факта, что все протестанты, например, иконоборцы!] до этого понимания, то это еще не повод полностью порывать с ними. К немощным в вере нужно относиться со снисхождением и не губить их своим знанием, как учит ап. Павел (см. 1 Кор. 8:9-12). Да и если я и не буду ничего этого делать, то разве это влияет на спасение? Разве нельзя спастись без икон, святынь, молитв ко святым, крестного знамения и молитвослова? Можно, размышлял я. Всю красоту и величественность православного Богословия, музыки и храмовой архитектуры, убранства и Богослужения также не мог я посчитать достаточной причиной для полного разрыва с баптизмом. Ко всему этому можно было как-то приобщаться и не разрывая с баптизмом; даже посещать православные службы. Но когда я начинал размышлять о таинствах, то я понимал, что без них, по крайней мере, без первых четырёх самых главных, никак нельзя обойтись и спастись, и что именно здесь находиться наибольшая глубина пропасти, разделяющая Православие и протестантизм.
То есть, когда я понял и принял православное учение о таинствах (которое тождественно учению Библии и вере Церкви первых веков), то совесть моя уже категорически отвергала все судорожные попытки моего разума как-то оправдать своё дальнейшее нахождение в баптизме. То есть, думая о важнейших таинствах я уже не мог сказать себе, что можно спастись без них. Я ясно понимал, что если я в действительности не крещён во Христа, если я не получил дара Духа Святого, если я не причащаюсь Тела и Крови Христовых, если наши баптистские пасторы не имеют законной преемственности и благодати, то как же я спасусь?
Итак, я хочу рассказать о том, что я понял о таинствах, изучая Православие, и почему они так важны.
Главные разномыслия протестантов с православными относительно вопроса священства заключаются в следующем.
I. Православные разделяют верующих на священство и мирян[Слово "мирянин" не значит мирской в смысле не духовный (в противоположность духовным священникам). Это слово означает: 1) живущий в мире (в противоположность священникам и монахам, находящимся при храмах и монастырях), а также 2) умиротворённый, живущий в мире с Богом], на пастырей и овец, на клир["Клир" (греч. , клирос) значит жребий, удел, доля, достояние. Это слово неоднократно используется в Евангелии, например, в Деян. 1:17, когда говорится о Матфии: "он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего". Таким образом, клирик Церкви это тот, кому выпада доля (жребий) от Бога нести в Церкви епископское, священническое или диаконское служение. Блаженный Иероним, например, писал о клириках так: "Клирик, посвятивший себя на служение Церкви Христовой, должен прежде всего вникнуть в значение своего имени, узнав же его, должен на самом деле оправдать его. Греческое слово kleros значит "достояние". Клирики называются так или потому, что составляют достояние Господа, или потому, что Сам Господь есть достояние или доля клириков. В том и другом случае клирик должен вести себя так, чтобы и самому можно было обладать Господом, и Господь мог бы обладать им" ("Настольная книга священнослужителя", изд. "Свято-Успенская Почаевская Лавра", 2003 г., том 8, с. 39)] и прихожан. Протестанты же отказываются признавать такое разделение верующих, говоря о том, что пред Богом все верующие равны: все являются овцами Христа и священниками у Бога. Аргументы в пользу своей позиции протестанты приводят такие.
1) 1 Пет. 2:9, где о всех христианах сказано так: "вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел". Вот, торжествуют протестанты, ясно написано, что все верующие, а не только особые люди в Церкви являются священниками. Поэтому, догмат о всеобщем священстве стал одним из важнейших для реформации и остаётся таковым по сей день для всего протестантизма.
2) Протестанты говорят: "нам не нужны никакие особые священники, так как у нас есть один священник Христос, как написано "...мы имеем такого Первосвященника, который воссел одесную величия на небесах..." (Евр. 8:1)". (По этой причине, кстати, протестанты и не называют своих пресвитеров священниками).
3) Не редко, также, в подтверждение догмата о всеобщем священстве протестанты приводят слова Христа: "А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья" (Мф. 23:8). Раз все мы друг другу братья, говорят протестанты, то значит, все мы равны; значит, никакого разделения верующих на клир и прихожан быть не должно.
II.. У православных священство разделяется на три чина - епископ, пресвитер и диакон. Баптисты же, как и большинство протестантов других течений, признают только два чина[Протестанты по своему стремлению к равенству и упрощению не употребляют слово "чин" к своим пресвитерам и диаконам, хотя слово "чин" значит просто "порядок", и раз у протестантов в руководстве заведён вот такой порядок, то его по самой сути можно называть чином] - пресвитерский и диаконский.
III.. Для Православия существенно важна преемственность священства. То есть, православные признают только тех епископов, пресвитеров и диаконов, которые были рукоположены законными епископами, которые, в свою очередь, также были рукоположены таким же образом, и так до времён апостольских. Вне этой преемственности, по вере православных, нет и не может быть Церкви.
Протестантские же пресвитеры не имеют апостольской преемственности, а могут говорить о какой-то преемственности в лучшем случае только до реформаторов XVI века, или своих ещё более поздних основателей. Но чаше всего наличию или отсутствию у пасторов своей церкви какой-либо преемственности протестанты не придают никакого значения. Пожалуй, самое лучшее (и согласное духу реформации), что протестанты могут ответить на вопрос о наличии у них преемственности, следующее: "для нашего спасения и нахождения в Церкви важна не формальная апостольская преемственность, а преемственность духовная, то есть живая апостольская вера; и спасаемся мы не благодаря пресвитерам и апостольской преемственности их рукоположения, а сердечной вере во Христа как своего личного Спасителя". В оправдание того, что их пасторы не имеют преемственности рукоположения, протестанты говорят и о том, что православные священники по своим грехам потеряли власть священнодействовать, и поэтому Бог избрал теперь их, которые служат Ему в духе и истине. Поэтому, протестанты часто приводят различные примеры грехов православных священников, что служит для первых неким моральным укреплением в их вере. То есть, рассказывая истории о /supгрехах священников, протестанты как бы говорят: "раз православные священники так и так дурно поступают, то значит, они не могут быть настоящими, Богоугодными священниками; значит, мы правильно поступили, выйдя из среды нечестивых и избрав для себя других - истинно верующих и возрождённых пасторов".
IV.. У протестантов есть ещё несколько известных и часто выдвигаемых претензий к православным относительно священства[Вопросы данного IV-го раздела имеют скорее косвенное, а не прямое отношение к Таинству Священства, и в первых изданиях моей книги эти вопросы обсуждались отдельно в главе "Об отношении прихожан к священнику". Но так как эти три пункта всё же достаточно тесно связанны с темой священства, было решено оговорить их вместе, чтобы не разбивать разговор о священстве на две отдельные главы]. Протестанты осуждают православных за то, что они:
1) называют своих священников "отцами", вопреки заповеди Христа "и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах" (Мф. 23:9);
2) целуют руки епископам и священникам, воздавая им тем самим чрезмерную честь;
3) носят длинные волосы (священство и монашество), несмотря на ясные слова ап. Павла: "Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него" (1 Кор. 11:14).
Как видим, протестантское отношение к священству резко, и, причём, по многим пунктам отличается от православного. Поэтому, основательный разбор православных и протестантских позиций в свете Библии и учения ранней Церкви представляется делом предельно важным.
Итак, рассмотрим эти спорные вопросы в вышеизложенной последовательности.
I. О разделении верующих на священство и мирян
П. Рогозин догмат об "отличии духовенства от мирян" называет отступлением, говоря также, что "мысль о делении церкви на два класса… чужда учению Нового Завета"; что Св. Писание не признаёт "подразделения на начальствующих и подчинённых", но "христианам, обращённым из обрезанных, трудно было в самом начале порвать с этим ветхозаветным подразделением: на "начальствующих" и "подчинённых""["Откуда всё это strongпоявилось?", глава "Священство"].
Сам по себе этот факт (что протестанты силятся доказать равенство между членами Церкви, не признавая особого священства и отказываясь разделять верующих на священство и мирян, на пастырей и овец, на начальствующих и подчиненных) очередной раз свидетельствует о том, что протестанты только на словах свято чтят Библию и строят свою жизнь и учение только на ней. На самом же деле, первостепенное и решающее значение для них имеет не слово Божие, а их собственное человеческое, реформаторское предание, и если между ними обнаруживается противоречие, то предпочтение они всегда отдают своему преданию, а не Св. Писанию. Димитрий Чуйков, например, по этому поводу говорит: "нужно заметить, что попытки сектантов опровергнуть Библией Православное учение об особом Новозаветном священстве являются одной из нелепейших сторон бесчинств еретиков, и, именно, в силу множества очевиднейших Библейских свидетельств, подтверждающих правоту такого учения"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 26].
Итак, сначала рассмотрим некоторые места Библии (в порядке от менее к более важным), которые яснейшим образом указывают на то, что верующие в Церкви разделены на пастырей и овец, на священство и рядовых верующих.
Фил. 1:1: "Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами…". Эти слова ясно предполагают, что не все святые в Церкви - епископы и диаконы.
Иак. 5:14: "…болен ли кто из вас пусть призовет пресвитеров Церкви". Очевидно, что в Церкви одни члены являются пресвитерами, а другие нет.
1 Кор. 12:28, 29: "иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями... Все ли Апостолы? все ли учители?". "Иных" значит не всех.
Деян. 14:23: "Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали". Очевидно, что из среды верующих избираются некоторые, на которых полагаются руки и они становятся пресвитерами, а другие никогда не сподобляются сей благодати.
1 Фес. 5:12,13: "Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их". Из этих слов ясно, что в Церкви Христовой есть предстоятели[Употреблённое здесь греческое слово (проистамэнус) происходит от глагола
(проистими), что значит: стоять впереди (во главе), начальствовать, управлять, защищать, заступаться, посредничать. И православные священники действительно выполняют все эти функции и являются стоящими впереди не только духовно, но и буквально: на службе все молящиеся обращены на восток, к алтарю, а впереди всех стоит и молится Богу священник. Для протестантов же термин "предстоятель" совершенно чуждый, и они используют его, пожалуй, только тогда, когда цитируют данное место Библии. Да и то, в своих переводах Библии русскоязычные протестанты вообще убрали это слово. В древней же Церкви, как и поныне в Православии, слова "предстоятель", "предстательство" употребляется очень часто. Св. Иустин Мученик использовал его как обычное название для пресвитера. Описывая богослужение своего времени, он писал: "Потом… предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать там прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода; и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом - аминь, и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят, и собранное хранится у предстоятеля…" (Апология 1, п. 67)], а есть стоящие за ними; есть вразумляющие, а есть вразумляемые.
1 Тим. 5:17: "Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении". Очевидно, что в Церкви одни - начальствующие, учащие и говорящие слово Божие пресвитеры, которым оказывается сугубая честь, а другие - подчинённые, слушающие первых и оказывающие им честь. Как же при этом баптисты могут говорить, что в Библии никакого "подразделения на начальствующих и подчинённых" нет?
Тит. 1:5: "Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал". Итак, мы видим здесь не равенство, а строгую иерархию: отцаминад верующими поставляются пресвитеры как пастыри и начальники над ними, которые, в свою очередь, находятся в подчинённом положении к Титу, который был епископом на Крите и имел право и власть их поставлять и рукополагать. Тит же подчиняется ап. Павлу (как сейчас епископы подчиняются патриарху), который приказывает ему совершить поставление пресвитеров. Приказывать же может начальник, а не равный.
Евр. 13:17: "Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет". Очевидно, что в Церкви есть наставники (пастыри) и наставляемые (овцы), о которых пер/supвые, кроме самих себя, дадут Богу отчёт! Обычный же христианин, которому Бог не вверял Своего (Кол. 1:26); стада, будет отвечать на Страшном Суде только за себя (и свою семью). Таким образом, в Церкви есть наставники и наставляемые, которые должны покоряться и пребывать у своих пастырей в подчинении.
Деян. 20:17,28: "Из Мелита же послав в Ефес, он (ап. Павел) призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: ...внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господ Кроме того, в Библии есть великолепное по своей красоте, поэтичности и точности пророчество о семи таинствах Церкви: а и Бога, Которую Он приобрел Себе Кровию Своею". Это место ясно свидетельствует о том, что не все верующие равны между собою и являются овцами по отношению только ко Христу, как думают протестанты. Вот, Св. Писание ясно свидетельствует о том, что в Церкви, кроме Христа, есть и другие пастыри, которые должны блюсти, то есть надзирать, и пасти Церковь. То есть, простые верующие являются овцам и подчинёнными не только Христа, но и других пастырей Церкви! Причём, здесь хорошо видно то самое "отличие духовенства от мирян", которое не хотят признавать протестанты, ибо ап. Павел ясно разделяет Церковь на две группы - пастырей и стадо.
1 Петр. 5:1-5: "Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальникстаду, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям". Опять же, ап. Пётр ясно разделяет верующих на пастырей и овец (стадо), на старших и младших (не всегда по возрасту, а прежде всего, младших по своему положению). И пастырям заповедуется пасти Божие стадо, надзирать за ним, подавая пример, чтобы получить награду за свой труд от Пастыреначальника. Ведь и само слово "пастыреначальник" значит "начальник пастырей"; следовательно, в Церкви некоторые люди являются пастырями других верующих, а ведь между пастырем и овцой нет равенства. И опять же, как в свете данного библейского отрывка можно утверждать, что Библия не подразделяет верующих на начальствующих и подчинённых? Таким образом, православное разделение верующих на пастырей и овец полностью основано на Библии.
Ис. 66:18-21 содержит в себе важнейшее пророчество о новозаветном священстве: "Вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей; и они возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу… Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь". Данное пророчество, несомненно, говорит о Церкви, и вот как толкует эти стихи Димитрий Чуйков: "Из них …", то есть - из всех братьев, от всех народов, представленных (братьев) в дар Господу (см. 20 стих) через Крещение. - "Из них буду брать", то есть - не всех их, обращенных, а некоторых из них. Эту мысль усиливает слово "также", то есть, кроме того, что они уже посвящены Господу в крещении (представлены в дар Господу), они еще будут взяты в священники, то есть составлять особое или сугубое Новозаветное священство. Итак, в Ис. LXVI,21 Библия недвусмысленно говорит об особом Новозаветном священстве; и на основании Ис. LXVI,21 всякий Православный священник, достойный своего звания, имеет полное право называться священником, и именно не в общем, а в преимущественном смысле, какой, как уже было доказано, и заключает в себе 21 стих"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 26].
Ин. 20:21-23 является важнейшим отрывком в отношении церковной иерархии, возвышающим её над простыми верующими: "...как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (ср. Мф.16:19; 18:18). Заметим, что Христос 1) послал на миссию, 2) передал Духа Святого и 3) дал власть прощать грехи не всем верующим, а только Своим Апостолам!
Весьма интересен здесь такой вопрос: если Христос ещё до Своего вознесения передал Своим ученикам Духа Святого, то для чего же после "Он повелел им: не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца" (Деян. 1:4)? Если Апостолы уже получили через дуновение Христа Духа Святого, то что же они тогда получили в Пятидесятницу? На этот вопрос у протестантов нет удовлетворительного ответа. Православие же даёт очень разумный, богословски оправданный и согласованный с библейским контекстом ответ на этот вопрос. Христос через дуновение даровал Апостолам особую благодать Духа Святого, благодать священства, как духовную власть и силу нести Евангелие в мир, устроять Церковь и прощать грехи, то есть совершать Таинства и прочие священнодействия: в Пятидесятницу же они получили Духа Святого как общий дар для всей Церкви, как "благодать на благодать" (ср. Ин. 1:16).
Хотя Христос буквально наделил учеников только властью прощать грехи, но за этими словами должно разуметь совершение всех Таинств, ибо все они самым тесным образом связанны с прощением грехов.
Так, Таинство 1) покаяния (исповеди) установлено нарочито не для чего иного, как для прощения (отпущения) грехов.
Далее, когда священник 2) крестит человека, то ему также прощаются грехи, как сказано: "да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа" (Деян 2:38).
Когда священник 3) миропомазывает крестившегося, то ему сообщается Дух Святой, который, конечно же, освящает человека и даёт силы не грешить.
Когда священник 4) причащает человека, то грехи его также прощаются, "попаляются" огнём Божества. Сам Христос тесно связывал причастие с прощением грехов, когда на вечере, преподавая чашу ученикам, сказал: "пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов" (Мф. 26:28). На литургии[Литургия - это такая церковная служба, на которой совершается евхаристический канон и происходит Таинство Причастия. Баптистское подобие евхаристического канона происходит раз в месяц, когда пресвитер после некоторого времени после начала собрания подходит к столу с хлебом и вином и начинает читать известные отрывки Св. Писания и совершать так сказать чин хлебопреломления] эта мысль также постоянно повторяется. Напримеemр, непосредственно перед причащением человека священник говорит: "причащается раб Божий (имя) честнаго и святаго Тела и Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную".
Когда священник 5) елеопомазывает болящего члена Церкви, то ему опять же прощаются грехи, как написано: "Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и вemосставит его Господь; и если он соделал грехи, отпустятся ему" (см. Иак. 5:14-15).
Когда священник 6) бракосочитывает жениха и невесту, то это таинство освящает, благословляет и укрепляет их брак, давая им силу и благодать сохраниться от греха любодеяния и жить в браке по-Божьи. И протестанты, кстати, признают, что если члены их церкви поженятся и вступят в супружеские отношения без благословения пресвитера и молитвы церкви, то они согрешат: таковых отлучат от церкви. Таким образом, протестанты не станут спорить с тем, что бракосочетание также предотвращает от греха.
И последнее, когда епископ 7) рукополагает священника, то и это Таинство совершается ради прощения грехов, ибо священник поставляется, прежде всего, именно для совершения шести вышеуказанных Таинств, в которых человеку прощаются грехи, и которые помогают сохраниться ему от греха.
Посему, когда Христос дал благодать и власть Своим Апостолам прощать грехи, Он дал тем самим им власть на совершение не только Таинства покаяния, но и остальных Таинств. И мы знаем, что не все, а только Апостолы и их приемники совершали в Церкви Таинства: прощали и оставляли грехи (Ин. 20:21-23; Деян. 5:3-10; 1 Тим. 1:20); крестили (Деян. 8:38; 1 Кор. 1:16); подавали Духа Святого (Деян. 8:17,18; 19:6); совершали хлебопреломление (Деян. 20:11); рукополагали (1 Тим. 5:22; 2 Тим. 1:6; Тит. 1:5); елеопомазывали (Иак. 5:14-15) и бракосочитывали (Мф. 19:6)[Хотя буквально здесь говорится, что мужа и жену "Бог сочетал", а не пресвитер, но и православные и протестанты согласны с тем, что в Церкви верных Бог сочитывает посредством пресвитера]. Одним словом, право священнодействовать Христос дал не всем верующим, а только Апостолам, которые в свою очередь через рукоположение передавали эту власть и другим избранным мужам.
Таким образом, не всем верующим, а только Апостолам и их преемникам (священству Церкви) Христос в Ин. 20:21-23 дал Духа Святого в особом смысле, как власть и благодать прощать грехи, священнодействовать, и созидать Церковь. Об этом хорошо сказал Ориген: "Тот, кто получил дуновение от Иисуса, как апостолы…, отпускают такие грехи, которые отпустил бы Бог"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 90]. Заметим, по мысли Оригена 1) власть отпускать грехи Христос дал Апостолам именно посредством Своего дуновения, и 2) эта особая благодать Духа Святого дана Иисусом и другим, очевидно, через рукоположение Апостолов. Св. Киприан (ум. 258 г.) таким же образом толковал данное место Евангелия: "Власть разрешать что-либо на земле так, чтобы это разрешалось и на небе, Господь дал прежде Петру.., а по Воскресении и всем апостолам, говоря: как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин. 20:21-23). Отсюда понятно, что крестить и давать отпущение грехов могут в Церкви только предстоятели.., а вне Церкви ничто не может быть ни связано, ни разрешено, так как там нет никого, кто бы мог связать что-нибудь или разрешить.., и никто вопреки епископам и священникам не может присваивать себе что-либо, на что не имеет ни права, ни власти"[Письмо к Юбаяну. Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 133].
Таким образом, в Церкви доныне избранным людям в Таинстве Священства через рукоположение епископов передаётся эта особая благодать Христова дуновения, хотя и в разной мере: диаконам даётся одна мера этой благодати, священникам - другая, а епископам - третья, полная мера этой благодати, и посему епископы считаются полноправными преемниками Апостолов. Поэтому очевидно, что в Церкви все верующие не равны между собою и не имеют равной власти, прав и, что более важно, благодати Духа Святого. Рядовые верующие получают Духа Святого один раз, при миропомазании[Об этом подробно будет сказано дальше в главе "О Таинстве Миропомазания"], а священство получает ещё и особую благодать Духа Святого при хиротонии, ту благодать, которую передал Христос Своим ученикам через дуновение.
Итак, в этих и подобных местах Св. Писания делается ясное разделение верующих на пастырей и овец, на имеющих право священнодействовать, и не имеющих, на пасущих и пасомых, на учителей и учащихся, на наставников и наставляемых, на начальствующих и подчинённых, на предстоящих и стоящих за ними. Поэтому, отказ протестантов разделять христиан подобным образом не выдерживает никакой критики в свете ясного библейского учения.
Если мы теперь зададимся вопросом о том, было ли в древней Церкви разделение верующих на священство и мирян, на пастырей и овец, и считалось ли священство Таинством, сообщающим принимающему его особую благодать Духа Святого, то увидим, что древняя Церковь учила об этом православно, а не по протестантски. Приведём несколько цитат.
В Дидахе мы читаем: "Рукополагайте себе епископов и диаконов, достойных Господа, мужей кротких и несребролюбивых, и истинных, и испытанных, ибо и они исполняют для вас служение пророков и учителей. Поэтому не презирайте их, ибо они почтенные ваши наравне с пророками и Апостолами", а также: "Чадо мое! Поминай ночью и днём того, кто возвещает тебе слово Божие и почитай его как Господа" (Дидахе, 15:1,2; 4:1). Очевидно, что если простым верующим заповедано почитать служителей Церкви как пророков, Апостолов и Самого Господа, то первые не могут быть равными с последними, ибо пророки, Апостолы и, тем более, Сам Господь больше тех, кому они проповедовали. Заметим: протестанты не возражают против того, что Апостолы занимают в Церкви особое место, но считают, что после их смерти уже нет в Церкви служения апостольского. Но в Дидахе ясно говорится о том, что рукоположенных служителей нужно почитать как Апостолов, ибо они есть их приемники. И хотя Апостолов Православная Церковь почитает особо, и выделяет их из среды всех остальных епископов, тем не менее, Она знает, что епископ есть полноправный приемник апостольской благодати.
Св. Игнатий Богоносец (ум. 107 г.), ученик Иоанна Богослова, в послании к ефесянам (гл. 6) писал: "И чем бо: лее кто видит епископа молчащим, тем более должен бояться его. Ибо всякого, кого посылает домовладыка для управления своим домом, нам должно принимать так же, как самого пославшего. Поэтому ясно, что и на епископа должно смотреть, как на Самого Господа". Очевидно, что если на епископа нужно смотреть как на Господа и принимать его как Того, Который послал его, то понятно, что епископ имеет больше власти и чести, нежели другие верующие, ибо господин больше тех, над кем он господствует. Важно, также, что в понимании св. Игнатия Сам Христос посылает и поставляет епископа над своей Церковью; поэтому, епископ есть господин в Церкви. Кстати сказать, епископа в церковной службе православные называют именно владыкой и господином, а себя по отношению к епископу часто именуют послушниками.
Св. Ириней Лионский (ум. 202 г.) писал: "Все (еретики) гораздо позднее епископов, коим Апостолы вверили Церкви"[Против ересей, кн. 5, гл. 20, п. 1]. В своих трудах также св. отец неоднократно называет епископское (и пресвитерское) служение преемством апостольского[Напр. кн. 3, гл. 2, п. 2; кн. 4, гл. 26, п. 2, 5]. Таким образом, со смертью Апостолов их служение отнюдь не закончилось, но свои полномочия и духовную власть, данную им Христом, они передали своим приемникам, прежде всего епископам, которые управляют Церковью властью апостольской.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) говорил: "Если кто размыслит, сколь важно то, чтобы, будучи еще человеком, обложенным плотию и кровию, присутствовать близ блаженного и бессмертного естества, то увидит ясно, какой чести удостоила священников благодать Духа. Ими совершается жертвоприношение[Имеется в виду евхаристия, которую православные именуют "бескровной жертвой"], совершаются и другие высокие служения, относящиеся к достоинству и спасению нашему. Еще живут и обращаются на земле, а поставлены распоряжаться небесным и получили власть, которой не дал Бог ни Ангелам, ни Архангелам". Очевидно, что св. И. Златоуст считал, что при рукоположении священникам передаётся особая благодать и даруется власть на совершение жертвоприношения и других "высоких служений"[Главным из высоких служений священника есть совершение богослужения. Св. Григорий Богослов (IV в.) писал об этом так: "Где и кем совершалось бы у нас таинственное и к горнему возводящее богослужение…, если бы не было священства?" ("Настольная книга священнослужителя", том 8, с. 32)], то есть священнодействий.
Далее он говорит о власти священников, большей, чем ангельской. И действительно, священник имеет власть простить грехи, передать человеку Духа Святого, причастить его Телом и Кровью Христовыми; Ангелы же таковой власти не имеют. Таким образом, в понимании св. отца священство есть великое Таинство, сообщающее принимающему его особую благодать, которой не дано другим верующим.
В другом месте он сказал подобные слова: "Великое это Таинство совершают люди, но люди, поставленные распоряжаться небесным; они получили власть, которой не дал Бог ни Ангелам, ни Архангелам… Один только священник имеет право предлагать Чашу Крови"["Настольная книга священнослужителя", том 8, сс. 32-33)]. Но так как такой власти не имеют все верующие, а только епископы и пресвитеры, то, очевидно, они находятся не в равном положении со всеми другими верующими.
Св. Григорий Нисский (IV в.) мыслил о священстве так же, как и святой Иоанн Златоуст. В одном месте он прямо утверждает, что через Петра "Христос дал епископам ключи небесных дверей"[Против тяготящихся церковными наказаниями. Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 94]. В другом же, о новорукоположенном священнике он замечает: "Быв вчера и прежде одним из простого народа, вдруг является он наставником, предстоятелем, учителем, совершателем сокровенных таинств... он преобразился в невидимой душе к лучшему невидимою некоторою силой и благодатью". Очевидно, что св. Григорий считал, что священнослужители при хиротонии получают особую благодать Св. Духа, которой не дано обычным верующим. Им даются ключи от Царствия Небесного, то есть особая власть связывать и разрешать, которой отнюдь не имеют все верующие.
Св. Амвросий Медиоланский (IV в.) писал: "Кто дает благодать епископства, Бог или человек? Без сомнения ответишь: Бог. Но Бог дает ее через человека. Человек возлагает руки, а Бог изливает благодать... епископ посвящает в сан, а Бог сообщает достоинство"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 496]. Мы видим, что св. Амвросий также считал, что при рукоположении епископа Сам Бог дарует рукополагаемому особую благодать, которой раньше тот не имел.
Св. Ефрем Сирин (IV в.) также утверждал, что при хиротонии "сама высокая и страшная Мышца, снисшедшая с неба, через возложение рук даровала нам Духа Святого[Св. Ефрем Сирин говорит здесь о том даровании Духа, которое получили Апостолы через дуновение Христа]… О, неизреченная сила, благоволившая вселиться в нас через возложение рук святых иереев! О, какой высокий сан имеет страшное и чудное священство!"[Слово о священстве]. Совершенно очевидно, что в понимании св. отца рукоположенные священнослужители получили особый дар Духа Святого, который отнюдь не имеют остальные верующие.
Поэтому, протестанты неправы, когда думают, что рукоположение имеет лишь символическое значение, и никакой особой благодати и ничего вообще не передаёт рукополагаемому, как пишет о том С. Санников: "(в древней Церкви) рукополагали его (нового епископа) другие епископы и служители, указывая этим действием на единство веры между ними, а не передавая посвящённому что-то особое, чего ему недоставало для совершения ординации"["Двадцать веков христианства", изд. Одесса, 2002 г., том 1, с. 141]. Как видим, это неправда, и в понимании ранней Церкви через рукоположение Богом подавались поставляемому "ключи" Царствия Небесного, особая "благодать", "достоинство", "Дух Святой", "неизреченная сила" и некое изменение "к лучшему". Здесь важно вспомнить также два свидетельства из посланий ап. Павла Тимофею: "Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства" (1 Тим. 4:14), а также: "По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение" (2 Тим. 1:6). Из этих слов совершенно очевидно, что при рукоположении как раз таки "передаёся посвящённому что-то особое", то есть особый Божий дар (дарование) Духа Святого. Потому рукоположение по праву считается Таинством, ибо оно, как и всякое другое Таинство, "за видимой своей стороной сообщают верующему особую невидимую и спасительную благодать Божию".
Итак, протестантский догмат о всеобщем священстве (точнее - неправильное его понимание протестантами) находится в явном противоречии с учением Христа, Апостолов и пастырей древней Церкви, которые делают ясное разделение между простыми верующими и священством, свидетельствуя о том, что последним дана Богом особая благодать для совершения священнодействий, которой не имеют остальные верующие.
Но, что более всего удивительно, протестантское отрицание разделения верных на пастырей и овец противоречит не только Библии и учению древней Церкви, но самой реальности устройства протестантских общин. Протестантизм лишь на словах отвергает особое священство в Церкви, противопоставляя ему принцип всеобщего священства; на самом же деле у протестантов, как и у православных, есть обычные верующие, которые приходят на собрания послушать и принять участие в общем пении (то есть, по сути, прихожане), а есть пресвитеры и диаконы, которые проповедуют, учат, ведут служение и, самое главное, совершают все так сказать протестантские священнодействия: 1) крестят; 2) возлагают руки с молитвой на крестившихся; 3) благословляют детей; 4) рукополагают пресвитеров и диаконов; 5) сочитывают молодожёнов; 6) молятся о покаявшихся; 7) освящают новые дома молитвы; 8) совершают хлебопреломление; 9) развозят вечерю Господню больным по домам; 10) проводят богослужение. Всё это у протестантов имеют право совершать только рукоположенные пресвитеры и диаконы[Заметим, что как в Православии, так и в протестантизме право проповедовать и учить имеют не только рукоположенные служители. В Православии есть учителя и богословы, которые, не имея сана, пишут книги и преподают в семинариях, уча даже священников. Но совершать Богослужение и священнодействия и у протестантов и у православных могут только рукоположенные служители]! Если кто-либо из простых верующих дерзнёт кого-либо крестить, рукоположить, сочетать и т.п., то это будет воспринято протестантами не иначе, как великое кощунство. Такового члена церкви исключат из членов церкви или, по меньшей мере, поставят на замечание и будут сильно и много ругать[Один мой близкий родственник рассказывал мне случай из своей практики, как однажды на одном собрании пастора долго не было, и он начал его сам, и как сильно и долго его потом за это ругали пастор и братья. Хотя это было 1) сельское, небольшое собрание, и 2) он был не простым верующим, а помощником пастора и главным проповедником, и 3) дерзнул ведь он не крестить или бракосочетать кого-то, а только лишь начать собрание молитвой! О том же, чтобы рядовой верующий совершил у протестантов хлебопреломление, сочитание или, тем более, рукоположение не может быть и речи!]. И для обличения такового бесчинника протестанты ведь откроют не новозаветные места 1 Пет. 2:9 или Откр. 1:6; 5:10; 20:6, где говорится о том, что все верующие - священники у Бога, а возьмут они ветхозаветный пример Корея, Дафана и Авирона (Числ. 16 гл.), которые, вместе со многими другими, восстали на Моисея и Аарона и стали утверждать, что они не лучше и не святее других: "И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?". Эти люди, не будучи священниками[Корей был левитом, но левиты не имели права самостоятельно священнодействовать в храме, а только помогать священникам], дерзнули ставить себя на один уровень с ними и кадить, как священники, за что Господь жестоко наказал их. Именно эту историю всегда протестанты приводят в тех случаях, когда встаёт вопрос о том, кто имеет право совершать священнодействия, говоря, что дерзать что-либо совершать без рукоположения есть великий грех. Но ведь Корей, Дафан и Авирон утверждали как раз таки протестантское понимание идеи о всеобщем священстве, что все святы, все священники, среди всех Господь! Выходит, что на практике протестанты сами себя (в лице Корея, Дафана и Авирона), свой же принцип всеобщего священства крайне осуждают. Их действительность находится в полном противоречии с их учением: на словах они говорят, что различия между верующими нет, и что все они равны по отношению ко Христу и друг ко другу, а на деле резко и самым конкретным образом разделяют верующих, вслед за православными, на служителей, имеющих право совершать священнодействия и вести богослужение, и простых верующих, такого права и власти отнюдь не имеющих. Если же протестанты скажут, что мы не разрешаем простым верующим совершать все вышеназванные действия не потому, что они не имеют на это духовной власти, а только ради того, чтобы был порядок, то это будет ложь. В сознании протестанта, в частности баптиста, дерзающий крестить или сочетать кого-либо грешит отнюдь не только тем, что поступает бесчинно: он именно святотатствует и посягает на такие священные дела, для которых нужно непременно иметь особое посвящение - рукоположение! Потому и приводят они всегда в таких случаях пример Корея и Дафана, подчёркивая не столько то, что они восстали против власти Моисея, сколько то, что они дерзнули священнодействовать, не будучи священниками.
Но почему же в протестантизме такое противоречие в учении о священстве? Всё предельно просто и очевидно: одна идея нужна протестантам для борьбы с Церковью и для оправдания своего возникновения и существования, а другая - для внутренней жизни. То есть, когда Церковь спрашивает протemестантов: "как смеют ваши пресвитеры священнодействовать, если у них нет преемственности рукоположения, если ваши основатели сами себя, самозвано, без законного рукоположения сделали пресвитерами и стали совершать священнодействия?", то они им отвечают: "нам не нужна преемственность и рукоположение ваших епископов, ибо все мы, верующие во Христа, - священники; все верующие имеют равные духовные права". Когда же внутри их общины кто-то посягает на совершение священнодействstrongий, то они уже пользуются другими аргументами, говоря, что без рукоположения и особого посвящения в пресвитеры, дерзать священнодействовать - великий грех и кощунство.
Теперь подробнее обсудим приведенные в начале главы возражения протестантов против учения Церкви об особом священстве.
1) О "царственном священстве" (1 Петр. 2:9; ср. 1 Петр. 2:5; Откр. 1:6; 5:10; 20:6).
Из того факта, что ап. Пётр (и ап. Иоанн) называет всех верующих священниками ни в коем случае не следует того, что в Церкви не может и не должно быть священников особых. 1 Петр. 2:9 есть пересказ слов Господа, сказанных Израилю во времена Ветхого Завета: "вы будете у Меня царством священников и народом святым"; "ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего" (Исх. 19:6; Втор. 7:6). То есть, весь народ Израильский был у Бога царством священников, или же, что тоже, царственным священством. Тем не менее, в Израиле были ещё и особые священники. Поэтому, между тем, что все евреи были у Господа царственным священством, и тем, что некоторые из них были ещё и священниками в особом, сугубом["Сугубый" буквально значит "двойной"] смысле, нет решительно никакого противоречия. Вот так и в Церкви нет никакого противоречия между тем, что все её члены действительно есть священники у Бога (так как все они избраны Богом от мира и посвящены Ему через, прежде всего, Крещение, и приносят Ему духовные жертвы), и тем, что в Церкви есть ещё и особые священники, тем более, что о сугубом новозаветном священстве есть прямое пророчество, которое выше мы приводили (Ис. 66:21).
Хочу подчеркнуть, что учение Библии и Церкви об особом священстве никак не устраняет учения о том, что все верные - священники у Бога. Например, православный богослов В. Экземплярский в своём основательном исследовании "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства" пишет: "…в учении Церкви мы находим не только утверждение мысли о всесвященстве христиан, но и более полное раскрытие самого понятия о духовном священстве…"[Изд. "Пролог", 2007 г., с. 50], и приводит не мало тому подтверждений из творений отцов Церкви.
Вот лишь одно из них, св. Григория Нисского, который обращается ко всем верующим: "Как можешь ты повиноваться Павлу, который убеждает тебя представить тело твоё в жертву живую, святую, благоприятную Богу, когда ты сообразуешься веку сему, а не преобразуешься обновлением ума твоего?.. Как будешь священнодействовать ты, помазанный именно для того, чтобы приносить дар Богу, и дар… поистине твой собственный, который есть внутренний человек, долженствующий быть совершенным и непорочным, по закону об Агнце, чуждом всякого повреждения и порока, - как будешь приносить сей дар Богу, когда не повинуешься закону, который воспрещает священнодействовать нечистому?.. Посему-то желаем, чтобы и ты сораспялся Христу, представил себя Богу чистым иереем и сделался чистою жертвою"[О девстве, гл. 23. Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., сс. 55-56].
О священстве всех верующих говорится и в символической книге Церкви "Православное исповедание": "Священство есть двоякое: одно духовное, а другое таинственное[От слова "таинство". Имеется в виду сугубое священство, которое имеет полномочия на совершение Таинств]. Священство духовное имеют все православные христиане…"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 60]. Но, повторю, учение о духовном священстве всех верных никак не противоречит учению об особом, иерархическом священстве.
В связи со сказанным ответим и на вопрос: можно ли называть пресвитеров Церкви священниками? (Протестанты, обычно, не называют пресвитеров священниками[Хотя, я помню, что один пастор, бывший в баптизме как бы моим духовником, называл себя священнослужителем]). Именовать епископов и пресвитеров священниками вполне справедливо по простой логике вещей. Ведь если человек проповедует, то он называется проповедником; если он преподаёт, то называется преподавателем, и т.д. Если же пресвитер священнодействует, то он может и должен называться священником. Если же протестанты считают, что у них нет никаких священнодействий (Церковь, кстати, здесь с протестантами соглашается, что у них нет никаких истинных священнодействий), то пусть и не называют своих пасторов священниками. В Церкви же есть истинные, благодатные и спасительные священнодействия, потому их совершителей Она и называет священниками.
Кроме того, если все верные называются священниками - и протестанты на этом особо настаивают - то тем более имеют право называться так рукоположенные служители Церкви, которые являются священниками в преимущественном смысле, ибо кроме общих и доступных для всех христиан жертв и священнодействий они приносят Богу бескровную Жертву, совершая и другие особые священнодействия. Наконец, пастыри Церкви имеют право называться священниками хотя бы на основании вышеприведенного пророчества Исаии (66:21).
Итак, священниками назывались все древние иудеи, но это никак не противоречило тому, что в Израиле были ещё и особые священники, одни только имевшие право на совершение Богослужения и различных священнодействий. Древняя Церковь также признавала всех верующих священниками Бога, но Она же с большой ясностью учила и об особом священстве. Так учит и современная Православная Церковь. Так понимают этот вопрос на самой практике, внутри себя, и сами протестанты, которые считают всех верующих священниками, но у которых есть и особые рукоположенные служители, одни лишь имеющие право на совершение всех их "священнодействий". Так в чём же тогда вопрос? Как тогда протестанты, приводя 1 Петр. 2:9, хотят опровергнуть существование в Церкви особого священства? Всеобщее священство никак не устраняет священства особого. Но так как протестантам больше нечем бороться с учением Церкви об особом священстве, то они и продолжают приводить этот аргумент, не понимая его бессмысленности.
2) О Первосвященстве Христа (Евр. 8:1).
То, что Христос есть Первосвященник Церкви, также никоим образом не устраняет возможность быть в Церкви другим священникам. Более того, слово "первосвященник" не только не отрицает других священников, а напротив - указует на них. Ведь если Христос есть Первосвященник, то есть первый из священников, то ясное дело, что должны быть и другие, иначе среди кого Он первый? Когда в Израиле был первосвященник, то его существование никак не устраняло других священников, а наоборот - их предполагало.
Если протестанты полагают, что факт первосвященства Христа устраняет как возможность, так и необходимость быть другим священникам, то как же они всех верующих считают священниками, уча о всеобщем священстве? Как же все протестанты могут быть священниками, если кроме Христа уже не нужны священники? Очевидно, что даже в глазах протестантов первосвященство Христа допускает быть и другим священникам.
Кроме того, священников нельзя даже в строгом смысле слова называть другими священниками по отношению ко Христу, ибо они совершают священнодействия не своей силой и властью, а властью Христовой, ведь через них священнодействует Сам Христос. В теле человека действие руки или иного члена всегда руководится его головой; иначе - наша голова (ум) действует посредством наших членов. Так и в Теле Христовом - Церкви, через её священников священнодействует Глава Церкви Христос. Поэтому, в мистическом смысле можно сказать, что у Церкви действительно только один Священник - Христос, а священники-люди есть только орудия, через которые Он священнодействует.
Этот принцип яснее всего проглядывается на литургии, когда священник от имени Христа призывает всех верных: "приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов", а также: "пейте из неё (чаши) все, сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов". Священник произносит эти слова от первого лица: другими словами - устами священника обращается к людям Сам Христос; это Сам Он призывает верных вкусить Его Тело и испить Его Кровь; Он Сам в лице священника и посредством него священнодействует. И так при всяком другом священнодействии. Когда епископ, например, рукополагает пресвитера, то, по вышеприведенным словам святого Амвросия через епископа рукополагает Сам Бог; или же, по словам св. И. Златоуста, "возлагает руку человек, а все делает Бог, и Его-то рука касается главы рукополагаемого, если рукополагается, как должно"[Беседы на Деяния Апостолов, XIV, 3] и в другом месте: "Священник - Ангел Господа. Если кто презирает его, то презирает не его, а рукоположившего его Бога"[Беседы на 2 Тим., беседа 2]. Поэтому, наличие в Церкви людей священников никак не мешает, а наоборот - полностью и гармонично содействует священству Христа, так как через священство Церкви священнодействует Сам Христос.
3) "Все же вы - братья" (Мф. 23:8).
То, что все верующие между собой братья также никоим образом не говорит о том, что все между собой должны быть равны. Сам Христос называется и является братом для всех верных, как написано: "кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат" (Мр. 3:35), а также: "кого Он предузВласть разрешать что-либо на земле так, чтобы это разрешалось и на небе, Господь дал прежде Петру.., а по Воскресении и всем апостолам, говоря: нал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями" (Рим. 8:29). Но при этом никто из нас не осмелится думать, что все истинно верующие, братья Христовы, равны с Ним. То есть, братство Христа с верными никоим образом не устраняет неравенства, но братья Христа поклоняются Ему и во всём творят волю Его. Иосиф, например, был правителем Египта, а братья его - простыми беженцами пастухами, которые смиренно поклонялись ему (см. Быт. 44:14), но такое их неравенство никак не устраняло их братства. В жизни братья часто не равны друг другу ни по положению, ни по способностям. Таким образом, тот факт, что все верные христиане через усыновление одному Отцу являются братьями друг для друга, никак не устраняет возможности одним братьям занимать более высокое и почётное положение перед другими; никак не устраняет того, что одни братья имеют власть священнодействовать, а другие не имеют.
На этом вопросе, пользуясь случаем, хочу остановиться подробнее. При первом же знакомстве с Православием протестант непременно заметит большую разницу в отношениях православных к своим пастырям. Отношения эти лучше всего можно охарактеризовать такими словами как чинность, иерархичность или же субо/strongрдинация. Протестантизм же, весь его дух, стремиться к равенству, и это стремление часто оправдывается как раз таки вышеприведенными словами Христа: "все же вы - братья". Это есть одна из причин, по которой протестанты не берут у своих пасторов благословение, не целуют им руки, не поклоняются им и не называют их отцами, священниками и не используют других, принятых в Православии обращений, таких как "Ваше преподобие", "Ваше высокопреосвященство", "Владыко", и пр. По этой же причине протестантские пасторы не носят никаких особых одежд. Так по каким принципам нужно строить отношения в Церкви - иерархии и подчинённости или равенства и братства?
Нужно здесь вспомнить, лозунг "свобода, равенство, братство" не так давно изобрели и ввели в употребление масоны, и революционеры, например, встали под этот лозунг. Именно масоны проповедуют идеи равенства, внушая людям, что равенство всех людей есть естественное и законное право человека. Масоны добились, например, равенства мужа и жены, чем извратили один из важнейших Божьих законов, ибо никакого равноправия между мужем и женой нет и быть не должно, потому что муж есть глава жены, как Христос есть глава Церкви. Как у Христа и Церкви не может быть равноправия (ибо Христос есть Господин Церкви, Которому Она беспрекословно подчиняется), так и между мужем и женой нет и не должно быть никакого равноправия, ибо брак человеческий создан по образу брака Агнца. Среди же "западных ценностей" (правильнее сказать: среди западных мерзостей) этого принципа уже нет и в помине.
В Богом же созданном мире, как в небесном, так и в земном, нет понятия равноправия; наоборот, во всех отношениях Бога, ангельства и человечества, есть иерархия, чинность. Все ангелы сотворены не равными, а по чинам. Церковь знает о 9-ти ангельских чинах, о которых упоминает Библия: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы[Об этих девяти ангельских чинах пишет, например, Дионисий Ареопагит: "Слово Божие все небесные Существа для ясности обозначает девятью именами. Наш Божественный руководитель разделяет их на три тройственные степени. Находящиеся в первой степени всегда предстоят Богу (Ис. VI, 2, 3. Иезек. I) теснее и без посредstrongства прочих с Ним соединены: ибо святейшие Престолы, многоочитые и многокрылатые чины, называемые на языке евреев Херувимами и Серафимами, по изъяснению Священного Писания, находятся в большей и непосредственнейшей пред другими близости к Богу. О сей-то тройственной степени наш славный Наставник говорит как о единой, единокупной и истинно первой Иерархии, которой нет Богоподобнее и ближе к первому озарению от первоначального Божественного света. Вторая степень содержит в себе Власти, Господства и Силы; третья и последняя в небесной Иерархии содержит чин Ангелов, Архангелов и Начал" (Дионисий, о небесной иерархии, глава VI, 2)] (см. напр. Еф. 1:21; Кол. 1:16; Ис. 6:2; Иез. 10: 3,4; Иуд. 9; Пс. 102:20), и все они не равны между собой, а меньшие чины подчиняются и управляются высшими. Понятно ведь, что Архангелы выше и почтеннее Ангелов, и что архистратиг Михаил, вождь воинства Божьего, выше тех Ангелов, которыми он руководит.
В отношениях между людьми Бог также создал иерархию: жена подчиняется мужу; дети во всём исполняют волю родителей; первенец в семье имеет право чести перед остальными братьями; старец имеет право на уважение и почтение от молодых; цари, князья, пророки и священники имеют почёт и власть над народом; учитель больше ученика, и так далее. И не правильно думать, что иерархия и неравенство появились в следствии грехопадения - вовсе нет. Иерархия есть изначальный Божий закон. В Царствии Небесном не будет греха, но иерархия останется. Ангелы и спасённые будут поклоняться Богу, но и между собой будут непременно иметь разность в чести и славе, ибо "звезда от звезды разнится в славе" (1 Кор. 15:41).
Действительно, по самой справедливости совершенно невозможно сравнять великих Божьих угодников и святых, таких как Дева Мария, ап. Иоанн и преп. Серафим Саровский с теми, о которых пишет ап. Павел: "а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня" (1 Кор. 3:15). Невозможно принесших плод Богу во сто крат сравнять с принесшими только в тридцать крат (см. Мф. 13:8); и, безусловно, те сто сорок четыре тысячи святых на небесах, поющих песнь, которой никто другой не мог научиться, находятся в более близком отношении к Богу, чем остальные (см. Откр. 14:3). Из слов Христа можно заключить также, что не все, а только избранные святые сядут с правой и левой Его стороны (см. Мф. 20:23); что одни будут в Царствии Божием большие, а другие меньшие (см. Мф. 11:11). К тому же, не всем дано одинаково: одним дано пять, другим два, а третьим - один талант (см. Мф. 25:15). Таким образом, в Божьем мире в отношениях всех сотворённых Им существ есть иерархия, чинность, неравенство и преимущество чести!
И Православная Церковь знает об этой чинности и соблюдает её. Помню, как я впервые увидел и восторженно удивился тому, как чинно выстраиваются в Соборе священники для службы. Впереди предстоит епископ, а за ним стоят священники, и не как придётся, а строго по чину: больше прослужившие становятся впереди, а меньше служившие - сзади. Таким образом младшие научаются уважению старших. Интересно, что если в одном Храме соберутся десятки и сотни незнакомых друг другу священников, то все они без сторонней помощи смогут правильно выстроиться, следуя простым правилам и принципам[Это не значит, что священники и все верующие будут и в Царствии Небесном в том же звании и положении, в котором они были на земле. Там Господь воздаст награду и честь каждому по его делам и достоинствам. Но важно то, что и в Царствии Небесном будет иерархия и преимущество чести]. И вот такое чинное поведение, а не равноправие, угодно Богу. Да и ап. Павел заповедует нам: "только всё должно быть благопристойно и чинно" (1 Кор. 14:40), и напоминает, что "любовь… не бесчинствует" (1 Кор. 13:4,5).
Масоны же, желая извратить Божий мир, заставляют людей ненавидеть иерархичность и стремиться к дьявольскому равноправию, говоря, что иерархичность (неравенство) есть уклонение от человеколюбия (гуманности) и великое зло, лишающее человека свободы и братства. На самом же деле, именно иерархичность в отношениях воспитывает в человеке любовь, уважение, смирение, кротость, послушание и прочие добродетели. Стремление же к равенству делает людей как раз такими, о которых предсказывал ап. Павел: "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся" (2 Тим. 3:1-5).
Удивительно, что практически все перечисленные Апостолом качества прекрасно формируются в людях нашего последнего времени благодаря именно идеям равенства и равноправия. Именно при равноправии жена не хочет повиноваться мужу, а дети родителям; молодые не хотят почитать пожилых; народ не желает чтить правителей; ученик не желает уважать учителя, что ведёт к духовному разврату и хаосу. Таким образом, утверждение (сначала на Западе, а теперь уже и почти во всём мире) масонского равноправия - великий источник бед нашего мира. Хотя масоны и демократия не может на деле отказаться от иерархичности, ибо этот принцип заложен Богом в само мироздание.
Везде в мире - в мирской власти, в армии, на заводе или любой иной организации существует иерархия, субординация, подчинённость: одним словом - неравенство. Да и какое может быть равенство между миллиардером и бедняком, между президентом страны и рабочим завода? Этого равенства нет и быть не может. Таким образом, лозунги о равенстве нужны масонам только для морального развращения людей, для развития в них целого букета пороков (наглости, гордости, непочтительности, напыщенности и прочего). Можно даже сказать, что если бы масоны не смогли внедрить в мире принцип этого мнимого равноправия, то они не смогли бы в дальнейшем привести к власти над миром антихриста...
Западный же протестантизм, проникнутый идеями равенства, по привитой масонами ассоциации считает его уже синонимом любви (гуманизма), свободы и братства. Поэтому протестанты и говорят, что раз во Христе мы братья, если призваны мы к свободе во Христе (см. Гал. 5:1), то значит должны быть равны между собой. (Хотя на деле никакого действительного равенства во власти между простым верующим и пастором ни в одной протестантской общине нет). Церковь же масонские козни не принимает. Она знает другое, что истинная свобода заключается в добровольном послушании Христу и Им поставленным священникам, и что духовное братство во Христе всех верующих никак не устраняет иерархичности. У матери и ребенка нет равенства; у мужа и жены (в нормальной семье) также нет равенства; у Христа и Церкви тем более нет равенства, но разве невозможна при таких отношениях самая пламенная, нежная, жертвенная, истинная, трогательная любовь? Поэтому, иерархическое неравенство (не равноправие) в Церкви священства и прихожан никак не устраняет их братства, никоим образом не мешает любви. И замечу, что такого почтения, уважения и искреннейшей любви, которую обычно проявляют к своим священнослужителям православные прихожане (что я лично, как православный священник, испытал и на себе) у протестантов при их "всеобщем священстве" равноправии и близко нет. Напротив, очень часто у протестантов имеют место вспышки бунта, насмешек, непочтительного отношения и злой критики пресвитеров и старших братьев.
Заметим также, что именно равноправие и "всеобщее священство" постоянно приводит протестантизм к бесконечным расколам и разделениям, так что различных течений и деноминаций в протестантизме существует уже тысячи (!). Уже выйдя из среды баптистов и мало с ним сообщаясь, я постоянно слышу о новых расколах в его среде. Вот одна группа общин вышла из союза ЕХБ; вот избрали в Донецкой области нового старшего пресвитера, а старый пресвитер не захотел подчиняться этому решению и отдавать свою власть и учинил раскол, оставшись старшим пресвитером над верными ему несколькими общинами; вот бывший мой сокурсник по ДХУ сообщает, что их община в Запорожье раскалывается, и все бегут кто куда - это происходит всё время, и будет происходить. Об этих постоянных расколах в их среде знают все протестанты. Но всё это случается очень закономерно, и вытекает из протестантской догматики: если все мы уже спасены; если прекращая общение со старшим пресвитером и руководством, например, баптистов я всё равно остаюсь в Церкви Христовой, то для чего мне терпеть то, что мне не нравится? Можно создать свою церковь, найти своих последователей, и жить так, как мне удобнее.
Итак, в построении отношений с начальством протестанты в полном смысле есть дети своего времени. В Церкви и в обществе в целом всегда, во все времена, существовал один образ взаимоотношений людей, который можно назвать иерархичным, чинным. Люди кланялись царям и князьям; почитали родителей и очень ценили их волю и благословение. На Руси, например, всегда вставали, снимали шляпу и кланялись, когда проходил священник или учитель, и т.д. Когда же сначала во Франции, а потом и в других странах, в том числе и в России, победили масонские революции, то они заменили вот такое почтительное мировоззрение идеями равенства и братства. В итоге, цари исчезли (или остались для декорации), а президенты стран уже не одеваются в особые царские одежды; им перестали кланяться и обращаться к ним "Ваше величество"; свобода слова позволила всячески хулить и высмеивать власть, и этим духом заражены большинство журналистов, особенно западных. Родителей лишили всякой власти над детьми и права на уважение и почтение с их стороны. Сейчас на Западе ребёнок за один шлепок, полученный от родителей, может подать на них в суд, а за то, что родители поругали ребёнка за плохие оценки, его могут забрать из семьи. Если раньше отец, глава семьи был в почёте, ему подражали, у него учились, то теперь американец больше всего боится "стать похожим на своего отца" - и т.д. В итоге, лживые и бесовские, масонские идеи демократии, прав человека, равенства и братства привели мир, особенно западный, к полнейшему духовному разврату. Протестантизм /strongже старается не отставать за этим духом времени. Их пасторы, вслед за демократическими правителями, тоже не одеваются в особые одежды; протестанты перестали им кланяться и должным образом их почитать; перестали почтительно к ним обращаться; они стали позволять себе критиковать их, когда им захочется, и т.д.
Таким образом, протестантам только кажется, что их отношение к пасторам основано на Библии. На самом деле, всё их мировоззрение в этом отношении пронизано демократией, духом времени, масонскими идеями свободы, равенства и братства. Они находятся в этом духе и дышат им полной грудью; они впитывают такое отношение к власти, начальству и пасторам с молоком матери; они встречают это отношение везде в нашем мире, а потому, уже даже не ощущают и не осознают его неестественности и богопротивности. Сквозь этот дух времени, как сквозь некие очки, протестанты читают Библию, а потому и не замечают того, что в ней нет никакого равенства и демократии.
Когда же я оказался в Церкви и увидел совсем иное отношение к церковной власти, то стал постепенно осознавать, что именно такое - глубоко почтительное, уважительное, послушливое, иерархичное, чинное отношение к священноначалию есть истинно библейское и исконно христианское. В Св. Писании есть положительные заповеди почитать пресвитеров, например: "Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь" (1 Тим. 5:17). В древнейших церковных трудах, выдержки из которых мы выше приводили, мы также находим заповеди почитать священство как Господа. Именно так всегда жила и живёт Церковь; именно так она всегда относилась к своим пастырям, а не так, как протестанты, ибо кто из них смотрит на пресвитеров как на Господа, и почитает их как пророков и Апостолов? Но осознать это можно, наверное, только в сравнении. Пока мы не ощутим на себе этот церковный дух иерархичности и чинности, пока не вкусим его сладости и спасительности, нам трудно будет согласиться со всем вышесказанным. Да и по своей гордости и напыщенности многие протестанты никогда не согласятся на то, чтобы оказывать какую-то особую честь пресвитерам, как западный мир уже никогда не согласится кланяться властям и свято чтить волю родителей…
Заметим, что всё вышесказанное не говорит о том, что священники имеют право деспотически господствовать над стадом Христовым. От такого отношения к своим подчинённым ап. Пётр, призывая пастырей не господствовать над наследием Божиим, но подавать пример стаду (1 Пет. 5:3). Подобные поучения мы можем найти, конечно же, и у отцов Церкви.
Григорий Двоеслов, например, писал об этом вопросе так: "Все, имеющие власть, прежде всего должны обращать внимание не на власть над подчинёнными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения…"["Настольная книга священнослужителя", том 8, с. 41]. Но эти и подобные наставления вовсе не устраняют иерархии в Церкви, а только увещевают начальников не злоупотреблять своей властью, а использовать её во благо своим подчинённым. Ведь если Христос добровольно "уничижил Себя Самого, приняв образ раба" (см. Фил. 1:7) и как слуга мыл ноги Своим ученикам, то это вовсе не значит, что Он на самом деле есть наш раб и слуга, Которым мы можем повелевать. Если ап. Пётр призывает пастырей не господствовать над овцами, то это не значит, что последние не должны подчиняться первым. Если святой Григорий пишет о том, чтобы имеющие власть помнили о равенстве своего происхождения с подчинёнными, то это вовсе не значит, что подчинённые во всём равны с начальником; ведь если все равны, то для чего вообще называть одних "имеющими власть", а других подчинёнными? К тому же другой св. Григорий (Богослов) говорил, о священстве, что это есть с одной стороны высшее служение, а с другой - высшая честь[См.: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 141]. То есть, общая картина такова: в Церкви есть Богом поставленные пастыри и начальники, которым "словесные овцы"[Так называются верующие в Православии] и подчинённые должны оказывать всяческое послушание и почитать их как Господа, Апостолов и пророков; сами же начальствующие не должны злоупотреблять своей властью и пользоваться ею для угождения своих страстей, но служить вверенным его заботе, памятуя не столько о своей власти, сколько о достоинстве своих подчинённых, которые, как и они сами, сотворены по образу Божию и имеют Духа Святого. Если обе группы людей будут так поступать, то между ними будет царить истинная любовь и гармония. Таким образом, пример Христа и заповеди, данные начальствующим в Церкви быть слугами своим подчинённым, никак не устраняют разделения верующих на пастырей и овец и необходимость последних глубоко чтить первых и подчиняться им.
Здесь закономерно и важно также ответить на вопрос: если иерархичность, чинность (подчинённость) и не равенство в Церкви есть Божественное устроение, то для чего Бог создал мир именно таким образом? Один из важнейших смыслов такого устроения мира заключается в том, что человек должен научиться почитать Бога, благоговеть пред Ним и быть Ему полностью послушным. Но человеку в теле трудно научиться почитать Бога, Которого он не видит. Потому Христос так настаивал на том, что отношение к Нему человек может выразить прежде всего через отношенизвезда от звезды разнится в славее к ближнему: "Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне" (Мф. 25:34-40). Ап. Иоанн также очень ясно и многократно в своём послании проводит мысль о том, что любить Бога можно только любя ближнего: "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин. 4:20). Вот точно так же обстоят дела не только с любовью, но и со многими другими христианскими качествами. И с такой же справедливостью можно сказать, что "кто говорит, что чтит Бога и исполняет Его волю, а пастырей, Им поставленных, не почитает и не слушает, тот лжец: ибо не чтущий пастыря, которого видит, как может чтить Бога, Которого не видит?".
Нужно полагать, что это есть онтологическая причина того, почему Бог создал мир иерархичным. Бог велик, Он имеет славу и честь, и человек должен кто говорит, что чтит Бога и исполняет Его волю, а пастырей, Им поставленных, не почитает и не слушает, тот лжец: ибо не чтущий пастыря, которого видит, как может чтить Бога, Которого не видит?научиться почитать Бога, поклоняться и покоряться Его воле. Вот поэтому Бог и установил в Церкви иерархию, подчинив ей верных, чтобы они через послушание, подчинение и благоговение к ней деятельно научились почитать Самого Бога. Потому св. Игнатий и другие святые так настаивают на том, что почитать священника и особенно епископа нужно как Самого Христа! И всякое таковое почтение Христос принимает не иначе, как почтение Самому Себе!
Можно указать и на другую, не менее важную, причину существования в Церкви священноначалия - необходимость всем верующим возрастать в своей духовной жизни. В Церкви есть младенцы, а есть духовно зрелые люди; есть менее, а есть более одарённые и посвященные, и т.д. Поэтому, для успешного возрастания Церкви необходимо, чтобы духовно зрелые руководили младшими. То есть, Церкви нужны особо посвященные люди для духовного руководства Божьими народом, для совершения Богослужений и Таинств, для проповеди учения Церкви.
Св. Григорий Богослов писал об этом так: "как в теле иное начальствует и как бы предстательствует, а иное состоит под начальством и управлением, так и в Церкви (по закону ли справедливости, воздающей по достоинству, или по закону Промысла, всё связующего) Бог постановил, чтобы те, для кого сие полезнее, словом и делом направлялись к своему долгу, оставались пасомыми и подначальными; а другие, стоящие выше прочих по добродетели и близости к Богу, были пастырями и учителями к совершению Церкви и имели к другим такое же отношение, какое душа к телу и ум к душе, дабы то и другое…, будучи, подобно телесным членам, соединено… в один состав, совокуплено и связано союз/supом Духа, представляло одно тело, совершенное и истинно достойное нашей Гл[От слова авы - Самого Христа"[Слово 3-е о священстве. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 69].
Таким образом, разделение верующих на священство и мирян, нstrongа пастырей и овец есть воля Христа, есть учение Библии, и священство всех верующих, равно как и первосвященство Христа, никоим образом не устраняет особого священства в Церкви. Такое неравенство и неравноправие само по себе ник Св. Григорий Богослов писал об этом так: ак не унижает верующих, как неравенство родителей и детей, мужа и жены, Христа и Церкви никого не унижает: наоборот, именно иерархичность (неравенство в чине и чести) наилучшим образом воспитывает в христианине все лучшие качества и приводит его к истинным любви, уважению, почтению, братству и прочим добродетелям.
Теперь очень не маловажно будет сказать о действительной причине, по которой протестантизм так, казалось бы, безумно, противореча ясному учению Библии, устройству древней Церкви, да и устройству своих собственных церквей, отвергает особое священство. А причина эта типичная для многих протестантских догматов, на что мы неоднократно уже обращали внимание, и здесь, в виду её важности, повторим ещё раз. Многие самые важные догматы протестантизма сформировались отнюдь не в результате спокойного и бесстрастного изучения Св. Писания, как хотелось бы думать протестантам, а только как протест (от того и название "протестанты") против католических злоупотреблений. И в учении о сугубом священстве католики впали во многие большие крайности.
1) Католики изобрели нечестивый догмат о непогрешимости папы римского.
2) В своём учение о том, что папа есть наместник Христа на земле, католики также перешли многие разумные грани.
3) В появлении и деятельности инквизиции сказалась ещё одна крайность католицизма в отношении священства, которое посчитало, что его власть наказывать грешников простирается настолько далеко, что оно имеет право физически наказывать, вплоть до смерти, еретиков и грешников. На самом же деле, власти бить и убивать Христос не дал священству, как говорится о том в 27-м Апостольском Правиле: "Повелеваем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных согрешающих, или неверных обидевших, и через сие устрашати хотящего, извергати от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив того, Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал (1 Пет. 2, 23)".
4) Индульгенции, прощение грехов за деньги, также было большим извращением священнической власти отпускать грехи. И М. Лютер больше всего выступал именно против индульгенций.
5) Католическое духовенство во времена Реформации стало крайне властным и неприступным кланом, который очень злоупотреблял своею властью[Можно вспомнить хотя бы того короля, которого заставили 3 дня стоять босым на холоде, прежде чем его впустили на приём к папе для покаяния]. М. Лютер писал об этом так: "земля наполнилась священниками, кардиналами, епископами, которые отдалились от народа, как небо от земли, и заслонили Христа своим нечестивым станом"[Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 152]. И в этих словах было много правды.
Все эти злоупотребления католического священства своей властью и обусловили путь протестантизма. Борясь с этими злоупотреблениями и создавая богословские аргументы для их опровержения протестанты настолько увлеклись, что отказались не только от них, но и от самого библейского истинного учения об особом священстве (выплеснув, как говорится, с водой и ребёнка), несмотря на то, что в Новом Завете и учении древней Церкви очень ясно, как мы видели, верующие разделяются на пастырей и овец, на начальствующих и подчинённых, на священство всеобщее (духовное) и сугубое (иерархическое). Поэтому, исторические причины, по которым протестанты так ратуют против особого священства, понять можно, как можно понять человека, который, едва не утонув, боится теперь вообще заходить в воду (или однажды сильно обжегшись, боится теперь и подходить к огню).
Понять и посочувствовать протестантам можно, как и этому человеку, но нельзя признать их позицию верной. Ибо одно дело, когда человек, испуганный водою, боится её - его можно успокоить, и время этот недуг может вылечить. Другое же дело, когда человек этот станет всем запрещать подходить к воде, говоря, что вода сама по себе зло. Так вот диавол, сыграв на злоупотреблении католиков, внушает теперь протестантам проповедовать против особого священства, и отвергать не только его злоупотребления, а и само апостольское устройство Церкви. Таким образом, протестанты, борясь с крайностями католиков, впали в противоположные крайности. Православие же если и не свободно совсем от частных злоупотреблений некоторыми своей священнической властью, то в общем оно в этом вопросе, как и во многих других, сохраняет золотую середину.
II. О трёхчинности священства
В Церкви из начала существует три чина священства - епископский, пресвитерский и диаконский.
Епископы (архиереи, архипастыри, первосвященники) находятся в апостольском сане и являются в полном смысле преемниками Апостолов, имеющими высшую власть в Церкви и право совершать все церковные только всё должно быть благопристойно и Таинства и службы.
Пресвитеры (иереи, священники, пастыри) призваны помогать епископам. Они, по благословению своего епископа, также имеют право совершать все службы и таинства, кроме Таинства хиротонии[Кроме хиротонии священники также не имеют права и власти ос/supвящать миро и антиминс] (рукоположения).
Диаконы не имеют права совершать службы и Таинства, а призваны только помогать епископам и священникам в их совершении.
Протестанты же отвергают такое устройство церковной иерархии. Во-первых, большинство протестантов полностью отождествляют епископа с пресвитером, и доказывают, что это два названия одного и того же сана и должности. Так, У. Баркли в толковании на 1 Тим. 3:1-7 утверждает, что "в раннехристианской Церкви пресвитеры и епископы были одни и те же люди", а также: "Одно слово (пресвитер) характеризует человека, другое (епископ) - возложенную на него задачу". Ему вторит и С. Санников, утверждая то же самое: "епископы и пресвитеры занимали равное положение"; и в другом месте: "Возможно, его (Климента) действительно рукоположил Апостол Пётр на пресвитерство или епископство, что в то время было равнозначно…"["Двадцать веков христианства", изд. Одесса, 2002 г., том. 1, с. 138, 177]. Таким образом, у большинства протестантов нет епископов, и все их "священнодействия", в том числе и рукоположение, совершают пресвитеры. Во-вторых, диаконы, например у баптистов, при надобности, также самостоятельно совершает многие священнодействия, хотя Церковь никогда не знала такой практики.
Итак, нам нужно ответить на такие вопросы: какое устройство Церкви действительно библейское? Сколько чинов, два или три, было в древней Церкви? Является ли епископ и пресвитер одним и тем же чином, и кто имеет право совершать рукоположение новых пресвитеров и диаконов?
Начнём с Библии. В Новом Завете мы встречаем все три слова - епископ (Фил. 1:1; 1 Тим. 1:2), пресвитер (Деян. 15:6, 22, 23) и диакон (Фил. 1:1; 1 Тим. 3:12). В чём действительно правы протестанты, так это в том, что слова епископ и пресвитер в Новом Завете используются взаимозаменяемо, но это вовсе не значит, что в апостольской Церкви было 2, а не 3 чина. Всё дело в том, что все три слова, епископ, пресвитер и диакон, в нашем языке имеют только специфическое церковное значение, но в греческом, откуда они были взяты, эти слова, кроме церковного, имели своё обычное употребление.
Слово (епископос) значит: надзиратель, попечитель. Этим словом называли всякого надзирателя, не только церковного. Таким образом, в определённом смысле епископом может быть назван и пресвитер, так как он призван надзирать, опекать и руководить своей паствой, и диакон, который также в свою меру призван надзирать за порядком в церкви. И в Тит. 1:5-7 мы видим пример того, как ап. Павел называет пресвитеров епископами. В 5-м стихе он говорит: "Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров", а в 7-м стихе он этих пресвитеров называет епископами: "Ибо епископ должemен быть непорочен…".
Слово (пресвитерос) значит: старейший (по возрасту и положению); старейшина; старик. Поэтому, и епископ и диакон могут быть названы пресвитерами, если они достигли старости. Апостолы Иоанн и Павел, например, называют себя старцами, по-гречески - пресвитерами (2 Ин. 1:1; 3 Ин. 1:1; Фил. 1:9). И называют они себя так, конечно же, не в церковном смысле, как принадлежащих ко второй степени священства, а в собственном, общем смысле. Старцами, например, называют сейчас в Православии не только пресвитеров, но и пожилых епископов, диаконов и простых монахов, достигших старости и, главное, духовной зрелости.
Слово (диаконос) значит: слуга, служитель. Апостолы, например, называют себя диаконами: "Он дал нам способность быть служителями (диаконами) Нового Завета" (2 Кор. 3:6). Диаконами, то есть служителями или же священнослужителями Церкви, и сейчас называют православные все три степени священства, которые в действительности ими являются. Служителями, кстати, обычно называют своих пресвитеров и диаконов и протестанты.
Таким образом, в Новом Завете мы не встречаем устоявшейся терминологии при обозначении степеней священства, и видим, что часто слова епископ, пресвитер и диакон используются широко (в своём собственном значении) и взаимозаменяемо, то есть, применительно к разным степеням священства. На данную особенность употребления этих трёх слов в Евангелии обращал внимание ещё св. Иоанн Златоуст, который писал, что в древней Церкви: "пресвитеры назывались епископами и диаконами Христовыми и епископы пресвитерами… а впоследствии каждому присвоено особое имя"["Настольная книга священнослужителя", том 8, с. 28]. Митрополит Макарий также указывает на данную особенность использования терминов епископ, пресвитер и диакон в Новом Завете: "несомненно, что названия пресвитера и епископа, сообразно с буквальным значением этих слов, Апостолы естественно могли употреблять, и, действительно употребляли иногда безразлично, усвояя по временам то и другое как епископам, так и пресвитерам и даже самим себе"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 217-218]. Таким образом, нужно понимать, что если ап. Павел называет себя диаконом (служителем) и пресвитером (старцем), то это не значит, что во время написания этих слов он был диаконом или пресвитером в церковном современном смысле этого слова.
Поэтому, учитывая это обстоятельство, при исследовании по Новому Завету вопроса о степенях священства мы должны обращать внимание не столько на слово, которым названы служители Церкви, сколько на их положение, служение и власть. И тогда мы увидим, что Тимофей и Тит были не пресвитерами (в современном смысле слова), а епископами; то есть, они стояли на третьей степени священства. Так, Титу ап. Павел пишет: "Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал" (Тит. 1:5). Также и Тимофею ап. Павел позволяет рукополагать пресвитеров: "Рук ни на кого не возлагай поспешно" (1 Тим. 5:22). Значит, Тимофей и Тит были больше пресвитеров, которых они имели право поставлять и рукополагать. Кроме того, Тимофею ап. Павел заповедует принимать обвинения на пресвитеров и обличать виновных: "Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели" (1 Тим. 5:19,20). Раз Тимофей имел власть поставлять пресвитеров и решать дела пресвитеров, принимать на них обвинения, судить и обличать их, то значит, он был больше пресвитеров, и был их епископом.
Другое важное обстоятельство заключается в том, что и Тит и Тимофей одни, самолично могли поставлять и рукополагать пресвитеров. Сам же Тимофей был рукоположен не одним епископом, а несколькими, как свидетельствует о том ап. Павел: "Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства[В оригинале не священства, а буквально "пресвитерства", под которыми нужно, конечно же, подразумевать епископов в современном смысле слова, то есть представителей третьей степени священства, ибо из ранней и поздней истории Церкви мы ничего не знаем о рукоположении, совершаемом пресвитерами. Здесь мы очередной раз видим то, как взаимозаменяемо использовались в Новом Завете слова епископ и пресвитер: пресвитеры назывались надзирателями (епископами), а епископы - пресвитерами (старцами), если были в возрасте]" (1 Тим. 4:14). В другом месте ап. Павел также напоминает Тимофею о дне его хиротонии: "По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение" (2 Тим. 1:6). Из сопоставления этих двух мест ясно, что ап. Павел не сам, а с несколькими епископами рукополагал Тимофея, и, очевидно, возглавлял хиротонию.
Эта картина отлично согласуется с учением и практикой Православной Церкви, где епископ сам рукополагает пресвитеров и диаконов, а епископа рукополагает не один, а два или более епископов. И у этого закона есть ясное библейское, богословское и логическое основание, которое наилучшим образом было выражено ап. Павлом: "Без всякого же прекословия меньший благословляется большим" (Евр. 7:7). То есть, епископ больше по чину и благодати, чем пресвитер и диакон, и потому он может их рукоположить сам, одной своей властью. Но епископ не больше другого епископа, а по священнической благодати равен ему и сам не может рукоположить равного себе. Потому, епископа рукополагают минимум два епископа, которые вместе больше одного епископа. И как большие (в своём соборе) они передают благословение и благодать епископства меньшему.
Итак, мы видим, что православное учение о трёхчинном священстве не только не противоречит Евангелию, но и вполне согласуется с ним, хотя Новый Завет предоставляет нам слишком скудную информацию для доподлинного изучения этого вопроса. И вот поэтому именно в подобных случаях очень полезно обращаться к свидетельству веры и практики древней Церкви, которая была устроена Апостолами и свято хранила их заповеди. Есть ли древние свидетельства, могущие пролить свет на вопросы о количестве степеней священства и роли и правах каждой их них? Есть, и, слава Богу, достаточное количество.
В "Апостольских Правилах" мы находим такие повеления: "Епископа да поставляют два или три епископа" (правило 1); "Пресвитера и диакона и прочих притчетников да поставляет один епископ" (правило 2). Мы видим здесь, во-первых, ясное разделение трёх степеней священства; во-вторых, прямое подтверждение православной практики рукоположения: епископа поставляют несколько епископов; пресвитеров и диаконов - один епископ, а сами пресвитеры и диаконы никого не поставляют даже "прочих притчетников"[Имеются в виду псаломщики, певцы, чтецы, пономари и прочие, которые служат при храме, но не являются священнослужителями]. Этих правил Церковь придерживается из начала и до сего дня. Св. Иоанн Златоуст, например, словами "одним правом рукоположения возвышаются епископы, и только этим, кажется, преимуществуют пред пресвитерами"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 499] вполне ясно показал, что считает рукоположение делом исключительно епископским, а не пресвитерским, и что именно этим епископ существенно отличается от пресвитера. Протестанты же не хотят этого признавать. Митрополит Макарий, выдающийся богослов и прекрасный знаток церковной истории, замечает, что священникам "по свидетельству истории, особенно первое из вышеупомянутых прав ("власть рукополагать других пресвитеров") никогда не принадлежало"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 218].
В других апостольских правилах также ясно видны: во-первых, трёхчинность церковной иерархии; во-вторых, ясное различие епископа от пресвитера. Вот тому примеры.
Правило 15 гласит: "если кто пресвитер, или диакон, или вообще находящийся в списке клира, оставив свой предел, в другой отойдёт, и совсем переместившись, в другом жить станет без воли епископа своего: таковому повелеваем не служить больше, и наипаче, если своего епископа, призывающего его к возвращению, не послушает".
Правило 31: "если некоторый пресвитер, презрев собственного епископа, будет отдельно собирать собрания, и олтарь иной соорудит, не обличив судом епископа ни в чём противном благочестию и правде: да будет извержен, яко любоначальный".
Правило 39: "пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают: ибо ему вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их". Из этих трёх правил явствует, что в древней Церкви епископ и пресвитер были разные должности, и что первый имел власть над вторым.
В "Апостольских постановлениях" (книга 2, 1) сказано также: "Относительно епископов мы (Апостолы) так слышали от Господа нашего. Кто поставляется в пастыря-епископа в Церкви какой-либо области, тот должен быть незазорен, безукоризнен, чужд всякой несправедливости человеческой, не моложе пятидесяти лет…". Опять мы видим подтверждение позиции православной. Во-первых, упоминается пастырь-епископ, как противопоставление, очевидно, пастырю-пресвитеру. Во-вторых, говорится о епископе целой области, в которой может быть не одна церковь и не один пресвитер, над которыми он будет иметь власть. В-третьих, говорится о том, что во епископа должен быть избираем человек не моложе 50-ти лет. Мы же знаем, что по апостольским правилам пресвитеру можно рукополагаться с 30-ти лет[Данные правила (о возрасте пресвитеров и епископов) допускают, конечно же, исключения, и в истории Церкви было не мало случаев, когда епископами становились люди моложе 50-ти лет. Не все эти случаи нужно считать непроститель/supным нарушением церковных правил, ибо сами же правила позволяют иногда делать исключения их них. Также нужно заметить, что правила и требования к священству есть безусловные, не допускающие никаких исключений (например, что священник должен быть православным, крещённым и мужчиной), а есть правила, допускающие по каким-то веским причинам исключения (например, о возрасте священнослужителя, о том, чтобы он не был из новообращённых, и о его достаточной образованности)]. Таким образом, совершенно очевидно, что епископ и пресвитер - это разные чины, для поставления в которые есть даже разные возрастные указания, и причины тому очевидны: епископу предстоит управлять целой областью, в том числе и пресвитерами, а потому от него требуется большая зрелость и опытность, чем от последнего, которому вверяется не область, а один приход.
К вопросу о числе церковных чинов и их взаимоотношении самые, пожалуй, ценные сведения предоставляет нам святой епископ Игнатий Богоносец - ученик и современник самого Иоанна Богослова и один из древнейших мучеников Церкви: он был убит в 107 г., окончив жизнь всего лишь на два года позже своего наставника, ап. Иоанна. Во время своего последнего пути к месту казни за веру Христову святой страдалец писал свои последние послания к различным церквам и лицам. Так вот, в его послании к ефесянам мы встречаем такие слова: "…чтобы повинуясь епископу и пресвитеру, вы были освящены во всём", а также: "посему и вам надлежит согласоваться с мыслию епископа, что вы и делаете. И ваше знаменитое достойное Бога, пресвитерство так согласно с епископом, как струны в цитре" (глава II, IV). К магнезийцам он писал похожие наставления: "ничего не делайте без епископа и пресвитеров" (глава VII), а также: "И вам надобно не пренебрегать возрастом епископа, а, по силе Бога Отца, оказывать ему всякое уважение, как я заметил во святых пресвитерах ваших, что они не смотрят на видимую молодость его, а как богомудрые, повинуются ему, впрочем, не ему, но Отцу Иисуса Христа, епископу всех" (глава 3). В 6-й главе он писал также: "Да не будет между вами ничего, что могло бы разделить вас; но будьте в единении с епископом и предсидящими, во образ и учение нетления". Эти слова совершенно недвусмысленно свидетельствуют о том, что епископ и пресвитер были в древней Церкви не одна и та же должность и чин, и что пресвитеры подчинялись епископу. И как же можно эти свидетельства св. Игнатия согласовать с утверждениями протестантов, что пресвитеры и епископы это одно и тоже? что епископ это должность, а пресвитер - само лицо? Никак!
В других местах того же послания к магнезийцам св. Игнатий ещё более чётко проводит разность не только между пресвитерами и епископами, но и между всеми тремя степенями священства. Так, во 2-й главе он пишет: "Я удостоился видеть вас в лице богодостойного епископа вашего Дамаса, и достойных пресвитеров Васса и Апполония, и сотрудника моего, диакона Сотиона, которого я желал бы иметь при себе, потому что он повинуется епископу, как благодати Божией, и пресвитерству, как закону Иисуса Христа". В 6-й главе он вновь упоминает все три степени священства и делает совершенно ясное между ними различие: "поелику в вышеупомянутых лицах я узрел все ваше общество в вере и любви, то убеждаю вас, старайтесь делать всё в единомыслии Божием, так как епископ председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, и диаконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа…". В конце своего послания, в 13-й главе, святой страдалец ещё раз говорит о всех трёх священных чинах: "Итак, старайтесь утвердиться в учении Господа и Апостолов, чтобы во всем, что делаете, благоуспевать плотию и духом, верою и любовию, в Сыне и Отце и в Духе, в начале и в конце, с достойнейшим епископом вашим, и с прекрасно сплетенным венцом пресвитерства вашего, и в Боге диаконами".
Своё же послание к феладельфийцам святой Игнатий начинает так: "Игнатий… Церкви Бога Отца и Господа Иисуса Христа, находящейся в Филадельфии Азийской… Приветствую ее кровию Иисуса Христа, которая есть вечная и непрестающая радость для верующих, особенно если они находятся в единении с епископом и его[Заметим, что слово "его" ясно указывает на подчинённость и в некотором смысле принадлежность пресвитеров и диаконов епископу] пресвитерами и диаконами, поставленными изволением Иисуса Христа, которых по благоволению Своему Он утвердил непоколебимо Святым Духом Своим". Далее, в 4-й главе, он вновь упоминает священноначалие Церкви: "Итак, старайтесь иметь одну евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерством и диаконами, сослужителями моими, дабы все, что делаете, делали вы о Боге". В главе 7-й он опять вспоминает все три священные степени, делая между ними ясное различие: "Находясь между вами, я громко возвещал, сильным голосом говорил: "внимайте епископу, пресвитерству и диаконам"". В конце же послания, в 10-й главе, он вновь говорит об этих трёх чинах с различием: "ближайшия Церкви уже послали епископов и некоторые пресвитеров и диаконов".
В послании к Поликарпу, в 6-й главе, св. Игнатий тоже упоминает все три степени священства: "Внимайте епископу, дабы и Бог внимал вам. Я - жертва за тех, которые повинуются епископу, пресвитерам и диаконам". Заметим и тот важный факт, что во всех посланиях св. Игнатий неоднократно упоминает о епископе в единственном, а о пресвитерах и диаконах во множественном числе, что вполне согласуется с тем, что епископов в Церкви намного меньше, чем пресвитеров, и что один епископ поставлен в своей области (епархии) над многими пресвитерами. То есть, и сейчас верующие одного города (и часто даже одного прихода) имеют несколько пресвитеров и диаконов, но только одного епископа.
Впрочем, образованные и объективно мыслящие протестанты не спорят с тем, что св. Игнатий разделяет священство на три степени. Так, Эрл Е. Кернс в своей книге "Дорогами христианс гласит: тва" пишет о св. Игнатии так: "Этот апостольский ученик большое значение придаёт подчинённости епископу… Он первым описал разницу в положении епископа и пресвитера и первым сказал о подчинении пресвитеров или старейшин старшему епископу и о подчинении им всех остальных членов церкви. Иерархия руководства церковью в соответствии с его посланиями следующая: епископ, пресвитер, диакон… Игнатий верил, что без этой тройственной иерархии не может быть церкви"[Изд. "Протестант", Москва, 1992 г., с. 55].
Итак, из свидетельств св. Игнатия мы можем сделать ясный вывод, что в древнейшей Церкви самими Апостолами было установлено три, а не два священных чина. Ведь учит св. Игнатий о трёх степенях священства только потому, что был наставлен в этом самим Иоанном Богословом и другими Апостолами - вот что наиболее важно! Или протестанты станут утверждать, что Апостолы установили в Церкви два священных чина, как у них, а св. Игнатий после смерти ап. Иоанна за последние два года своей жизни вдруг самовольно изменил всё церковное устройство с двух на трёх чинное? Такое допущение было бы безумием, потому как в посланиях св. Игнатий нет и намёка на то, что он хочет изменить двух чинную церковную иерархию на трёх чинную. Из его слов понятно, что все церкви изначально уже так устроены, и устроены, естественно, Апостолами и при Апостолах. Он лишь призывает подчиняться этой трёх чинной церковной иерархии, почитать её и ничего без неё не делать. Кроме того, св. Игнатий и не мог бы этого сделать, поскольку не обладал властью во всей Церкви. Но главное, что он бы никогда такого не посмел бы сделать нравственно, так как он свято хранил верность апостольскому учению, что всей своей жизнью и мученической кончиной он вполне доказал. О верности мужей апостольских своим наставникам свидетельствовал, например, Тертуллиан, который писал так: "Ведь как Апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не провозглашали ничего противного Апостолам, - ибо те, которые научились от Апостолов, не могли проповедовать иначе"["О прескрипции [против] еретиков", гл. 32].
Для ещё большего подтверждения того, что в Церкви всегда с самого апостольского века было три, как в Православии, а не два, как у большинства протестантов, священных чина, познакомимся и с другими древними свидетельствами.
Климент Римский, современник и ставленник Апостолов Петра и Павла (ум. около 99-101 г.) переносит имена чинов ветхозаветной иерархии на новозаветную, говоря: "первосвященнику (т.е. епископу) своё дано служение, священникам (т.е. пресвитерам) своё назначено место, и на левитов (т.е. диаконов) свои возложены должности" (1 Кор. гл. 40).
Здесь хочу прерваться и предложить моему читателю обсудить и оценить одну цитату из П. Рогозина, который пишет так: "Апостольские ученики… Климент, Поликарп, Игнатий и Варнава, несмотря на те высокие преимущества, какими они пользовались, как "ученики апостолов", очень скоро уклонились от доверенного им учения… совершенно забыли о назначении и функциях Духа Святого в церкви и низвели церковь Христову, как Тело (организм), на положение человеческого общества (организации)"["Откуда всё это появилось?", глава "Священство"]. Не обращая много внимания на постоянные противоречия в книге П. Рогозина (ведь в другом месте своей книги он утверждает совершенно другое, что "вплоть до пятого века церковь христианская была еще сильна верой и истиной"), напомню моему читателю, что все мужи, о которых упоминает П. Рогозин, 1) закончили свою жизнь мученичеством за Христа; 2) не просто видели и слышали Апостолов, но были ими поставлены епископами целых областей.
То есть, Апостолы не просто учили их, но избрали их и нашли их достойными того, чтобы вверить им церкви. Но, несмотря на это, они, по словам П. Рогозина, "очень скоро уклонились от доверенного им учения… совершенно забыли о назначении и функциях Духа Святого в церкви и низвели церковь Христову, как Тело (организм), на положение человеческого общества (организации)". П. Рогозин и его единомышленники баптисты и прочие протестанты не осознают, какую хулу и глупость они говорят. Ведь это значит, что все избранники Апостолов оказались неверными, Иудами. Это значит, также, что Апостолы не имели должного водительства Духа Святого, раз не могли найти себе верных последователей и преемников, или, что достойных учеников вообще не было в среде древней Церкви, а все оказались неверными, коль очень скоро они исказили учение Апостолов, совершенно забыли о функциях Духа Святого и превратили Тело Христово в организацию. Но что более всего интересно, что П. Рогозин и другие, так мыслящие, уверены в том, что они как раз таки не искажают учение Апостолов, не забывают о функциях Духа Св., и не превращают Церковь в организацию. Иначе говоря, П. Рогозин и другие протестанты, - которые утверждают, что все апостольские ученики сразу после смерти Апостолов и даже ещё раньше (ведь св. Климент умер раньше Иоанна Богослова) отступили от истины,/em - хотят нас убедить в том, что приемники и ставленники Апостолов несмотря на их близость по времени жизни ко Христу; несмотря на то, что они научились у Апостолов и видели многие знамения и силу Духа Святого, являемые обильно в апостольской Церкви; несмотря на их известную ревность в проповеди Евангелия и мученическую кончину, очень быстро отступили от истины и забыли наставления Апостолов, и исказили суть и устройство Церкви.
То есть, все труды Апостолов по созиданию Церкви ещё до смерти последнего из них сошли на нет - учение их было забыто вместе с функциями Духа Святого, и Церковь превратилась в организацию. Но когда за домостроительство Церкви взялись П. Рогозин и прочие протестанты, то они оказались верными апостольскому учению. И они успешно вот уже много поколений избирают себе достойных приемников, учат их истине, и их последователи твёрдо в ней стоят, не забывая о функциях Св. Духа и не превращая Церковь в организацию. Вот насколько протестанты лучше, святее и вернее учеников Апостолов. Поэтому, что нам верить каким-то там мученикам, апостольским сотрудникам и преемникам Игнатию, Клименту, Варнаве и Поликарпу; лучше будем верить великим светилам и столпам Церкви, таким как П. Рогозин, Е. Пушков. В. Трубчик и С. Санников, ведь ясно, что они святее и вернее первых, и лучше знают, чему учили Апостолы и как они устроили Церковь. Вот во что и кому верить предлагают баптисты! Пусть, кто желает, верит П. Рогозину, а апостольских учеников считает за отступников - вселенная увидит скоро, на Страшном Суде, их жалкую участь. Я же лично так веровать не могу, и считаю такую веру полным безумием и страшной гордыней... Но продолжим наш разговор о числе степеней священства в древней Церкви.
Климент Александрийский (ок. 150-215 гг.) говорил: "существующие в Церкви степени епископов, пресвитеров и диаконов, по моему мнению, суть подобия ангельского чина"[Строматы, VI, 13].
Тертуллиан (ок. 155-220 гг.) описывал реалии церковной жизни своего времени: "совершать крещение имеет право первосвященник, который есть епископ, затем уже пресвитеры и диаконы, но не без уполномоченности от епископа… Впрочем, даже и мирянам в крайнем случае дозволено крещение[Это исключение из правил до сих пор действует в Церкви, и в случае смертельной опасности диакон и даже обычный христианин, мужчина или женщина, могут совершить крещение]…"["О крещении",/em гл. 17].
Ориген (ок. 185-254 гг.) также совершенно четко разделяет все три священных чина: "от меня (пресвитера) более требуется, нежели от диакона, от диакона более, нежели от мирянина; но от того (епископа), кто содержит в руках своих церковное начальство над всеми нами, потребуется несравненно более"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 219]. В другом месте он пишет: "Павел говорит к правителям и начальникам церквей, то есть к тем, которые судят находящихся в Церкви, именно - к епископам, пресвитерам и диаконам"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 223].
Евсевий Кесарийский (ок. 263 - 340 гг.) "три чина: первый чин предстоятелей, второй - пресвитеров, а третий - диаконов"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 223].
Первый Никейский Вселенский Собор (325 г.), правило 18: "Дошло до святого и великого Собора, что в некоторых местах и городах диаконы преподают пресвитерам евхаристию, тогда как ни правилом, ни обычаем не передано, чтобы не имеющие власти приносить, преподавали приносящим тело Христово. Так же и то стало известным, что даже некоторые из диаконов и прежде епископов прикасаются Евхаристии. Все это да прекратится: и диаконы да пребывают в своей мере, зная, что они суть служители епископа, и ниже пресвитеров. Да приемлют же Евхаристию по порядку после пресвитеров, преподаваемую им епископом, или пресвитером. Диаконам не позволено сидеть между пресвитерами. Ибо то бывает не по правилу, и не по чину. Если же кто и после этого определения не проявит послушания: да прекратится его диаконство".
Св. Епифаний (IV в.) писал: "чин епископов назначен для рождения отцов: ибо ему принадлежит умножать в Церкви отцов (духовных)[Т.е., через рукоположение]; другой чин (пресвитерский), который не может рождать отцов; он рождает Церкви банею возрождения детей, но не отцов и учителей. Как же возможно, чтобы пресвитер поставлял пресвитера, когда для поставления его не имеет никакого права хиротонии? Или каким образом пресвитер может быть назван равным епископу?"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 226]. Заметим, св. Епифаний яснейшим образом различат епископа и пресвитера, и утверждает, что пресвитер не имеет никакого права рукоположения.
Не станем приводить другие многие высказывания святых отцов IV столетия по вопросу трёхчинного священства, так как в том, - из-за обилия ясных свидетельств более древних святых о сём предмете, главные из которых мы привели выше, - уже нет надобности. Приведём только краткое заключение Митрополита Макария: "Наконец (т.е., после рассмотрения свидетельств Библии, апостольских учеников и отцов II-III веков), тоже учение (о трехчинстве церковной иерархии) находим постоянно не только у частных пастырей Церкви всех последующих веков, но и в определениях целых Соборов, например, никейского, вселенского (см. прав. 18) и лаодикийского (прав. 56, 57), так что когда в IV-ом веке явился Аэрий, и начал учить, будто епископ не имеет никакого преимущества пред пресвитером: то, по свидетельству Епифания[Св. Епифаний Кипрский писал так: "Аэрий говорит, что епископ и пресвитер - одно и то же. Как же это возможно? Сан епископов рождает отцов Церкви, а сан пресвитерский, будучи не в состоянии рождать отцов, рождает чад для Церкви… И как можно поставлять пресвитеру, не имеющему права рукоположения" (Против Аэрия. Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 96)] и Августина, всею Церковию был признан за еретика"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 220].
Итак, изучив вышеприведенные свидетельства, мы можем сделать совершенно очевидный вывод: в Церкви из начала самими Апостолами были установлены три чина священства - епископский, пресвитерский и диаконский[Такое же заключение делает и священник Александр Мень, которого любят и уважают многие протестанты и которому, при всех его недостатках, нельзя отказать в искренности и блестящем знании церковной истории. Так вот, он утверждает, что "с первых веков в Церкви установлено три степени священства: епископ, священник, диакон" (А. Мень, "Православное богослужение", с. 139)]. С такой иерархией Церковь всегда жила и поныне живёт. Протестанты же исказили изначальное устройство Це/emркви и отказались от епископов, передав при этом право рукоположения пресвитерам, то есть без всякой причины нагло и самовольно заменили трёхчинное священство двухчинным. Если нам действительно нужна истина, то мы должны спросить себя: кому нам верить и чья позиция правильна? Неужели, узнав такие ясные свидетельства древних святых по вопросу трёхчинности священства, мы можем верить протестантам, которые лгут, что в Церкви из начала было только два чина? Или мы должны думать, что такова была воля Христа, чтобы с I-го до XVI-го века Церковь имела трёхчинное священство, а с XVI-го века после М. Лютера - двухчинное?
Возражая на это баптисты, например, могут сказать, что у них есть старшие, областные пресвитеры, которые хоть и называются пресвитерами, но, по сути, являются теми же епископами, которые управляют областью и принимают непосредственное участие в поставлении пресвитеров в общинах своей области. Однако, только с первого взгляда этот аргумент может показаться справедливым; при рассмотрении же его мы скоро сможем убедиться, что старший пресвитер баптистов не просто не называется епископом - он кардинальным, существенным образом отличается от него.
Во-первых, старший пресвитер не есть у баптистов третий чин, а только должность, для которой у них нет особой, третьей хиротонии (рукоположения). То есть, как в Православии, так и в протестантизме, когда поставляется диакон, то его рукополагают первый раз; когда диакон поставляется в пресвитера, то его рукополагают во второй раз. Но когда баптисты избирают старшего пресвитера, то его не рукополагают в третий раз. Это говорит о том, что старший пресвитер ни коим образом не является у баптистов третьим чином, а (правило 1); только административной должностью. В Православии есть подобное: священника могут поставит на должность настоятеля, благочинного или даже секретаря патриарха, но при этом он остаётся в чине священника, и не рукополагается ещё раз. Для епископства же в Православной Церкви из древности было и есть особое - третье рукоположение.
Во-вторых, старший пресвитер не имеет епископской самоличной и исключительной власти рукополагать пресвитеров и диаконов. Другие пресвитеры также как и старший пресвитер имеют у баптистов власть рукополагать. Таким образом, старший пресвитер баптистов не отличается от прочих пресвитеров властью рукоположения, в чём заключается существеннейшее различие между вторым и третьим священным чином, то есть между пресвитером и епископом. Поэтому, старший пресвитер баптистов ни по имени, ни по сути не является епископом. А то, что он имеет больше власти и чести по сравнению с другими пасторами, отнюдь не делает его епископом. В Православии священники административно часто не равны между собою. Настоятель Храма, и тем более благочинный, управляющий целым районом, имеют больше власти и чести, чем второй священник на приходе, но при этом все они находятся в чине священника, и равны в духовной власти, в совершении священнодействий. Так и старший пресвитер баптистов: имея больше административной власти, он имеет у баптистов ту же духовную власть, что и все остальные пресвитеры. И заметим ещё раз, что практики пресвитерской хиротонии Церковь никогда не знала: это новшество ввели протестанты по своему произволу, как ввели они и то новшество, что пресвитера рукополагает не один епископ, как всегда было в Церкви, а несколько пресвитеров.
Интересно узнать, почему и для чего протестантам понадобилось изменять форму устройства церковной иерархии с трёхчинной на двухчинную, тем более, если достоверно известно, что в Церкви из начала были три священных чина? Это изменение произошло всё по той же причине неправильно понимаемого евангельского учения о священстве и братстве всех верующих. Но так как протестанты, как было сказано, не могут быть до конца последовательными в своём стремлении к равенству и совсем уничтожить иерархию, будучи вынужденными признавать за своими рукоположенными пасторами особые права на совершение священнодействий, то они решили, по крайней мере, хотя бы сгладить разницу между пастырями и овцами. Для этого они перестали называть пресвитеров отцами, поклоняться им, целовать им руки, брать у них благословение, а пресвитеры перестали облачаться в особые одежды и т.п., о чём мы уже упоминали. Для этой же цели протестанты отвергли и епископский чин, ибо именно он своей высотою уж очень подчёркивает ту самую разницу между пастырями и овцами, которую так не желают признавать протестанты. Ведь епископ есть священник, пастырь, наставник, учитель и начальник не только по отношению к простым верующим, но и к самим пресвитерам и дПравославное богослужениеиаконам. Поэтому, объявив, что все верующие - священники, и стремясь максимально сгладить неравенство между пастырями и овцами, протестанты отказались от самого высокого священного чина и сократили иерархию с трёх до двухчинной.
Итак, как Новый Завет, так и, с ещё большей ясностью, творения древних отцов и писателей Церкви указуют на трёх, а не двухчинную церковную иерархию священства, определяя только епископам рукополагать пресвитеров, диаконов и других епископов, отнюдь не предоставляя пресвитерам власти рукоположения. Протестанты же, введя у себя двухчинное священство, отступили от древнего, апостольского устройства церковной иерархии, что является весьма существенным отступлением, ибо по учению древних учителей Церкви, где нет епископа, там нет Церкви. Этому учил в своих посланиях всё тот же св. Игнатий Богоносец, говоря, например: "Все почитайте дьяконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви. Я уверен, что так думаете и вы сами"[К траллийцам, гл. 3], а также: "Ибо, которые суть Божии и Иисус-Христовы, те с епископом"[К филаemдельфийцам, гл. 3]; "Где будет епископ, там должен быть и народ; так же как где Христос Иисус, там и Кафолическая Церковь"[К Смирнянам, гл. 8]. Напомним вышеприводимый вывод Эрла Е. Кернса: "Игнатий верил, что без этой тройственной иерархии не может быть церкви". Тертуллиан прямо утверждал: "без епископа нет Церкви", а св. Киприан писал: "Церковь составляет народ, соединённый со священником, и стадо, покорное своему пастырю; посему ты должен знать, что епископ в Церкви, и Церковь во епископе, и, таким образом, кто не в единении с епископом, тот и не в Церкви"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 216].
Впрочем, для понимания этой истины (что без епископа нет Церкви) не нужно приводить множества цитат древних святых. Эта истина понятна и сама по себе. Ведь если нет епископа, то нет и законных благодатных священников и диаконов, ибо только епископ может их родить, то есть рукоположить; а если нет епископа и законного священства, то нет Таинств; а если нет Крещения, Миропомазания и Причастия, то нет прощения грехов, нет возрождения, нет дара Духа Святого, нет причастия и единения со Христом; одним словом - нет Церкви.
III. О преемственности священства
Христос в Евангелии часто говорит о том, что Он совершает Свою миссию не по Своей воле, но по воле Отца, Который Его послал (см. напр. Ин 6:38). Затем, в свою очередь, Христос послал в мир Своих учеников: "как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас" (Ин. 20:21); "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь" (Мф. 28:19,20). Из последних слов ясно, что Христос послал на всемирную миссию не просто двенадцать Апостолов, но и их преемников, и вот по каким причинам:
1) Апостолы не могли сами проповедать Евангелие и насадить церкви по всему миру из-за его огромности;
2) они не могли выполнять свою миссию до пришествия Христова по причине кратковременности их жизни. Поэтому, очевидно, что когда Христос говорил "Я с вами во все дни до скончания века", то под "вами" Он имел в виду не только Апостолов, но и их преемников; а что епископы являются ппрочих притчетниковриемниками Апостолов, о том единогласно учит вся Церковь от самой древности, и подтверждения тому мы уже приводили выше.
Вот ещё одно предельно важное место в Евангелии: "Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня" (Мф. 10:40). Эти слова были сказаны Апостолам. Таким образом, пока Христос был на земле, люди могли принимать Христа непосредственно, и, принимая Христа, они принимали и Отца. Уходя к Отцу, Христос оставил на земле Своих учеников, которых сделал Апостолами Своей Церкви, даровав им всю власть для Её созидания и управления. Таким образом, во времена Апостолов принять Христа означало принять Его Апостолов, и кто не принимал их - не принимал и Христа. Апостолы же, уходя, передали свою духовную власть и полномочия своим святым преемникам-епископам, таким как Тит, Тимофей, Климент, Инатий и прочим, и на них слова Христа распространялись с той же силstrongой: принимать ставленников и посланников Апостолов означало принимать самих Апостолов, а значит - Самого Христа, а значит - и Отца. Эти епископы также в свою очередь избирали тех, кого считали достойными, и поставляли их священниками и епископами. И так до наших дней. И только так существовала и существует Церковь. Поэтому, не принимая законных, преемственно поставленных епископов, протестанты не принимают и их предшественников, не принимают Апостолов, не принимают Христа.
И весьма важно заметить, что эта преемственность не может потерять силу или быть уничтожена, ибо Сам Христос обещал быть с Апостолами и их преемниками "во все дни до скончания века". Ап. Павел писал: "И никто сам собою не приемлет этой чести (священства), но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником..." (Евр. 5:4). Бог же призывает в священство не иначе, как через Своих служителей - епископов. Поэтому, чтобы не самому собою, а законно принять священство, нужно быть рукоположенным истинным епископом. Именно преемственно принятое рукоположение от епископа есть тот путь, которым можно не самочинно и самозвано, а чинно, законно и по Божественному праву принять священство.
Итак, Бог послал Христа, Христос послал Апостолов, Апостолы послали своих приемников, приемники Апостолов послали своих приемников, и так до сего дня. Только в этой преемственности может быть истинное священство, а значит и Церковь.
Таким образом, именно апостольская преемственность рукоположения является важнейшим свидетельством и доказательством того, что Церковь, имеющая её, есть истинная, Христовая, апостольская, а не самозваная, самочинная, самодельная, еретическая и сектантская. Конечно, сам по себе факт наличия апостольской преемственности рукоположения у какого-то общества не делает его Церковью автоматически, ибо есть общества, которые хотя и сохраняют формально апостольскую преемственность, но откололись от Церкви по другим причинам (например, католики, филаретовцы (так называемый "Киевский Патриархат"), армяне и т.д.). Но если какое-либо общество не имеет апостольской преемственности, то оно никак не может быть Церковью Христовой. Эту важную истину можно сформулировать так: если какое либо общество имеет апостольскую преемственность, то возможно, оно является Церковью; если же оно такой преемственности не имеет, то оно никак не может быть Церковью.
Если мы пожелаем теперь узнать, что думала об апостольской преемственности рукоположения древняя Церковь, то увидим, что она придавала её наличию важнейшее значение, и часто в борьбе с еретиками и сектантами для доказательства их лживости приводила факт отсутствия в этих обществах именно апостольской преемственности рукоположения. Вот некоторые тому примеры.
Св. Климент Римский (I в.) в своём послании к Коринфской Церкви говорит: "И Апостолы наши знали чрез Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей, и потом присовокупили закон, чтобы когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами, с согласия всей Церкви…" (1 Кор. 44 гл).
Св. мученик Поликарп (85-157 гг.): "истинное познание есть учение апостолов, и изначальное устройство Церкви во всём мире, и призн не является епископом. А то, что он имеет больше власти и чести по сравнению с другими пасторами, отнюдь не делает его епископом. В Православии священники административно часто не равны между собою. Настоятель Храма, и тем более благочинный, управляющий целым районом, имеют больше власти и чести, чем второй священник на приходе, но при этом все они находятся в чине священника, и равны в духовной власти, в совершении священнодействий. Так и старший пресвитер баптистов: имея больше административной власти, он имеет у баптистов ту же духовную власть, что и все остальные пресвитеры. И заметим ещё раз, что практики пресвитерской хиротонии Церковь никогда не знала: это новшество ввели протестанты по своему произволу, как ввели они и то новшество, что пресвитера рукополагает не один епископ, как всегда было в Церкви, а ак Тела Христова, состоящий в преемстве епископов, которым те (апостолы) передали сущую повсюду Церковь"[Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 83]. Заметим: признак Церкви - преемство епископов, и им Апостолы вручили Церковь, как в свою очередь Христос вручил Её им.
Св. Ириней Лионский (ум. 202 г.) в своей книге "против ересей" (кн. IV, гл. 26) пишет: "Должно повиноваться пресвитерам, находящимся в Церкви, и происходящим преемственно от Апостолов, и, по благоволению Отца, вместе с преемством епископства, получившим истинные дары; прочих же, кои получили пресвитерство не по такому преемству и собираются во всяком месте, тех считать людьми подозрительными, еретиками и злонамеренными, отступниками, горделивыми, самолюбивыми Впрочем, для понимания этой истины (что без епископа нет Церкви) не нужно приводить множества цитат древних святых. Эта истина понятна и сама по себе. Ведь если нет епископа, то нет и законных благодатных священников и диаконов, ибо только епископ может их родить, то есть рукоположить; а если нет епископа и законного священства, то нет Таинств; а если нет Крещения, Миропомазания и Причастия, то нет прощения грехов, нет возрождения, нет дара Духа Святого, нет причастия и единения со Христом; одним словом - нет Церкви., лицемерами, делающими это ради прибытка или суетной славы".
Немного раннее в той же книге (III, гл. 3) св. Ириней говорит еретикам-гностикам, - которые утверждали, что обладают тайными знаниями, которые передали Апостолы не всем, а только им, - следующее:
"1. Мы можем наименовать тех, которых Апостолы поставили церквам епископами, и преемников их даже до нас, кои ничему такому не учили, и ничего такого не знали, что вымышляют еретики. Ибо если Апостолы знали сокровенные вещи, которые открывали только совершенным, а не и всем другим; то тем более они сообщали эти тайны лицам, которым поручали самые церкви: поелику Апостолы хотели, чтобы те, которых они оставляли своими преемниками, передавая им собственное служение учительства, были весьма совершенны и неукоризненны во всех отношениях…
2. Но поелику было бы весьма длинно в такой книге, как эта, перечислять преемства (предстоятелей) всех церквей, то я приведу предание, которое имеет от Апостолов величайшая, древнейшая и всем известная церковь, основанная и устроенная в Риме двумя славнейшими апостолами Петром и Павлом, и возвещенную людям веру, которая чрез преемства епископов дошла до нас, и посрамлю всех тех, кто всячески незаконным образом составляет собрания или по худому самоугождению, или по тщеславию, или по слепоте и превратным мнениям. Ибо, по необходимости, с этою церковью, по её преимущественной важности, согласуется всякая церковь, т.е. повсюду верующие, так как в ней апостольское предание всегда сохранялось верующими повсюду.
3. Блаженные апостолы, основав и устроив церковь, вручили служение епископства Лину. Об этом Лине Павел упоминает в посланиях к Тимофею. Ему преемствует Анаклит; после него на третьем месте от апостолов получает епископство Климент, видевший блаженных апостолов и обращавшийся с ними, ещё имевший проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими; впрочем он не один, но многие ещё оставались тогда, которые получили наставление от апостолов. При этом Клименте, когда произошло немалое разномыслие между братьями в Коринфе, церковь римская написала к коринфянам весьма дельное послание, увещевая их к миру и восстановляя их веру… Из этого писания желающие могут узнать, что Он, Отец Господа нашего Иисуса Христа, проповедуется церквами, и также уразуметь апостольское предание Церкви, так как послание гораздо древнее тех людей, которые ныне преподают ложное учение и выдумывают иного Бога, выше Творца и Создателя всего существующего. Этому Клименту преемствует Эварест, Эваресту Александр, потом шестым от апостолов был поставлен Сикст, после него Телесфор, который славно претерпел мучение; потом Гигин, потом Пий, после него Аникита; после Сотира, преемствовавшего Аниките, ныне на двенадцатом месте от апостолов жребий епископства имеет Элевфер. В таком порядке и в таком преемстве церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством, что одна и та же животворная Вера сохранялась в церкви от апостолов доныне и предана в истинном виде".
И в другой книге (IV, гл. 26) св. Ириней пишет: "Надлежит следовать пресвитерам в Церкви, тем, которые, как я показал, имеют преемство от апостолов и вместе с преемством епископства по благоволению Отца получили известное дарование истины". Вообще нужно заметить, что св. Ириней в своих книгах очень сильно утверждает мысль о том, что Церкви нет без преемственных священнослужителей. И хотя он по необходимости (опровергая притязания гностиков) больше делает акцент на преемстве в учении, но преемство в учении в понимании св. Иринея выражается именно в факте преемственного рукоположения одними епископами других, через которое и свидетельствуется, что рукоположенный научен апостольскому учению и признан достойным епископства.
Тертуллиан (155-220 гг.) в своей книге "О прескрипции [против] еретиков" (гл. 32) пишет: "Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание (поскольку они существовали при апостолах), то мы можем ответить: но тогда пусть покажут начала своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел виновником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских (но такого, который пребывал с апостолами постоянно). Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение. Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанном, а Римская - называет таковым Климента, рукоположенного Петром. Таким же образом и прочие церкви показывают, в каких мужах, поставленных апостолами во епископы, имеют они отростки семени апостольского". Стоит заметить, что данное свидетельство усиливается тем, что строки эти написаны Тертуллианом в домонтанический период его жизни.
Св. Киприан (ум. 258 г.): "мы преемники Апостолов, правящие Церковь Божию тою же властию"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 215]. И ещё: "Церковь одна, а будучи одна, она не может быть и внутри, и вовне. Если она у Новациана (еретика), то не была бы у Корнелия…, который наследовал епископу Фабиану по законному посвящению и которого, кроме чести священства, Господь прославил и мученичеством… Новациан… не принадлежит к Церкви; и тот, кто, презревши евангельское и апостольское предание, никому не наследуя, произошёл от самого себя, не может считаться епископом; не может никаким образом иметь Церковь и обладать ею не посвящённый в Церкви". В другом месте он утверждал, что не может "считаться пастырем тот, кто, при существовании пастыря, управляющего в Церкви Божией по преемству посвящения, оказывается чужим и сторонним"[Письмо к Магну. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 86].
В письме к епископу Флоренцию св. Киприан пишет: "Ты должен уразуметь, что епископ в Церкви и Церковь в епископе, и кто не с епископом, тот и не в Церкви". "Епископу одному предоставлено начальство над Церковью, благодаря чему он является начальником народа, пастырем стада Христова, правителем Церкви, предстоятелем Христовым, священником Божиим"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 132]. Такое понимание Церкви христиане имели от начала. Поэтому, протестанты не могут быть в Церкви, поскольку у них нет ни одного истинного епископа (а у большинства - и самого епископского чина). А раз они не с истинными епископами, то они и не в Церкви.
В другом письме св. Киприан говорит, что в Римской Церкви есть епископ, "поставленный шестнадцатью соепископами", а о Корнелии свидетельствует, что тот был "поставлен во епископа многими нашими товарищами"[Письмо 43-е к Антониану. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 83], то есть епископами, так как св. Киприан сам был епископом. Таким образом, епископы всегда в Церкви рукополагались не иначе, как собором других епископов, и только так в Церкви передаётся высшая епископская благодать.
Современник и единомышленник св. Киприана, епископ Фирмилиан, в письме к нему говорит: "Это значит, что власть отпускать грехи дарована апостолам.., а затем епископам, которые наследовали им по преемству посвящения"[Письмо к Киприану. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 87].
Евсевий Кесарийский (III-IV вв.) сохранил древние списки Егезиппа, где перечисляется преемственный ряд коринфской, римской и иерусалимской церквей, и на основании других документов даёт такие же списки епископов других известных церквей. О иерусалиской церкви, например, он пишет: "Списка иерусалимских епископов, указывавшего бы время их служения, я нигде не нашел (говорят, правда, что они были недолговечны). Из письменных источников я только узнал, что до осады Иерусалима Адрианом их было пятнадцать, преемственно сменявших друг друга, что все они были исконными евреями и Христово учение приняли искренне, так что люди, которые могли об этом судить, сочли их достойными епископского служения. Вся Церковь у них состояла из уверовавших евреев, начиная от апостолов и до тех, кто дожил до той осады, когда иудеи, опять отпавшие от римлян, были разбиты в нелегкой борьбе. Так как с этого времени епископов из обрезанных больше не было, то следует перечислить их, начиная с первого. Первым был Иаков, именуемый братом Господним; вторым - Симеон, третьим - Иуст, Закхей - четвертым, пятым - Товия, шестым - Вениамин, Иоанн - седьмым, восьмым - Матфий, девятым - Филипп, десятым - Сенека, одиннадцатым - Иуст, двенадцатым - Левий, тринадцатым - Ефрем, четырнадцатым - Иосиф, последним, пятнадцатым - Ибо, которые суть Божии и Иисус-Христовы, Иуда" (кн. IV, гл. 5).
Св. Василий Великий (IV в.) пишет, что у раскольников "…оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцов, и чрез возложение рук их, имели дарование духовное. Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали"[Первое каноничеcкое послание к епископу Амфилохию Иконийскому].
Св. Епифаний Кипрский (IV в.) в святых Апостолах видит началовождей церковных Таинств, утверждая, что от них, а также и "от Павла с Варнавою и Иакова, епископа Иерусалимского, начинаются преемства епископов и пресвитеров в доме Божием"[Против коллиридиан, гл 5. Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 96].
Св. Иероним (IV-V вв.) пишет: "У нас место апостолов занимают епископы". "Были отцами твоими в Церкви апостолы, которые сами породили тебя; теперь же с оставлением ими мира, вместо них имеешь епископов"[Hiеrоn. ер. 42 n. 3].
Естественно, подобных цитат из отцов Церкви IV в. можно ещё множество.
Итак, Церковь из начала не мыслила своё существование без законно и преемственно рукоположенного священства. Да и если самим рассудить, то как Церковь может быть истинной, если у неё нет законно рукоположенной иерархии? Протестанты же есть такое общество, у которого нет законных пастырей. Пресвитеры их произошли самочинно, "сами от себя", по слову св. Киприана. А раз у них нет апостольской преемственности рукоположения, то они и не Церковь, и никоим образом не могут ею быть! На этом месте я хочу остановить особое внимание.
Главный вопрос, который должны задать себе протестанты, следующий: на каком основании и по какому праву протестантские пасторы совершают все так сказать священнодействия? Ответ простой: потому, что они рукоположены. Следующий вопрос: кем они были рукоположены? Другими, более старшими пасторами. А эти пасторы кем были рукоположены? Другими, предыдущими пасторами. А где же начало, например, баптистского рукоположения? Вот этот вопрос в определённом смысле (с канонической точки зрения) есть, пожалуй, самый важный для решении самого главного вопроса - являются ли протестанты Церковью Христовой? А ответить баптисты должны только то, что в начале, при зарождении баптизма, их первые братья без всякого рукоположения сами приняли на себя обязанности пресвитеров и стали совершать все священнодействия. Как возник, например, баптизм в России? Первым русским баптистом, как известно, был Никита Воронин, который принял крещение в 1867 году от немецкого баптиста Мартина Кальвейта. Потом он стал проповедовать и собирать вокруг себя общину, в strongкоторой он стал пресвитерствовать, крестить, рукополагать и пр. Вот от этого самозванца и началось баптистское рукоположение. Если в Церкви епископы получили свою власть от Апостолов Христовых, которые передали им её через преемство и череду других епископов, то баптистские пасторы получили свою власть от "апостола" Воронина и подобных ему самозванцев. Н. Воронин, не будучи епископом, тем более преемственно рукоположенным, ни сам не имел права и власти на совершение священнодействий, ни, тем более, не имел власти передать то, чего сам не имел. В русском баптизме были и другие течения, но все остальные основатели баптизма также были самозванцами, не имевшими апостольской преемственности.
Многие другие течения протестантизма берут своё начало от Лютера, Цвингли, Кальвина, Мелангтона, Мюнцера и прочих реформаторов. Может быть они имеют апостольскую преемственность? Нет, никто из протестантов её решительно не имеет по следующим веским причинам.
Во-первых, большинство протестантов, о чём выше мы много говорили, отвергли епископский чин, а без епископа нет рукоположения, нет священства, нет Церкви. Как же может быть у протестантов преемВо-первыхственность рукоположения и законные пастыри, если у них нет тех, кто совершает рукоположение?
Во-вторых, даже если бы была возможна пресвитерская хиротония (хотя она никак не возможна!), то большинство реформаторов не были даже священниками, и многие первые протестантские пасторы приняли на себя этот сан и стали священнодействовать даже без пресвитерского рукоположения[Читая официальную "Историю ЕХБ в СССР" (изд. ВСЕХБ, Москва, 1989 г.) можно заметить, что её составители часто и, скорее всего, сознательно уклоняются от освещения вопроса о том, кем были рукоположены первые их пресвитеры. Так, в этой книге мы часто встр/strongечаем такие указания: "В Карловке пресвитером был избран Т. Хлыстун; в Любомировкstrongе пресвитерствовал Рябошапка" (с. 63), но были они только избраны в пресвитеры общиной или ещё и рукоположены, и кем - этого не уточняется. Скорее всего, они были только избраны, и если и были впоследствии кем-то рукоположены, то, по крайней мере, первое время священнодействовали без всякого рукоположения. В другом месте ещё более ясно видно, что первые протестантские служители на Руси дерзали священнодействовать даже без пресвитерского рукоположения: "Возник вопрос, кто может преподать первое крещение. До 1860 года на Украине такого служителя не было. Первое крещение по вере полным погружением состоялось 23 сентября 1860 года в водах реки Курушан… Служители общины Яков Беккер и Генрих Бартель, на которых для выполнения акта крещения были предварительно молитвенно возложены руки (заметим, что руки на них возложили не рукоположенные пресвитеры и даже вовсе не крещённые люди), в присутствии многих братьев и сестёр вошли в воду и крестили друг друга", то есть, стали священнодействовать даже без пресвитерской хиротонии (с. 54). Иногда же "История ЕХБ" указывает нам имена тех, от кого приняли рукоположение их пресвитеры: "Летом 1868 года эту же (Эйнлагскую) общину посетил диакон баптистской церкви в Пруссии Карл Бенцин. При его участии в общине были избраны пресвитер, диаконы и проповедники… 16 сентября… эти места посетил основатель баптизма в Германии И. Онкен… в Эйнлаге он рукоположил пресвитера общины А. Унгера, наставника А. Леппа и двух диаконов" (с. 65). Но кто такой И. Онкен, и от кого сам он принял рукоположение? О нём сами баптисты свидетельствуют так: "Вечером 21 апреля 1834 г. Онкен вместе с шестью своими единомышленниками был крещен в реке Эльбе баптистским профессором литературного и богословского института в Гамильтоне (США) Барнабом Сэрсом, который прибыл из Америки в Германию для научных занятий и чтобы привести в исполнение желание Онкена. На следующий день после крещения была основана первая немецкая баптистская община, и "брат" Онкен через рукоположение был посвящен (по всей вероятности, тем же профессором) в проповедника" (И-л "Баптист", 1911 г., 42, с. 330). Таким образом, мы вновь убеждаемся в том, что многие первые протестантские служители не имели даже пресвитерского рукоположения. И. Онкен был рукоположен не пресвитером, а профессором, да и рукоположен он был не в пресвитера, а в проповедника, хотя что это за новшество? Никакого рукоположения в проповедника Церковь никогда не знала. Таким образом, в вопросах рукоположения и пре/emемственности у протестантов полный беспорядок: даже пресвитерской преемственности от западных реформаторов многие протестанты не имеют, хотя, повторим, и она ровным счётом ничего не даёт.].
В-третьих, М. Лютер был католическим священником, а католики отпали от истинной Церкви (что единогласно признают все протестанты, называя католиков язычниками и идолопоклонниками[Известный пуританский проповедник и писатель XVII-го века Томас Ватсон, например, высказывался о католиках совершенно определённо: "Римская Церковь, которая от альфы до омеги является идолопоклонской, осуждена и проклята"; "Не ходите на их богослужения (т.е. католические)… Некоторые ходят посмотреть на их идолослужение… Не вступайте в брак с язычниками (т.е. католиками)" ("Десять заповедей", глава "вторая заповедь", 2002 г, с. 101)]) и потеряли благодать и преемственность священства, оставив только его форму. Поэтому, даже если бы была возможна пресвитерская хиротония, то рукоположенные М. Лютером пресвитеры не могли быть истинными, так как сам М. Лютер получил свою власть от отпадшего от Истины и отсечённого от Церкви католического епископата, уже не имевшего духовной власти сообщать через рукоположение благодать священства, потому что у них как еретиков и раскольников, по словам св. Василия, которые мы выше приводили, "пресеклось законное преемство", и они уже "не имели власти ни крестить, ни рукополагать, и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали".
В общем, вовсе не нужно углубляться в историю протестантизма и прослеживать все его ветви и происхождение рукоположения каждой деноминации чтобы понять, что никакой законной апостольской преемственности рукоположения у протестантов решительно нет хотя бы из-за одного только отсутствия у них епископов, то есть трёхчинной иерархии. Так или иначе, все ветви протестантизма начались самозвано, самочинно и не законно, и все существующие ныне протестантские пресвитеры не имеют права и власти на совершение Таинств и служб, и совершаемые ими "священнодействия" есть великое кощунство, великое богохульство и надругательство над святыней. (Более того, они не имеют права даже проповедовать, так как Христос послал на проповедь Апостолов и их преемников; протестантов же Он не посылал. А "как проповедовать, если не будут посланы?" (Рим. 10:15). Христоc никуда "не посылал" протестантов, "а они сами побежали" (ср. Иер. 23:21)).
Но всё это протестантов, как правило, не смущает, и не многие из них настаивают на том, что у них сохр (1 Кор. 44 гл).аняется апостольская преемственность рукоположения. Чаще всего протестанты говорят, что "формальная" преемственность рукоположения вообще не нужна и ничего не даёт. П. Рогозин пишет, что "Дух Святой… не может быть заключён в рамки человеческих установлений. Он никогда не действовал по воле человеческой. Он никогда не придерживался "преемственной линии" и не считался с формальным возложением рук…", а также: "духовная власть это нечто иное: как проявление Духа Святого, обитающего в сердце верующего". П. Рогозин жалуется, что в православной Церкви "люди, не получившие этой преемственной власти от апостолов, при всей своей богоугодной жизни и достоинствах не могут быть пастырями церкви, так как без "благодати" они только миряне, простолюдины".
На это нужно сказать, что слова П. Рогозина это один хаос, смешение понятий, ложь и противоречие. Во-первых, установление рукополагать епископов, пресвитеров и диаконов не человеческое установление, а Божественное. Во-вторых, для чего нужно называть рукоположение "формальным"? И что противопоставляется этому - рукоположение духовное или духовное дарование без рукоположения? Но где оно есть в протестантизме? Где протестанты позволяют кому либо священнодействовать без "формального" рукоположения? Где у них может священнодействовать формально не рукоположенный, но "богоугодной жизни" верующий? Протестанты отнюдь не всегда почитают своего пастора за человека самой "богоугодной жизни", и считают таковыми других членов верующих, но право за священнодействиями они признают только за пастором.
Так за что же тогда ратует П. Рогозин? Причём, рукоположение у протестантов считается действительным только если оно совершено не иначе, как по "преемственной линии", то есть другими пресвитерами, а не рядовыми, но духовными верующими, имеющими личные "достоинства". Если в протестантской среде, например, у баптистов, кто-то применит выше процитированные слова П. Рогозина и станет утверждать в отношении баптистских пасторов, что "Дух Святой не заключён в рамки человеческих установлений", что "Он никогда не действовал по воле человеческой"; что "Он никогда не придерживался "преемственной линии" и не считался с формальным возложением рук"; что "духовная власть это не формальное рукоположение, а проявление Духа Святого, обитающего в сердце верующего", и т.п., а поэтому, он и другие достойные верующие "богоугодной жизни" тоже будут крестить, вести служение, сочитывать и т.п., то страшно представить, что будет с таким человеком. Баптисты его заклюют и отвергнут как безумца, еретика и бесчинника. Они ему станут говорит, по сути, всё тоже самое, что говорят православные: что рукоположение есть Божественное установление; что рукоположение совершатся не формально, а по воле Духа Святого, действующего в Церкви через пресвитеров; что преемственная линия совершенно необходима, ибо Дух Святой не рукополагает никого Сам по Себе, а только через других пасторов, и т.д. То есть, всё это яснейшим образом показывает, что протестанты находятся в полном противоречии: православным они говорят о преемственности одно, что она совершенно не нужна, но внутри себя они полностью её признают, и все свои же аргументы категорически отвергнут, если их направить против них самих!
На это изобретательные протестанты могут сказать: "да, нужно признать, что Дух Святой действует и по "преемственной линии", но если епископы в Церкви уклоняются от Истины, как произошло с католичеством и православием, то Он может создать и другую преемственную линию, что Он и сделал с протестантизмом". (Причём, протестанты считают, что "историческая Церковь", до их появления, находилась в отступлении более 1000 лет, примерно с V-го (или вообще со II-го) по XVI век). Но мысль эта совершенно лживая и, более того, не библейская. Христос обещал пребыть со Своими учениками и их приемниками "во все дни до скончания века". Кроме того, ап. Павел пишет: "Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды" (Ефstrong. 3:21). Если Церковь отступила от Истины более чем на 1000 лет, то какая же слава могла быть Богу в отступившей Церкви во всё это время? Итак, всегда в Церкви были верные Богу люди, и никак того не могло быть, чтобы более 1000 лет не было в Церкви истинных епископов и учеников Христа. А раз это так, то Христу не было никакой надобности создавать Церковь заново в лице протестантов. К тому же, почему бы Христос сначала создавал Церковь с трёхчинным священством, а потом с двухчинным? Неужели воля Его не едина во все времена? Кроме того, самое главное: протестанты не только не являются приемниками Апостолов в рукоположении - они и в учении не приемствуют Апостолам, ибо по множеству самых важных положений веры расходятся с учением Библии, Апостолов и древней Церкви, доказательству чего, пункт за пунктом, и посвящена моя книга.
Теперь скажем о том, какое отношение имеет личная праведность священника к совершаемым им священнодействиям? Протестанты часто в той или иной форме поднимают этот вопрос: рассказывая о различных грехах отдельных священников протестанты то и хотят сказать, что как же могут быть такие священники истинными, и как можно к ним ходить на исповедь и причастие, и разве не правильно мы сделали, что отделились от этих нечестивых священников? Потому важно догматически решить вопрос: теряет ли священник право и власть священнодействовать из-за своих грехов?
На этот счёт в Церкви ясное правило: священнодействия всякого законно поставленного священника, не запрещённого в служении и не лишенного сана, действительны, несмотря на его грехи. И правило это совершенно согласуется с Библией, учением древней Церкви и самим здравым смыслом. Только на первый взгляд мысль о том, что "священнодействие грешного священника не действительно, ибо как святому Богу могут быть угодны молитвы и служение грешника?" может показаться справедливой. На самом же деле, такое заявление совершенно безумно и разрушительно, и вот почему.
В св. Писании сказано: "все мы много согрешаем" (Иак. 3:2), а также: "Если говорим, что не имеем греха, - обманываем..." (1 Ин. 1:8). Итак, все христиане, в том числе и священники, грешат, и Бог всегда принимает священнодействие от грешного человека! Только одни, хорошие священники, грешат меньше или совсем незначительными грехами, другие грешат больше. Но кто же должен и может определять, что вот грехи этого священника ещё не прекращают его священства, а вот этот грешит уже настолько, что его священнодействия недействительны? То есть, судьи кто? Если всем предоставить право судить священника по своему усмотрению, достоин ли он своего сана или нет, то Церковь тут же разрушится и впадёт в полный хаос и неразрешимые разногласия. Поэтому, Дух Святой, будучи не Духом разрушения, а устройства, не допустил в Церкви быть такому хаосу, и определил, чтобы судья (земной) священнику был один - его епископ, а судьи епископа - собор епископов. Если священник явно грешит, прихожане могут и должны обратиться к епископу, и он, рассмотрев дело, может запретить такового в служении. Вот только после этого священнодействия священника будут недействительны. Ап. Павел заповедует епископу Тимофею: "Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели" (1 Тим. 5:19,20). То есть, совершенно очевидно, что верные не сами решают, достоин ли священник своего сана или нет, а в случае каких либо грехов священника жалуются на него епископу. Но если священник законно рукоположен и не запрещён епископом в служении, все его священнодействия действительны, в каком бы духовном состоянии он ни был.
И Библия даёт нам достаточно примеров того, что грехи священников не упраздняют благодати их священнодействий. Сыновья Илии будучи священниками сильно грешили и были людьми негодными, так что Сам Господь решил предать их смерти (см. 1 Цар. 2:12-36). Но даже после объявления суда Божия они еще не менее 10 лет совершали служение, и народ ходил к ним, и их священство было действительным! Или протестанты скажут, что когда израильтяне приносили свои жертвы и обеты Богу через этих священников Бог не принимал эти жертвы, и не слышал этих людей? Даже такой ужасный человек, как Каиафа, который больше всех постарался, чтобы Христос был распят, не сразу лишился своего первосвященства, и Дух Божий даровал даже ему пророчество ради его первосвященства (Ин. 11:51). То есть, даже не приняв Христа он ещё несколько лет священнодействовал и совершаемое им было действительным. То есть, священства своего Каиафа лишился не сразу в тот момент, как первый раз услышал о Христе и отверг Его. Более того, пока стоял Иерусалимский Храм, христиане иудеи и даже Апостолы ходили в Храм, где священнодействовали иудейские священники. И ап. Павел признавал, что и плохого первосвященника нельзя поносить, и не сказал, что он никакой уже не первосвященник, хотя, казалось бы, имел на то основания - ведь начался уже век Церкви (Деян. 23:5).
Кроме того, даже Апостолы не были совершенны. Между апостолами Павлом и Варнавой произошла размолвка, однако же из-за этого они не лишились власти священнодействовать (Деян. 15:36-40)["Произошло огорчение" (39 ст.) - так очень мягко синодальный перевод толкует греческое слово пароксисмос, которое значит - раздражение и даже озлобление и раздор (см. греч.-рус. словарь Вейсмана)]. Ап. Петр и Варнава лицемерили, но также не лишились из-за этого своего апостольства (Гал. 2:11-14).
Но что более всего интересно, протестанты и здесь по своему обычаю противоречат самим себе, так как на практике они никоим образом не считают, что грехи их пасторов лишают их духовных прав на священнодействия. У протестантов бывают, естественно, случаи, когда они отлучают от церкви пасторов. И если выясняется, что этот пастор тайно грешил уже несколько лет, то баптисты не пытаются выяснить, кого он за это время крестил, бракосочетал и чьего ребёнка благословил, чтобы другой достойный пресвитер совершил всё заново. Нет. Они ясно понимают, что хотя этот пастор крестил и бракосочитывал будучи во грехе, то всё это было действительно ради веры тех, над кем было это совершаемо. То есть, баптисты признают, что ради веры людей Бог крестил, бракосочетал и благословлял их и через грешного пастора. А за свои личные грехи этот пастор сам ответит перед Богом. Вот именно так думают и православные: приходящему к Богу с верой Он непременно дарует необходимую благодать (прежде всего в Таинствах) через всякого священника, который рукоположен по правилам и не осуждён за свои грехи явно, как писал о том св. Григорий Богослов: "К очищению тебя всякий достоин веры; только был бы он из числа получивших на сие власть, не осуждённых явно и не отлученных от Церкви. Не суди судей ты, требующий врачевания; не разбирай достоинств очищающих тебя…, хотя один другого лучше или хуже, но всякий выше тебя"[Слово на Св. Крещение. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 142].
Также и св. И. Златоуст прямо утверждал, что Бог действует и через грешного священника: "Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения; если, таким образом, и через безсловесныя уста ослицы, и через нечистый язык Валаама Он действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас если вы будете признательны, Он сделает со Своей стороны всё, что нужно, и ниспошлёт Духа Святого, - хотя бы и крайне порочны были священники. Ведь и чистый (священник) не своею собственною чистотою привлекает Духа Святого, но всё совершает благодать… Всё, что вверено священнику, есть единственно Божий дар"[Беседа 86, на евангелие от Иоанна, п. 4]. А священник, если он не был достоин своего звания и благодати, которую принял, ответит за себя перед Богом, и с него Бог спросит в семь раз строже, чем с обычного прихожанина.
Так есть ли тогда вообще какая ни будь разница между священнодействиями, совершаемыми достойными и недостойными священниками? Безусловно, есть, ибо праведность всегда и во всём приносит свои плоды, и никогда не бывает бесполезной. Что же, священнодействия благочестивого священника "более действительны", нежели иерея нечестивого? Всё дело в том, что Таинства требуют от участника усвоения их, то есть "растворения верою". Например, Тело Христово преподаётся многим христианам, но одни усваивают его с большой верой и сильнее причащаются Христу, другие - с меньшей верой, а третьи вообще без веры, потому они не только не получают пользу от причастия, но вред, так что могут даже болеть и умирать (см. 1 Кор. 11:27-30 (IV в.) в святых Апостолах видит началовождей церковных Таинств, утверждая, что от них, а также и ). Так же и Таинство Крещения: благодать одна, но один эту благодать принимает всем сердцем, давая ей заполнить всю душу и вытеснить всяких грех, а другой не отдаёт этой благодати всей души, или же вообще противится ей, так что новая жизнь, данная ему в Крещении, заглушается и никак себя не проявляет. Оттого, кстати, так много людей крещённых в Церкви, но не живущих согласно полученной благодати. И так и всякое другое Таинство.
Так вот, хотя Таинства всегда имеют одну и ту же силу и благодать, но благочестивый священник своим благочестием, верой и добрым влиянием помогает участнику Таинства лучше усвоить и с большей верой принять Таинство, а священник нечестивый и нерадивый напротив - соблазняет и угашает собой веру участника Таинства, не помогая, а препятствуя ему принять его достойно[Кстати, понимание этого принципа, по всей видимости, есть одна из важнейших причин, по которой епископа, обычно, поставляет не минимальное количество епископов - двое, а максимально возможное. И эта практика существует с древности, что мы видели из цитаты св. Киприана (о рукоположении епископа шестнадцатью епископами). Такое торжественное поставление большим собором епископов имеет кроме прочего тот смысл, что ставленнику в таком положении легче с полной верой принять благодать этого великого Таинства, и с большей ответственностью и трепетом относится к своему посвящению и всему дальнейшему служению]. Но если человек приходит к Богу с полной верой, то он и через недостойного священника получит отпущение грехов, причастится Христу и т.п.
Иначе мыслить попросту нельзя. Если бы это было так, то Церковь попросту не могла бы существовать. Тогда получалось бы, что священник, тайно согрешивший, на следующий день крестил бы кого-то, но это крещение было бы недействительным и человек остался бы не крещённым. Затем кто-то из этих не крещённых становился бы священником, но на него, как не крещённого, благодать священства не сходила бы, и все дальнейшие священнодействия такого священника так же были бы недействительны. А если бы при рукоположении нового епископа рукополагающие его были бы во грехе и лишались бы из-за этого благодати священства, то новый епископ ничего бы не получил. Но, не зная этого, он бы рукополагал священников и других епископов, не передавая при этом ничего. В итоге, со временем вся священническая благодать в Церкви пресеклась бы. Но допустить этого Господь никак не может, потому Он и сделал так, чтобы благодать Таинств передавалась и через согрешающего священника. Благодать эта как золото, которое и в руках доброго человека, и в руках разбойника остаётся золотом.
Теперь - для того, чтобы протестанты могли яснее понять, как страшно кощунствуют их пасторы, дерзая без преемственности, без законного рукоположения приступать к совершению "священнодействий" - давайте представим, что Симон волхв, получив от Апостолов отказ в даровании ему духовной власти подавать Духа Святого через руковозложение (см. Деян. 8:20-22), пренебрёг бы этим и стал бы всё же возлагать руки и священнодействовать, утверждая, что он не от Апостолов, а от Самого Бога получил это право. Разве не было бы это богохульством и святотатством? Так вот протестанты и есть такие богохульники, в некотором смысле хуже Симона. Ведь нечестивый Симон убоялся слов Апостолов, просил их помолиться об отпущении своего греха и не смел без рукоположения Апостолов священнодействовать. Протестантские же пасторы, не получив от Апостолов (то есть их законных приемников - епископов) рукоположения, сами себя сделали пресвитерами, стали священнодействовать и говорить, что им Сам Бог дал такое право. А протестанты верят им и идут вслед за этими кощунниками. Поистине, страшно представить себе конец таковых людей.
Я спрашиваю вас, протестантские пасторы: какое право вы имеете называться пасторами и совершать "священнодействия"? Кто поставил, кто рукоположил вас? Кто дал Вам право приступать к священнослужению? Знаете ли Вы, что Вы служите дьяволу, и что рука, возложенная на вас, была его рукой, благословившей вас на войну с Богом и Его Церковью? Как в Ветхом Завете никто не из рода Аронова не мог приступать к священнодействиям под угрозой смерти - "посторонний, приступивший предан будет смерти" (Числ. 18:7) - так и в Новом Завете никто из преемственно не рукоположенных законным епископом под угрозой вечной смерти не имеет права дерзать на совершение священнодействий. Вы же, протестантские пасторы, дерзнули на такое святотатство. Потому участь ваша - участь Дафана и Авирона (см. Числ. 16), если не обратитесь от злых дел ваших!
Итак, где нет приемников Апостолов, то есть епископов, где нет преемственности рукоположения, где нет законного священства, там нет Христовой Церкви. Посему, протестанты очевиднейшим образом не принадлежат к Церкви Христовой.
IV. Другие вопросы, касающиеся священства
1) О духовных отцах.
Нарушают ли православные заповедь Христа, когда называют священников отцами, а также именуют некоторых древних церковных учителей и писателей "отцами Церкви"? Процитируем слова Христа, из-за которых и возникает у протестантов данный вопрос: "А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос" (Мф. 23:8-10). Думаю, что нам не нужно быть мудрым Соломоном или Даниилом, чтобы ясно понять, что заповедь Христа "отцом себе не называйте никого на земле" никак не может пониматься в абсолютном смысле слова, как полное запрещение, и вот тому ясные причины.
Во-первых, в одной из десяти заповедей сказано: "почитай отца твоего" (Исх. 20:12; ср. Лк. 18:20; Еф. 6:2), отца, конечно же, по плоти. И ап. Павел в своих посланиях называет плотских отцов именно этим словом: "отцы, не раздражайте детей ваших" (Еф. 6:4; Кол. 3:21). Отцами называли евреи также своих предков. Например, апостолы Пётр и Павел, и первомученик Стефан, знавшие, естественно, о заповеди Христа "отцом себе не называйте никого на земле", называют своих предков "отцами" (см. Деян. 7:11,15,39,45; 2 Петр. 3:4; 1 Кор. 10:1). Неужели они преступили этим заповедь Христа? Таким же образом называют своих прародителей цари Давид и Иосия, пророк Исаия и многие другие (Пс. 21:5; 77:3; 105:7; 4 Цар. 22:13; Ис. 64:11; ср. Быт. 46:34; Чис. 20:15; Неем. 9:16). Более того, Сам Бог называет предков евреев "отцы ваши" (Пс. 94:9; Евр. 3:9). Все люди, в том числе и сами протестанты, называют своего земного отца не иначе, как отцом. Зачем же они его так называют, если Христос прямо сказал "отцом себе не называйте никого на земле"? Очевидно, что данный запрет Христа никак нельзя понимать буквально.
Во-вторых, если протестанты скажут, что Христос позволял, конечно же, называть плотских родителей и прародителей отцами, но запретил называть людей духовными отцами, то и это неправда, ибо Библия даёт нам самые твёрдые основания называть отцами не только своих родителей и предков, но и духовных отцов. Ап. Павел пишет к коринфянам "...вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе" (1 Кор. 4:14). Вот, мы ясно видим, что ап. Павел прямо называет себя отцом коринфян, отцом, конечно же, духовным, а не плотским. Почему же протестанты не обвиняют за это ап. Павла? Похожие слова говорит Апостол и галатам: "Дети мои, для которых я снова в муках рождения..." (Гал. 4:19). Так как галатийские верующие были детьми ап. Павла, которых он родил, то, очевидно, он считал себя их отцом, и никак не плотским, а духовным. Тимофея также ап. Павел называет "истинным сыном в вере" (1 Тим. 1:2). Соответственно, ап. Павел приходился ему отцом в вере, другими словами - духовным отцом[Подобные отношения, духовного отца и сына, были и в Ветхом Завете между Илиёй и Елисеем, который называл своего учителя "отец" (4 Цар. 2:12)]. Ап. Иоанн также неоднократно обращался к своим адресатам "дети" (см. 1 Ин. 2:1;18,28; 3:7), полагая, естественно, что он им отец, и отец, бесспорно, духовный, а не плотской. Например, Уильям Баркли, соглашается с этим, говоря: "Иоанн понимает под детьми не малолетних, а христиан, духовным отцом которых он был"[Толкование на 1 Ин. 2,12-14].
Опять мы видим, что запрет Христа называться отцами нельзя понимать как полный запрет не только в отношении плотских родителей и предков, но и в отношении духовных отцов, иначе нужно признать, что апостолы Павел и Иоанн согрешали, называя себя и других духовными отцами.
Важно заметить, что многие обвинения против православных, подобные тому, что они называют своих священников духовными отцами, придумали протестанты не сразу. В первые же годы своего существования протестанты ещё не так далеко отошли от истины и здравого смысла, и подобных аргументов не выдвигали. Томас Ватсон, например, живший в XVII веке, который из-за перевода и издания его книг на русском языке приобрёл сейчас большую известность в среде постсоветских баптистов, был ещё далёк от современного скудоумия протестантизма. Он вовсе не противился названию "духовный отец", и при разборе пятой заповеди даже распределил отцов на пять категорий: "политических, древних, духовных, домашних и природных". В отношении духовных отцов он, между прочим, писал: "Есть также духовные отцы - пасторы и служители. Они являются инструментом для рождения свыше. "Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием" (1 Кор. 4:15). Духовных отцов нужно почитать за их служение. …есть верные служители, чья работа - приводить души ко Христу, и которые, являясь духовными отцами, заслуживают почитания. (…) Почитайте своих духовных отцов, став их защитниками, уничтожая клевету и злословие, которые несправедливо предъявляют им…"[Томас Ватсон, "Десять заповедей", изд. Dutch Reformed Tract Society, 2002 год, сс. 201-202]. Поэтому, даже многие именитые протестанты, такие как Т. Ватсон и У. Баркли, использовали и совершенно спокойно относились к термину "духовный отец".
О духовных отцах отлично сказал св. Василий Великий: "Ибо первый, самый истинный отец есть Отец всех; а второй после Него - наставник в духовном житии"["Православная Церковь в её таинствах…, с. 414].
В-третьих, в одной и той же речи (Мф. 23:8-10) Христос запретил Своим ученикам называться не только отцами, но и учителями и наставниками. Но в то же время, сама Библия в других местах говорит, что "иных Бог поставиemл в Церкви… учителями" (1 Кор. 12:28; ср. Еф. 4:11), а ап. Иаков говорит: "Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению" (Иак. 3:1), предполагая тем самим, что некоторые в Церкви могут быть и называться учителями. В Церкви, также, могут быть и наставники: "приветствуйте всех наставников ваших" (Евр. 13:24); "у вас тысячи наставников во Христе" (1 Кор. 4:15). Что же мы видим: Христос заповедал не называться учителями и наставниками, так как у нас один Учитель и Наставник, а Апостолы утверждают, что в Церкви есть и другие учителя и наставники! Ведь если протестанты на основании Мф. 23:8-10 обвиняют православных в нарушении заповеди Христа, то тогда логически с таким же основанием они должны обвинять и апостолов Павла и Иакова за то, что они некоторых людей, а не только одного Христа, называет учителями и наставниками.
И, важно заметить, что постоянно ставя в упрёк православным запрет Христа называть кого-либо отцами, баптисты, например, действительно избегая называть кого-либо духовными отцами, иногда называют своих пасторов учителями и наставниками; учителями называют они и преподавателей воскресной (а также общеобразовательной и музыкальной) школы, не отдавая себе отчёт в том, что в одном и том же слове Господь запретил называть кого-либо не только отцами, но и учителями и наставниками! Где же смысл и последовательность в протестантском учении и практике? Её и близко нет. Но баптистам не стыдно противоречить самим себе, лишь бы был повод упрекнуть и осудить Православие.
Кстати сказать, протестантское мышление и система богословствования во многих вопросах делает одну и туже типичную и серьёзную логическую ошибку. Вот протестант встречает в Новом Завете указание на то, что Христос есть Первосвященник (о чём мы выше говорили) и делает из этого совершенно неверный вывод: значит, других священников быть не может. Другой пример - Христос называется Ходатаем и Посредником: значит, - делают вывод протестанты, - других ходатаев и посредников быть уже не может[Об этом мы подробно говорили в главе 4]. Или же, если Бог есть наш Отец, то значит, других отцов быть у нас также не может[Хотя, повторю, на слова "учитель" и "наставник" баптисты этот запрет не распространяют]. В результате чего баптисты обвиняют православных в том, что они не только Христа, но и людей называют священниками, ходатаями, посредниками и отцами.
На самом же деле, многими наименованиями, которыми называет Библия Бога, она называет и человека. Вот главные примеры.
1. Христос назван Пастырем (Ин. 10:11), но и другие члены Церкви называ, а также: ются пастырями (1 Пет. 2:1).
2. Христос именуется Князем (Ис. 9:6), но и Авраам, Архангел Михаил и другие именуются тем же титулами (Быт. 23:6; Дан. 12:1; 1 Пар. 12:27).
3. Бог называется Царём (Пс. 46:8), но и Давид, Соломон и другие люди также называются царями.
4. Христос Бог множество раз назыВозник вопрос, кто может преподать первое крещение. До 1860 года на Украине такого служителя не было. Первое крещение по вере полным погруже том, кем были рукоположены первые их пресвитеры. Так, в этой книге мы часто встр/strongечаем такие указания: нием состоялось 23 сентября 1860 года в водах реки Курушан… Служители общины Яков Беккер и Генрих Бартель, на которых для выполнен emия акта крещения были предварительно молитвенно возложены руки (вается в Новом Завете Господом, то есть господином (по греч. ![]() - кюриос), но этим же греческим словом называется и ап. Филипп, и старец, говоривший с ап. Иоанном, и другие люди (Ин. 12:21; Гал. 4:1; Отк. 7:14).
- кюриос), но этим же греческим словом называется и ап. Филипп, и старец, говоривший с ап. Иоанном, и другие люди (Ин. 12:21; Гал. 4:1; Отк. 7:14).
5. Бог назван Отцом, и люди называются отцами. 6. Бог назван Учителем, и люди называются учителями.
7. Бог назван Наставником, и люди называются наставниками.
8. Христос называется Спасителем (1 Тим. 4:10; Еф. 5:23), но и себе и другим людям ап. Павел усвояет возможность спасать других (Рим. 11:14; 1 Тим. 4:16; 1 Кор. 7:16).
9. Бог называется Богом, но и людей Бог, святой пророк Давид и Сам Христос называет богами в положительном смысле слова (Исх. 4:16; Пс. 81:6; Ин. 10:34).
Как же это понять, и почему Библия называет людей такими же именами, как и Бога?
Во-первых, во всех подобных случаях, Бог (Христос) называется в высшем смысле, так сказать, с большой буквы: Учителем, Наставником, Отцом, Пастырем, Спасителем и т.д., а люди - в низшем смысле, с маленькой буквы.
Во-вторых, к Богу непосредственно относятся все эти определения, а к человеку - посредственно (относительно). То есть, Христос спасает Сам Собою, а человек можем спасать других только приведением их ко Христу, истинному Спасителю. Только Христос наставляет людей на Свой путь истинный; наставники же церковные призваны наставлять других не на свой, а на Христов путь. Только Христос есть Учитель Церкви; другие же учителя в Церкви должны учить других не своему, а тому, чему сами научились от Христа. Только Бог есть истинный Отец, духовно Своей силой возрождающий людей к новой жизни; священник же, наставляя людей в вере и возрождая их в Крещении[Кстати сказать, священников называют отцами прежде всего потому, что они совершают Таинство Крещения, через которое человек и рождается духовно], рождает их не своей, а данной ему от Бога властью. Только Бог есть Царь мира; другие же цари царствуют соответственно тому, сколько власти дано им от Бога, Царя Царей, как говорил о том Иисус Пилату: "ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше" (Ин. 19:11). Только Христос есть непосредственный Священник Церкви; другие же священники священнодействуют силой не своей, а Христовой, и т.д. Иначе говоря, Христос разделяет Свое служение в Церкви со своими "соработниками" (1 Кор. 3:9), и сам через них всё совершает: учит, наставляет, рождает, священствует, ходатайствует, царствует и т.д. Если понять этот важный, ключевой принцип взаимоотношения Бога и человека, то целый пласт протестантских вопросов и недоумений насчёт Православия будет разрешён. Но в том всё и дело, что протестанты не понимают этого простого принципа, потому они постоянно напрасно обвиняют православных. Итак, когда православные называют кого-либо священниками, отцами, учителями, наставниками, посредниками, ходатаями, пастырями и под., они не умаляют тем самим Христа, потому что называет людей этими именами 1) не в высшем и 2) относительном смысле.
В. Трубчик, например, так объясняет то "противоречие", что Христос запретил называть кого либо на земле учителями, а апостол Павел называет людей учителями: "Читающие Библию находят, что Бог поставил в церкви учителей (Еф. 4:11). Ап. Павел говорит, что он поставлен учителем язычников (1 Тим. 2:7). Как же тогда понимать заявление Христа, что Он является единственным Учителем? Ответ кроется в самом учении. Имел ли ап. Павел свое собственное учение, отличающееся от учения Иисуса Христа? Нет!!! Если он чему-то учил, все это, до последней йоты, было согласовано с учением Господа Иисуса Христа. Никто из апостолов не имел своего учения. Иоанн, будучи на острове Патмос, не предлагает церквам своего откровения, а "Откровение Иисуса Христа" (Откр. 1:1)"["Вера и традиция", гл. 2]. Благодарю вас, дорогой Василий, хоть за одну здравую православную мысль! Именно так понимают этот вопрос православные. Именно потому они называют святых И. Златоуста, В. Великого и других учителями Церкви, что ясно видят в их учении не какое иное учение, как растолкование Христового учения. По этой причине они называют их и отцами Церкви, поскольку через изложение и изъяснение Христового учения они многих возродили и возрождают к Вере. И отцами Церкви называются только те пастыри, в творениях которых явлена особая святость и мудрость, как замечает о том арх. Филарет Гумилёвский: "…те древние учители, в которых история не отличила никаких особенных добродетелей, а писания не показывают близости ума к уму Христову, по справедливости должны быть названы только церковными писателями, но не отцами церкви"["Историческое учение об отцах Церкви", Москва, 1996 г., с. XII]. Хорошо понял этот принцип, слава Богу, и протестантский профессор Д. Ферберн. Он говорит о православных, что "они слушают отцов Церкви потому, что отцы слушали Писание"["Иными глазами", "Заключение", с. 237].
Итак, вывод совершенно очевиден: в Мф. 23:8-10 Христос не запретил в абсолютном смысле называться отцами (а также учителями и наставниками). Положительный смысл этой заповеди такой: во-первых, верным запрещено называть кого-либо, даже из святых Божиих людей, Отцом, Учителем и Наставником в высшем, собственном смысле; во-вторых, даже в низшем смысле запрещено называть этими словами тех, кто не учит Христовому учению. И Церковь следует этой заповеди.
Во-первых, она никого из своих отцов, учителей и наставников не называет и не считает таковыми в собственном смысле, а только в относительном, которые точно и верно учили не своему собственному, а Христовому учению.
Во-вторых, она никогда Будду, Мухаммеда, Муна, Виссариона, Ч. Рассела, М. Лютера, Франциска Асийского и сонм подобных лжеучителей и проповедников, которые учат лжи или сильно искажают Христово учение, не называет своими отцами, учителями и наставниками.
Теперь несколько слов о значении некоторых православных титулов, которыми (из-за скудости и усечённости протестантского богословия, и склонности к упрощенству) не пользуются протестанты, и которые, естественно, вызывают у них недовольство.
Святейший (патриарх). По этому поводу протестанты едко замечают, что в Библии Бог называется святым (напр. Авв. 1:12; Ис. 48:17), а патриарха православные называют святейшим (равно как и Богоматерь "Пресвятой"). Как же это объяснить? Всё дело в том, что "святой" значит "избранный, отделённый", что протестанты хорошо знают. Патриарх же потому святейший, что он избраннейший, и отделён для самого святого и высокого служения в Церкви, а вовсе не потому, что православные считают его святее Бога. (Точно так же и Богоматерь: Пресвятая Она потому, что Она самая избранная из всего человечества, а также потому, что лично освятилась больше всех других людей).
Патриарх значит: начальник отцов. Титул этот справедлив, ибо в Церкви есть много отцов, а патриарх главный из них.
Митрополитом называется епископ, поставленный для управления Церкви большой области.
Архиепископом называется заслуженный епископ.
Преосвященный - титул епископа, который называется так потому, что он в своей области есть самый посвящённый; он призван к самому высокому священническому служению.
Инок - другое название для монаха. Это слово значит "иной" (по отношению к образу жизни обычных людей).
Игумен - начальник монастыря.
Архимандрит - 1) титул, которым награждаются заслуженные священники; 2) начальник главного монастыря в епархии.
Настоятель - главный священник в Храме.
2) О целовании руки священникам (и епископам).
Это действо нужно понимать только в общем контексте православного отношения к священникам как к Божьим служителям, в которых живёт Своим Духом и через которых священнодействует Сам Христос. Целование руки происходит именно в тот момент, когда прихожанин испрашивает у священника благословения, говоря: "батюшка, благословите". Священник отвечает: "Бог благословит", и осеняет просящего правой рукой крестообразно. Причём, пальцы рук священник складывает особым способом, так что они символически образуют имя "Иисус Христос": такое сложение руки называется "Христоименитым перстосложением"[При этом указательный палец держится прямо и обозначает букву "и"; средний немного сгибается, обозначая букву "с"; безымянный сгибается сильнее и на него полагается большой палец, и совместно они образуют букву "х"; мизинец сгибается как средний палец. Таким образом, образуются буквы "ис" и "хс", обозначающие имя Иисуса Христа. Такой же смысл имеет это сложение руки и в греческом языке]. (Этим действом, кстати сказать, Церковь исполняет Божью заповедь: "пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их" (Числ. 6:27)). Таким образом, можно сказать, что православный человек в мистическом смысле целует руку не священнику как человеку, а самому Христу, благословляющему человека рукою Своего священника.
А в то, что Христос может вот так действовать посредством человека вовсе не трудно верить, если хорошо понимать ту истину, что Церковь есть Тело Христово, и как голова действует посредством членов тела, так и Христос действует посредством Церкви, и, прежде всего, посредством поставленных Им пастырей. К тому же, протестанты и сами в других случаях хорошо понимают этот принцип, когда читают, например, такие слова: "Бог… предвозвестил устами всех Своих пророков... говорил Бог устами всех святых Своих пророков" (Деян. 3:18,21). То есть, пророки говорили своими устами, но все мы понимаем, что мистически их устами говорил Сам Бог. Ап. Павел говорил также: "уже не я живу, но живёт во мне Христос" (Гал. 2:20). Вот так и в священстве живёт и действует (в определённом смысле) Сам Христос. Именно Он послал и поставил в Церкви священников, которых, по словам Христа и учению древней Церкви, нужно почитать и принимать как Самого Господа. Поэтому при благословении священника благословляет Сам Христос, а потому и целуется прежде всего благословляющая десница Христова.
Итак, целуя руку священника прихо[жанин прежде всего целует руку Самого Христа. Но он, конечно же, целует и руку священника (как и устами Давида говорил не только Бог, но и сам Давид). Но и в этом нет ничего предосудительного, ибо такая честь воздаётся священнику только в связи с тем, что он совершает великие священнодействия, Таинства. Через руку священника верующие приняли Крещение и возродись к новой жизни; чедуховный отецрез руку священника Господь дарует верным Духа Своего Святого; через руку священника Господь отпускает грехи в таинстве Исповеди, а главное - причащает верных Своими Телом и Кровью, как правильно говорит о том священник А. Мень: "Обычай целовать руку епископа (или священника) напоминает о том, что эта рука держала Св. Чашу Евхаристии"[А. Мень "Православное богослужение: таинство, слово и образ". - Москва, 1991 г., с. 140].
Именно понимание и осознание того, что посредством руки священника Бог дарует верным такую благодать и спасение и создало обычай целования руки священника, которая почитается как святыня, как орудие нашего спасения. И если Божьим людям, пророкам и царям, и даже обычным людям в знак почтения поклонялись до земли; если Мария целовала даже ноги Христу, то мы вовсе не должны считать для себя унижением поцеловать руку Божьему священнику, эту благословляющую десницу Христа. К тому же, это есть весьма полезное дело, которое научает прихожанина смирению, послушанию и, главное, глубокому уважению церковных Таинств и благодати священства.
Можно сказать, также, что целование руки священнику есть один из способов исполнения евангельской заповеди: "достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь" (1 Тим. 5:17). Каким же образом нужно оказывать эту сугубую честь пресвитерам? Седьмой из восьми принципов герменевтики, которую нам преподавали в ДХУ, гласит так: "толкование отличается от применения"; и этот принцип, конечно же, справедлив. Применений и форм выражений у одной заповеди может быть множество. Поэтому, соборным разумом Церковь определила, что целование руки священника есть один из достойных способов исполнения этой заповеди[Вовсе не нужно считать, что данный обычай есть незыблемый догмат Церкви. Часто священники при благословении дают людям целовать не руку, а крест, или вместо целования возлагают руку на голову. Многие священники стараются именно так делать особенно в тех случаях, когда благословения просит человек незнакомый, не церковный или мало верующий, чтобы не смущать его слабую веру].
Таким образом, если бы протестанты признавали Таинства; если бы они понимали, что через священника незримо священнодействует сам Христос; если бы они исполняли заповедь Апостола о почитании и воздаянии пресвитерам "сугубой чести" и имели бы достаточно смирения; если бы уважали наставления Христовых пастырей и исповедников, таких как св. мученик Игнатий, увещевавший почитать священство как Христа, Апостолов и пророков, то они бы не противились этому церковному обычаю.
Считать же, что священники велят народу целовать им руки по превозношению, а не ради почтения Самого Христа и благодати священства, нельзя, ибо сами священники, приветствуясь, целуют друг другу руку. И хотя они равны между собою по благодати, таким целованием они проявляют не своё превозношение, а взаимное уважение именно к благодати священства, которая им дарована, к деснице, через которую благословляет и священнодействует Сам Христос.
3) О ношении длинных волос.
Почему православное священство (и монашество) носит длинные волосы, если написано: "Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него" (1 Кор. 11:14). Прежде всего, ответим на такой вопрос: природа стала учить этому со времени Нового Завета, или она научала тому и раньше? Бесспорно, природа учила и учит этому всегда. Тем не менее, в Ветхом Завете назореям было строго запрещено стричь волосы: "Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он" (Числ. 6:5). И, как мы знаем, огромная сила, данная Богом Самсону, и благодать и благословение Господни пребывали с ним, пока он не стриг своих волос; как только он лишился своих волос, Господь отступил от него; отошла и его сила (Суд. 16:19, 20). Пророк Самуил также никогда не стриг волос, как сказал о том Ангел его матери: "ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий" (Суд. 13:5).
Итак, природа действительно учит нас тому, что длинные волосы - бесчестье для мужчины: это общее правило для всех. В тоже время, из этого правила Сам Бог сделал исключение, и повелел назореям, посвятившим себя Богу, не стричь волосы. Израильтяне все были посвящены Богу, но назореи были именно теми людьми, которые сугубо, особо посвящали себя Богу. Таким образом, православные священнослужители (и монахи) по этому определению являются новозаветными назореями, ибо они, будучи уже посвящёнными Богу в Крещении, были посвящены Ему ещё особенным образом: священство через рукоположение, а монашество через особые монашеские обеты. Потому они, как и ветхозаветные назореи, носят на себе знак особого посвящения и не стригут волосы. Хотя, нужно понимать, что в Церкви священники и монахи это не ветхозаветные назореи, ибо Церковь не живёт по Ветхому Завету. Там назореям было предписано не касаться мёртвых и не пить вина. В Новом же Завете этих запрещений для священства и монашества нет[О винопитии отдельно будет сказано в главе о Церкви].
Не стричь же волосы как знак особого посвящения Богу Церковь удержала, и прежде всего потому, что Сам Христос носил длинные волосы, что ясно видно на Туринской плащанице и на древних иконах. И протестанты с этим не спорят: в их детских Библиях и фильмах о Христе Иисус носит бороду и длинные волосы. И протестанты, естественно, не считают, что Христос поступал против природы, научающей, что длинные волосы - бесчестие для мужа. Просто в Божьем мире часто один закон уступает место другому, более высшему.
Поэтому, священник или монах, нося в подражание Христу длинные волосы, то есть - нося своё посвящение на своей главе (ср. "посвящение его на главе его" - Числ. 6:7) не согрешает против природы. В этом, конечно же, для него остаётся по природе бесчестие, но такое бесчестие (поругание Христово - ср. Евр. 13:13), он несёт перед миром ради Христа. Ношение длинных волос есть часть креста православного священства и монашества. И нужно заметить, что именно современная, имеющая место среди православного священства, тенденция постригать волосы и носить "символические", коротко стриженные бороду и усы, справедливо рассматривается ревнителями чистоты Православияbr / как нарушение церковных канонов, как преступная уступка миру и духу времени, как отказ и нежелание священников нести свой крест и бесчестие ради Христа.
Важно понять также глубинную причину того, почему назореи носят длинные волосы. Христ (Евр. 13:24); ос во время Своей жизни, как было сказано, носил длинные волосы. После Своего воскресения и вознесения на небеса Он, естественно, не постригался, и пребывает в Своём, но прославленном Теле. То есть, вечный образ Сына Божия всегда был, есть и будет один и тот же, и неотъемлемая часть этого образа есть борода и длинные волосы. Христос же есть истинный образ Божий. Адам также был сотворён по этому образу, то есть с бородой и длинными волосами. Необходимость же стричь волосы появилась в следствии сотворения женщины, ради разделения полов.
Хочу отметить также, что если сравнить, например, образы седовласых оптинских старцев, с длинными волосами и густыми бородами, с образами протестантских пасторов, то совершенно очевидным становится тот факт, что первые имеют несравненно более духовный и благородный вид, чем последние. Очень заметно, также, что когда священник стрижёт волосы и носит коротенькую постриженную бородку, то вид его становится весьма безблагодатным, особенно когда он находится в священническом облачении. То есть, всякий дух ищет себе форму, и Дух Святой усмотрел и создал для Себя (для священства, в котором Он желает жить и действовать преимущественно) вот такую форму, и если священник изменяет её, то есть стрижёт волосы и бреет бороду, то это грех, и Дух не может проявлять Себя в таком священнике так, как в том, который поступает по истине.
Здесь уместно, кстати, о бороде сказать отдельно. Ведь протестантские пресвитеры не носят не только длинных волос, но и бороды, хотя ношение её никак не является бесчестием для мужчины. Напротив, практически всегда, во все времена, во всех культурах и народах, особенно христианских, мужчины носили бороды. Когда Аннон хотел оскорбить Давида, то он обрил его слугам бороды: "И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их. И велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь" (2 Цар. 10:4,5).
Древнехристианский писатель Марк Минуций (ум. 210 г.), критикуя языческих богов, высмеивает безбородый вид Аполлона: "Что же сказать о формах и внешнем виде ваших богов? Не выражается ли в них безобразие и отвратительность ваших богов? Вулкан - бог хромой и немощный; Аполлон столько веков безбородый"[Октавий, глава 21]. То есть, в понимании древних евреев (равно как и понимании древней Церкви) бриться для мужчины было бесчестием и позором!
На Руси, например, мужчины всегда носили бороды. Если посмотреть на фотографии лидеров баптистов XIX и начала XX веков, таких как Н. Воронин, В. Павлов, В. Иванов, Д. Мазаев и прочих[Эти фотографии можно увидеть, например, в книге "История ЕХБ в СССР"], то мы увидим их с густыми не постриженными бородами. Мода же бриться пошла от Пётра I, который, приехав из Европы (где масоны уже имели большое влияние и успели внедрить моду на бритьё) и заразившись её духом, стал рубить боярам бороды. Но нововведение это не было повсеместным, а касалось, по сути, только дворян. Полное же уничтожение и выведение из употребления ношения бороды произошло в России только после атеистической революции 1917 года. Протестантизм же полностью подпал под влияние этой масонской моды. Если сегодня русский или украинский баптист перестанет брить усы и бороду, то он вызовет на себя осуждение, непонимание и отторжение. Таковой если и не будет отлучен от церкви, то всё же будет восприниматься баптистами, как правило, как человек больной духовно (или даже психически), как человек совершенно неадекватный, а потому и не совсем свой.
В древней же Церкви носить бороду мужчинам было правилом. Так, в "апостольских постановлениях", например, рядовым верующим мужчинам предписывается стричь волосы, но не бороду: "волос космы своей не отращивай, но лучше подрезывай и обстригай ее… Ибо тебе, верующему и человеку Божию, непозволительно отращивать волосы на голове и собирать их воедино, то есть в косу, или завивать их, или беречь их неостриженными, равно как взбивать их, или чрез расческу и завивку делать их кудрявыми, или подкрашивать их. Это и Закон возбраняет, говоря во Второзаконии: "не сотворите себе из волос головы ни отращивания, ни извитий". Не должно также и на бороде портить волосы и изменять образ человека вопреки природе. "Не обнажайте, говорит Закон, бород ваших". Ибо сие Создатель Бог сделал пригожим для женщин, а мужчинам признал Он непристойным. Ты же, обнажающий бороду свою, чтобы нравиться, как сопротивляющийся Закону, мерзок будешь у Бога, создавшего тебя по образу Своему"[Книга 1, 4].
Посему, мужчинам должно стричь волосы на голове, но отращивать бороду; священникам же не должно стричь не только бороды, но и волос на голове. Именно таких принципов Церковь во все времена по большому счёту придерживалась. И только в последнее время, время активной масонской пропаганды, эти принципы были в мире нарушены. Одни мужчины стали бриться, а другие, не будучи священниками и монахами, стали растить длинные волосы. Православная же Церковь если и не заставляет сегодня мужчин обязательно носить бороду, понимая, что живущим в современном мире понять и исполнить это бывает весьма не просто, то она всегда приветствует то, если её сыны носят бороды. Это говорит о том, что в вопросе образа мужчины протестанты отдалились от истины и древнееврейской и древнецерковной практики куда больше, чем православные.
Итак, природа учит нас не только тому, что для мужчины неестественно растить волосы на голове, а и тому, что для него совершенно естественно растить бороду, иначе для чего Бог создал её? Для того ли, чтобы ежедневно с нею бороться посредством бритья? Поэтому, православные священники носят бороды и не стригут волосы, как новозаве относятся все эти определения, а к человеку - посредственно (относительно). То есть, Христос спасает Сам Собою, а человек можем спасать других только приведением их ко Христу, истинному Спасителю. Только Христос наставляет людей на Свой путь истинный; наставники же церковные призваны наставлять других не на свой, а на Христов путь. Только Христос есть Учитель Церкви; другие же учителя в Церкви должны учить других не своему, а тому, чему сами научились от Христа. Только Бог есть истинный Отец, духовно Своей силой возрождающий людей к новой жизни; священник же, наставляя людей в вере и возрождая их в Крещениитные назореи. И именно такой образ мужа подобен Христовому. Стриженное же и бритое католическое и протестантское духовенство, не только остригая волосы, но и брея усы и бороды, как раз таки бесчестит себя этим, поступая против природы.
Итак: Библия и древняя Церковь ясно учит тому, что члены Церкви не равны между собою, но разделяются на овец и пастырей, которым в Таинстве Хиротонии сообщается особая благодать Духа Святого, которую Христос передал Своим Апостолам при дуновении, и которой Он вовсе не дал всем верующим. Кроме того, священство из начала было разделено в Церкви на три чина, как в Православии, а не на два, как в протестантизме. Протестанты, самовольно отказавшись от епископского чина как такового, сделали себя в принципе неспособными быть Церковью Христовой, ибо как без Апостолов, так и без епископов, их приемников, нет Церкви. Более того, протестанты не имеют преемственности священства, и произошли сами от себя, самозвано и самочинно учредив свои новые "церкви" и своё "священство".
Таким образом, все, кто участвует в "священнодействиях" протестантских пасторов, и принимает от них крещение, руковозложение, хлеб и вино при хлебопреломлении, а особенно рукоположение на диаконство или пресвитерство - святотатствуют и кощунствуют, являясь духовными учениками и последователями Дафана и Авирона.
Всё это есть важнейшая причина, по которой лично я и многие другие протестанты, узнав в своё время все эти истины, приняли Православие; по этой же причине и мой протестантский читатель, который осознал всё это только сейчас, также не сможет больше оставаться протестантом, если только он действительно любит Истину и искренно ищет себе спасения.
Вопрос о крещении логически необходимо разделить на два главных подвопроса: о сущности крещения и о детокрещении.
I. О сущности крещения
Суть разногласия протестантов с православными по вопросу крещения заключается в следующем. Православные считают, что для
1) прощения грехов,
2) возрождения,
3) спасения,
4) соединения со Христом (то есть, для присоединения к Церкви, Телу Христа), и
5) приготовления к получению дара Духа человеку нужно не только уверовать во Христа и раскаяться во грехах, но и креститься; что только в крещении, и не раньше, человек всё это получает, и только после крещения (в Таинстве Миропомазания) ему подаётся Дух Святой.
Протестанты же считают, что всё вышеперечисленное и сам дар Святого Духа человек получает в тот момент, когда открывает своё сердце для Христа и произносит первую покаянную молитву пред Богом. И только такому человеку, который (по мнению протестантов) всё это уже имеет, протестанты преподают крещение. Пастор артёмовской общины баптистов, где я вырос, на занятиях с готовящимися принять крещение, - для их успокоения и радости, а также, чтобы они не настаивали на своём скором крещении и терпеливо ожидали положенное для испытания время, - часто говорит им, что если вы уверовали и покаялись, то вам уже прощены грехи, вы уже возрождены и спасены, вы уже принадлежите к невидимой Церкви Христовой, вы уже во Христе и со Христом, вы уже имеете Духа Святого. И об этом единогласно учат все протестанты.
Так, например, Ч. Сперджен говорил: "Крещение не возрождает ни праведного, ни нечестивого. …исполнение крещения… вовсе не может возрождать и спасать. (…) Нельзя верить в возрождение посредством крещения (…) не может быть и речи о том, что Он (Бог) дарует возрождение посредством этого крещения". А также: "мы протестуем против спасения крещением… мы признаём, что никто не спасётся крещением. (…) КРЕЩЕНИЕ НЕ СПАСАЕТ ДУШУ"[Проповедь "Возрождение через крещение?"]. "…крещение не спасает", вторит Ч. Сперджену Сэмюэль Уолдрон["Современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года", изд. "Мирт", СПб, 2000 г., с. 399]. То же самое утверждает и П. Рогозин: "Крещение никого не спасет… Крещение является как бы подтверждением того, что дар спасения нами уже принят, что Голгофская жертва и Дух Святой уже совершили дело спасения в нашем сердце: что мы уже приняли дарованную нам жизнь во Христе и наслаждаемся ею"["Откуда всё это появилось?", глава "Крещение"]. О крещении гово 4) соединения со Христом (то есть, для присоединения к Церкви, Телу Христа), ирит и Г. Тиссен: "Обряд крещения является символом отождествления верующего со Христом… водное крещение не производит отождествления, а только предполагает и символизирует его"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", изд. "Логос", 1994 г., с. 352]. О том же пишет Ч. Райри: "Крещение символизирует покаяние и прощение грехов (Деян. 2,38; 22,16), соединение со Христом (Рим. 6,1-10)… (хотя само по себе оно не производит ни прощения грехов, ни всего другого, что перечислено выше)"[Чарльз Райри. Основы богословия. М. 1997 г. с. 501], и И. Проханов: "Крещение водою есть внешний знак совершившегося в душе ранее крещения Духом Святым"["История баптизма, вып. 1., изд. "Богомыслие", 1996 г. с. 451].
И все протестанты говорят о крещении только в таком ключе - как о символе того, что уже совершилось раньше. Таким образом, если в Православии крестят для того, чтобы спасти человека, соединить его со Христом и возродить к новой жизни, то протестанты проповедуют "водное крещение (уже) возрождённых душ"["История ЕХБ в СССР", с. 62].
Крещение также делает протестанта членом поместной церкви (общины), после чего ему позволяется участвовать в хлебопреломлении и присутствовать на закрытых, членских собраниях. Это также подтверждает Г. Тиссен: "Но крещение не только символизирует отождествление обращённого со Христом, но оно является также видимым средством отождествления раскаивающегося с поместным телом верующего. Когда он становится членом Тела Христова, ему надлежит отождествить себя с поместным собранием"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", изд. "Логос", 1994 г., с. 353].
Заметим, что в понимании протестанта он ещё до крещения становится "членом Тела Христова", а значит и прощение грехов, и возрождение, и спасение, и сам дар Духа Святого Духа протестант получает, по его мнению, никак не в крещении, а ещё до крещения посредством личной веры и покаяния! Таким образом, для протестанта стать членом Церкви (Тела) Христа, и членом поместной церкви - совершенно разные понятия.
Итак, как видим, понимание сути крещения православными и протестантами совершенно разное. Поэтому, в данной главе нам нужно решить вопрос: человек возрождается, спасается, получает прощение грехов, становится членом Тела Христова, приготовляясь к получению дара Духа Святого, в крещении - или же всё это, в том числе и Самого Духа Святого, он получает не через крещение, а через покаяние, а последующее крещение лишь только символизирует всё это?
Начнём с Библии и рассмотрим главные места, говорящие о крещении.
Деян. 2:38: "Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа". Последовательность вполне конкретна: 1) покаяние; 2) крещение; 3) получение дара Святого Духа. Самаряне стали христианами именно таким путём. Они 1) уверовали и покаялись, "приняли слово Божие", 2) крестились и только потом 3) приняли Духа Святого (br /см. Деян. 8:14-17). Таким же образом всё произошло и с ефесянами (Деян. 19:1-7). Так же и евнух сначала 1) уверовал, затем 2) крестился и лишь потом 3) получил дар Святого Духа (см. Деян. 8:37-39)[О причине, по которой дом Корнилия получил Духа Святого ранее крещения, будет сказано в следующей главе].
Протестанты же, в противоречие ап. Петру, говорят: "1) покайтесь для прощения грехов, хи 2) получите дар Святого Духа, а затем 3) да крестится каждый из вас (не для прощения грехов)".
Протестанты, во-первых, грубо искажают последовательность в осущест (Ин. 19:11). Только Христос есть непосредственный Священник Церкви; другие же священники священнодей, и И. Проханов: ствуют силой не своей, а Христовой, и т.д. Иначе говоря, Христос разделяет Свое служение в Церкви со своими влении нашего спасения, а во-вторых, прямо отрицают самые ясные слова о том, что крещение нужно "для прощения грехов"! Эти слова ап. Петра протестанты полностью отвергают; для Церкви же, напротив, они настолько важны, что на Первом Вселенском Соборе в г. Никее (325 г.) они были внесены в Символ Веры: "исповедую единое крещение для прощения грехов"[По церковно-славянски: "исповедую едино крещение во оставление грехов"]. Второй Вселенский Собор в Константинополе (381 г.) ещё раз утвердил данное исповедание. Большинство протестантов заявляет, что признаёт Никео-Цареградский Символ Веры, хотя на самом деле они вовсе не исповедуют "крещение для прощения грехов". В этом вопросе они уклонились от самой основы древней христианской веры, от десятого[Протестанты уклонились также и от девятого члена Символа Веры, который гласит: "Верую… во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь". Подробнее об этом будет сказано в главе "О Церкви"] (из 12-ти) члена Символа Веры, на который многие протестанты, особенно оптимистически настроенные экуменисты, указывают как на важнейший минимум догматов, объединяющий все христианские конфессии. Но протестанты, по сути, полностью отвергают десятый член символа веры, а баптисты, например, исказили не только его понимание, но и его букву.
Так, в баптистском сборнике "Песнь Возрождения" под номером 1111 находится текст Никео-Константинопольского Символа Веры. Но вместо слов "исповедую единое крещение для прощения грехов" у них написано: "признаю одно крещение и прощение грехов", хотя в греческом оригинале ясно сказано: (омологимен эн ваптисма ис афесин амартион). В словаре Баркли М. Ньюмана именно эта фраза из речи ап. Петра (
- для прощения грехов) приводится для объяснения употребления предлога
, который значит к, в, для, но никак не может означать и. Поэтому, протестанты нагло исказили суть и саму букву Символа Веры, а ведь это выражение, взятое из послания ап. Петра - боговдохновенное Слово Божие.
Итак, ап. Пётр и вся древняя Церковь исповедовала, что крещение необходимо для прощения грехов. Протестанты же эту веру отвергли и изменили.
Деян. 22:16. Савлу, который уже искренне и глубоко раскаялся и три дня находился в посте и молитве (см. Деян. 9:9,11), Анания обращает слова: "Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа". Если мыслить по прemотестантски, то ап. Павлу уже были прощены грехи, ведь он покаялся: зачем же их еще омывать в крещении? Очевидно только потому, что человеку прощаются грехи не при первом покаянии, а при крещении. Это место, как и Деян. 2:38, ясно свидетельствует, что крещение необходимо для омытия грехов. Протестанты же, несмотря на ясные слова Писания, совершенно отвергают то, что в крещении человек омывается от своих грехов.
1 Пет. 3:20,21: "…во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа". "Спаслись от воды" буквально с греческого (ди идатос) - через воду, посредством воды[В словаре, например, М. Ньюмана, которым чаще всего пользуются постсоветские протестанты, изучающие греческий язык, слово ??? переводится через, посредством, с помощью, благодаря, из-за. Ной с семейством спасся посредством воды в том смысле, что, во-пер/strong, 2) крестились и только потом 3) приняли Духа Святого (br /см. Деян. 8:14-17). Таким же образом всё произошло и с ефесянами (Деян. 19:1-7). Так же и евнух сначала 1) уверовал, затем 2) крестился и лишь потом 3) получил дар Святого Духа (см. Деян. 8:37-39)вых, вода носила ковчег и спасла его от потопа, а во-вторых, вода истребила нечестивцев, среди которых жить Ною было весьма тяжело. Конечно, здесь использована необычная богословская логика, ибо нам проще понимать, что Ной спасся не посредством воды (не через воду, не с помощью воды, не благодаря воде, не водою), а от воды. Потому здесь синодальные (и многие другие) переводчики отказались от буквального перевода в пользу перевода более удобопонятного]. Ковчег Ноя прообразует Церковь, а вода - крещение. Вот подобно сему образу спасения Ноя от потопа посредством воды спасаются и христиане - посредством воды крещения. И ап. Пётр ясно свидетельствует, что "крещение… спасает"[Если какой ни будь протестант скажет, что слово "спасает" относится не к слову "крещение", а к "обещание", то таковому нужно знать, что в греческом оригинале на этот счёт нет никакой возможности для двойного толкования (хотя его нет и в синодальном переводе для грамотного человека), ибо там эти слова стоят рядом: "спасает крещение". И в церковно-слявянском переводе, известном своей буквальностью, в этом месте написано "нас спасает крещение". Так же и в английском переводе короля Иакова сказано: "save us - baptism", т.е. "спасает нас крещение"]. Протестанты же, как мы видели, противоречат Библии, и учат о крещении с точностью до наоборот сравнительно с учением ап. Пётра, прямо утверждая, что "крещение не спасает".
Мр. 16:16: "Кто будет веровать и креститься - спасен будет; а кто не будет веровать - осужден будет". Здесь, опять же, ясно говорится, что спасён будет не просто тот, кто будет веровать, но тот, кто будет веровать и креститься!
Протестанты все как один на это скажут, что ведь во второй части стиха сказано о том, что осуждён будет только тот, кто не будет веровать. Раз мы веруем, то мы и не будем осуждены, а значит - будем спасены. На самом деле, всё совсем не так. О крещении неверующего Христу не было смысла и говорить, ибо если кто не будет веровать, тот не будет, естественно, и креститься, потому и будет осуждён.
Объясню это на простом примере. Представим, что какой ни будь царь решил по поводу рождения своего сына, наследника престола, раздать всему своему народу дары и послал гонцов объявить о том во всеуслышание. Всякий, кто поверил гонцам и пришёл во дворец царя, получил дар, а не поверившие и не пришедшие не получили ничего. Так вот, об этих людях мы можем сказать, используя такую же схему построения речи, как в Мр. 16:16: "кто поверил и пришёл во дворец - получил дар, а кто не поверил - остался ни с чем". Но разве нам не понятно, что для получения царского дара нужно было и поверить гонцам, и прийти во дворец? Разве мы скажем, что те, кто гонцам поверил, но во дворец не пришёл, также получили дар? Нет, конечно. Так вот, как для получения царского дара нужно и поверить гонцам, и прийти во дворец, так и для получения спасения нужно и веровать, и креститься, ибо в крещении человек именно входит во Христа, в Его Церковь (Тело), облекается в Него. И как не поверивший не пойдёт во дворец (потому и не получит дара), так и неверующий не будет кр у них написано: еститься (потому и не спасётся). Поэтому, мысль Христа вполне ясна: чтобы спастись нужно "веровать и креститься"! Поэтому, спасает не только вера, но и Крещение. Протестанты же своими хитросплетёнными мудрствованиями извращают слова Христа: Он говорит: "кто будет веровать и креститься - спасен будет", а протестанты говорят: "кто будет только веровать, и не обязательно креститься - спасён будет".
Еф. 5:25-26: "Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова". Как известно, основной составляющей бань в древности были купели. То есть, Христос освятил Церковь, очистив (естественно, от грехов, а не от плотской нечистоты) купелью водной: разве не понятно, что речь идёт о крещении? Уместно указать, что крещение издревле называлось в Церкви именно банею, банею водною и купелью.
Протестанты говорят: здесь ведь написано, что Церковь освящена "посредством слова"! Это бесспорно так.
Во-первых, при крещении произносится крестильная формула, заповеданная Христом: "во имя Отца и Сына и Святаго Духа". То есть, крещение обязательно происходит при посредстве произнесения этих крестильных слов, как писал о том блаженный Августин: "Что есть крещение Христово? Купель воды с произнесением слов; отними воду, - нет крещения; отними слова, - нет крещения"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 324]. В "Постановлениях Апостольских" (кн. 7, п. 44) мы также находим утверждение о том, что крещение бывает действительным только при посредстве произнесения крестильной формулы: "Ибо если бы какое-либо таковое возглашение бывало от благочестивого священника не над каждым, то погружающийся только сходил бы в воду, как иудеи, и отлагал бы только нечистоту тела, а не нечистоту души". Мысль здесь такова: крещение совершается с возглашением слов "крещается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь", и в таком смысле Церковь очищена банею водною посредством слова.
Во-вторых, Церковь очищена в крещении "посредством слова" в смысле евангельской проповеди, как пишет ап. Павел: "как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?" (Рим. 19:14). С такой же справедливостью можно сказать: как креститься в Того, о Ком не слыхали? Поэтому, естественно, проповедь слова Божия совершенно необходима для того, чтобы уверовать и по вере креститься для прощения и очищения от грехов, но это вовсе не значит, что раз проповедь нужна для спасения, то крещение уже не нужно. Нужно и то, и другое. Протестанты же всё время отсекают какую-нибудь часть истины, и потому Церковь справедливо называет их сектантами.
1 Кор. 6:11: "И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего". Эти слова говорят о крещении, в котором, видимым образом омываясь в воде, человек невидимо омывается самим именем Иисуса Христа, ибо И все протестанты говорят о крещении только в таком ключе - как о символе того, что уже совершилось раньше. Таким образом, если в Православии крестят для того, чтобы спасти человека, соединить его со Христом и возродить к новой жизни, то протестанты проповедуют при крещении человек крестится (погружается, облекается) во имя Христа, посредством чего он освящается и оправдывается. Под омовением, естественно, имеется в виду именно крещение, и именно так издревле толковали это место учителя Церкви. Св. Иоанн Златоуст, например, пишет: "Выходя из сей купели, (крещённый) становится не только чистым, но святым и праведным. Ибо Апостол сказал не только: омылись, но и освятились и оправдались (1 Кор. 6,11)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 332].
Тит. 3:5: "Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом". Опять используется слово "баня". Ясно написано, что Христос спас нас (Свою Церковь) банею (купелью) возрождения; иначе говоря - Он спас нас крещением! Отцы и учителя Церкви первых веков банею возрождения всегда называют именно крещение. И очень важно также, что крещение называется баней возрождения, что подтверждает учение Церкви о том, что человек возрождается в Крещении.
Протестанты же спорят с очевиднейшим, и смеют утверждать, что человек спасается и возрождается не крещением, а только верой. И важно заметить, что здесь соблюдена такая же последовательность, как и в Деян. 2:38 и других местах Нового Завета: сначала баня возрождения (крещение), а затем обновление Святым Духом (получение дара Духа Святого).
Ин. 3:5. Христос говорит Никодиму: "истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие". Здесь в очередной раз мы видим туже самую последовательность в спасении: сначала рождение от воды (крещение), а затем рождение от Духа (получение Духа Святого). Таким образом, вполне понятно, что крещение совершенно необходимо для возрождения, для вхождения в Царствие Божие, для получения Духа Святого и в итоге для спасения.
Протестанты же, сделав главою угла своей веры лютеровское, выхваченное из библейского контекста, учение об оправдании одной лишь верой, противятся очевидному и силятся доказать, что под рождением от воды Христос имел в виду не крещение, а рождение от слова Божьего[Для подтверждения данной мысли протестанты часто приводят тот аргумент, что Христос не мог говорить с Никодимом о крещении, так как церковное крещение еще не было установлено, и что Христос не стал бы говорить Никодиму того, чего он не мог бы понять. На самом деле, Христос часто отнюдь не заботился о том, насколько хорошо понимают его слушающие, и многократно говорил людям как бы нарочно то, что им трудно и, казалось бы, даже невозможно было понять (см., например, Лк. 2:50; 9:45; 18:34; Ин. 2:19; 6:53-60,66; 8:27). Этим, можно думать, Господь подтягивал людей, возвышал их, заставлял их трудиться душой и усиленно обдумывать и искать смысл в Христовых словах. Иисус часто говорил и действовал так, что люди могли понять и поверить Ему не сразу, а со временем, уже вспоминая Его слова и дела. Так, умывая ноги Петру, Он говорил: "что Я делаю, теперь ты не знаешь, но уразумеешь после" (Ин. 13:7; ср. Мф. 26:75; Лк. 24:6-8; Ин. 2:22; 12:16; 16:4). При этом Господь рассчитывал также на Духа Святого, Который, по Его словам, "научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин. 14:26). Кроме того, Христос по необходимости часто говорил о том, чего ещё нет, например, о Церкви, о Духе Святом, о Своей смерти и воскресении и т.п., так что Его слова могли быть поняты только со временем, когда всё Им предсказанное совершится. Вот так же Христос говорил и с Никодимом, не обращая внимания на то, что тот Его не до конца понимает, и рассчитывая на то, что когда придут времена Церкви и будет совершаться крещение, Никодим вспомнит, поверит и лучше поймёт Его слова. Ведь даже если бы Христос говорил о возрождении в протестантском понимании, то Никодим всё равно этого не мог понять этого до конца, а только тогда, когда сам после сошествия Духа Святого возродился. Таким образом, Христос в любом случае говорил Никодиму о том, что он не мог до конца сразу понять], которое Христос здесь образно назвал водою. Но такое толкование несостоятельно по нескольким причинам.
Во-первых, в ДХУ нам преподавали 8 правил герменевтики, а используя их, нельзя признать таковое толкование. Ведь первое из них гласит, что Писание написано ясно, и что при толковании Библии всегда нужно искать самое простое значение текста. Ясное же и простейшее понимание слов "рождение от воды" есть крещение, а не рождение от слова Божьего. Непредвзятый читатель, знакомый с учением Нового Завета, но не знакомый с православно-протестантской полемикой по вопросу крещения, скорее всего понял бы под рождением от воды ни что иное, как крещение, так как слово "вода" наводит на мысль о крещении куда скорее, чем на мысль о слове Божием. Протестанты же толкуют эти слова предвзято, подгоняя понимание Библии под свои догматы. Они не своё учение согласовывают с Библией, а библейское учение пытаются согласовать со своим, с реформаторским. Потому и спорят с очевидным.
Четвёртое правило протестантской герменевтики гласит: Писание толкует Писание; случайное и неясное в Библии толкуется в свете более полного и ясного. Какие же места в Библии мы можем найти для лучшего понимания того, что есть "рождение от воды" или "рождение свыше" (Ин. 3:3)? Где ещё в Библии говорится о втором рождении, то есть о возрождении? Выше мы приводили цитату из Тит. 3:5, где говорится о бане возрождения. Здесь явно возрождение связывается с крещением.
Другое место, где упоминается о возрождении - 1 Пет. 1:3: "Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому". На первый взгляд, данное место никак не помогает решить вопрос о том, благодаря чему христианин возрождается: крещению или слову Божию? Кажется, что данный стих ещё более запутывает вопрос о возрождении, вводя третий вариант способа возрождения - посредством воскресения Христа. Но на самом деле, данный стих говорит в пользу возрождения через крещение, ибо в других местах мы находим ему объяснение: "быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых", а также: "мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни" (Кол. 2:12; Рим. 6;4).
Кроме того, в 1 Пет. 3:21, которое мы уже приводили, крещение также связывается с воскресением: "крещение… спасает воскресением Иисуса Христа". То есть, в крещении, погружаясь в воду, человек умирает и погребается со Христом, а восставая из воды он воскресает с Ним. В таком смысле человек возрождается воскресением Христа (совоскресает с Ним). Именно в крещении человек умирает и воскресает со Христом, то есть возрождается. Поэтому крещение и считается Таинством, ибо при видимом погружении в воду человек невидимо (таинственно) погружается во Христа, в Его смерть и воскресение. Итак, опять мы видим, что Библия подтверждает то, что рождение от воды есть крещение.
Наконец, мы находим и такие слова о возрождении: "как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек" (1 Пет. 1:23). Протестанты считают, что это место как раз подтверждает их мнение о том, что возрождение происходит через слово Божие, а не крещение. На самом же деле, в этих словах нет никакого противоречия тому, о чём было сказано выше. Ведь разве здесь говорится о том, что сама проповедь и слышание слова Божия возрождает человека? Разве протестанты сами не понимают со всей ясностью, что для возрождения человека одного слова Божия недостаточно, а нужна ещё и вера, и покаяние? Ведь они понимают, что слово Божие в таком смысле возрождает человека, что приводит его к 1) вере и 2) к покаянию, через которые он и возрождается. Православные понимают точно так, только не забывают ещё об одной составляющей нашего спасения: слово Божие так возрождает человека, что приводит его 1) к вере, 2) к покаянию и 3) ко крещению, которым человек возрождается. Ни протестанты, ни православные, не согласятся с тем, что слово Божие возрождает само по себе, и что его одного достаточно для возрождения.
То, как легко совмещаются библейские утверждения о возрождении человека крещением и утверждение о возрождении от слова Божия, можно объяснить на простом примере. Всякий человек рождается через женщину, но от мужчины. И как в этом нет никакого противоречия, так нет противоречия и в том, что человек возрождается через крещение, но от слова Божия. Одна истина (о возрождении от слова Божия) никак не устраняет другую истину (о возрождении через крещение). И выше мы уже убедились, что крещение совершается только с произнесением крестильных слов "во имя Отца, и Сына, и святого Духа". Таким образом, человек возрождается через крещение от слова Божьего.
Кроме того, 1 Пет. 1:23 имеет более глубокое толкование. Под словом Божиим нужно понимать прежде всего самого Христа, Который называется и является в высшем смысле Словом Божиим (см. Ин. 1:1,14). Это И. Христос есть то нетленное семя, то живое и пребывающее вовек Слово Божие, от Которого возрождаются христиане! Но как они возрождаются от Христа? Писание объясняет: погребаясь и воскресая с Ним в крещении!
Во-вторых, Церковь всегда, с самого начала единогласно понимала слова Христа о рождении от воды как крещение, в чём отчасти можно убедиться из нижеследующих цитат.
Гал. 3:27: "Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись"[Данные слова баптисты поют сразу по крещении человека; эта традиция взята ими из Православия, ибо петь эти слова ап. Павла сразу после крещения человека определяет православный требник, существовавший задолго до появления протестантов. Нужно признать, что данную традицию (как и многие другие, например, на Пасху трижды приветствовать друг друга "Христос воскрес" и отвечать "воистину воскрес"), протестанты переняли у православных, но на самом деле они вовсе не веруют, что во время крещения человек действительно таинственно погружается и облекается во Христа и в Его праведность. По их убеждению, всё это с крещаемым уже давно произошло, когда он уверовал и покаялся. В этом - очередная бессмысленность и противоречие баптизма]. Как же можно спастись, не облекшись во Христа? Никак, ибо облекаясь во Христа, человек соединяется с Ним и становится Его Телом - Церковью! И раз облечение во Христа происходит именно в крещении, то очевидно, что крещение совершенно необходимо для спасения.
В Деян. 4:12 сказано: "нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись". Как же нам спастись именем Христа? А так, что нужно уверовать и креститься (погрузиться) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Тогда имя Христово нас сможет спасти, когда мы погрузимся (крестимся) в Его имя.
Рим. 6:2-7: "Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха".
Приведенные рассуждения ап. Павла о том, почему христиане не должны грешить, основаны на той главной мысли, что они умерли для греха и воскресли для жизни Божьей, жизни новой. Слова "в обновлённой жизни" как раз таки указывают на новую, вторую жизнь, на возрождение. Как же человек умирает и воскресает, то есть возрождается для обновлённой жизни? В крещении! Именно крещение есть "подобие смерти и воскресения Христова", с чем полностью согласны протестанты. Но если так, то верующий умирает для греха и воскресает для Бога в крещении, а не в покаянии. Ректор ДХУ, Мельничук А.И., на своих лекциях постоянно повторял: "наше спасение - в союзе (т.е. единстве) со Христом". Совершенно справедливая мысль, и с этим согласны все - и православные, и протестанты. Но как же мы можем соединиться со Христом? Ап. Павел прямо отвечает на этот вопрос: "мы соединены с Ним подобием смерти Его", то есть крещением.
Итак, человек соединяется со Христом, а значит и спасается, крещением - это совершенно ясно. Почему же протестанты противятся очевидному?
Теперь, в связи с осмыслением роли крещения в нашем спасении, весьма важно сказать о причине, по которой крестился Сам Господь.
Димитрий Чуйков пишет по этому поводу так: "Иисус крестился от Иоанна крещением покаяния, но для чего, когда Он был безгрешен? Иоанн Креститель отвечает на этот вопрос, говоря: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира" (Ин. I,29). Бесспорно, что эти слова, сказаны в теснейшей связи с Крещением Иисуса (см. контекст - ст. 26-34). И вот их смысл: Пречистый, Пресвятой и Пренепорочный Христос погружается в крестильную воду, в которой до Него уже многие оставили свои грехи, крестившись Иоанновым крещением покаяния (то есть крещением оставления грехов как отречения от них), и в которой еще также и будущие поколения оставят свои грехи, крестившись Крещением во Имя Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос поднялся и вышел из этой воды, то Он поднял (взял на Себя) и вынес на Себе из нее грехи всех, но только - всех крестившихся, и тех, кому еще предопределено быть крещенными. И, кроме того, Христос оставил Себя в воде, как и свидетельствует о том Иоанн Богослов, говоря, что: "Сей есть Иисус Христос пришедший водою" (см. 1 Ин. V,6) - обратите внимание: "пришедший", а не "приходивший"[Разница между "пришедший" и "приходивший" - велика, ибо приходивший, например, гость, это тот, кто пришёл и ушёл, которого уже нет; пришедший же это тот, кто пришёл и остаётся, который до сих пор находится у нас в доме. Христос есть не приходивший, а именно пришедший водою, что значит, что Он таинственно оставил Себя в воде и остаётся в ней до сего дня. В этого Христа и погружается крещаемый, потому слова "все вы во Христа крестившиеся" для Церкви имеет самый прямой, а не символический смысл. Но не всякий, погружаемый в воду, погружается во Христа, ибо только Церковь, Её священство, имеет ключи, которыми Она может открыть человеку в крестильной воде Христа и погрузить в Него. Прим. С.К.]. И все это было совершено и совершается таинственным и для нас не постижимым образом. И, так как Господь оставил Себя в воде, то всякий погружающийся в крестильную воду, оставив грехи свои на Христе как Агнце, берущем на Себя грех мира, после того еще и получает от Бога право, будучи омытым от душевных своих скверн, облечься в праведность Самого Христа, как и написано: "…так надлежит нам исполнить всякую правду" (см. Мф. III,13-15)…
- "Исполнить всякую правду" - так Сам Христос говорит о цели Своего Крещения от Иоанна. "Правда" в оригинале Мф. III,15 - (дикэосини), что в греческом значит и "правда", и "оправдание", и "праведность". Ввиду этого становится понятным, что Крещение наш Господь принял, дабы совершить оправдание, и соделать праведными, и воздвигнуть правду всех крещенных...
Итак, крестящийся очищается и освящается, будучи погруженным в Личность Бога Отца, в Личность Бога Сына и в Личность Бога Духа Святого; или другими словами, он омывается от своих грехов святостью Троицы, и, омывшись, - облекается в праведность Имени Триединого Бога. Потому и сказано: "Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. III,27). То есть, так как Триединый Бог был явлен преимущественно в Боге Сыне, вочеловечившемся Господе неба и земли - Иисусе Христе, и так как Писание прямо говорит, что крестился Бог Сын, и только прикровенно, что вместе с Богом Сыном - и Бог Отец, и Бог Дух Святой, потому что Сын в Отце, Отец в Сыне, Сын в Духе и Дух в Отце, - то Библия и называет Новозаветное Крещение чаще Крещением во Имя Иисуса Христа. И благодарение Богу, что многим сектантам понятно, что нельзя на основании Библии спорить с тем, что все, кто крестился во Имя Иисуса Христа, облеклись и во Имя Бога Отца, и во Имя Бога Духа Святого"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 111-114].
Таким образом, Христос крестился для того, чтобы взять грехи мира на Себя; мы же должны креститься для того, чтобы оставить в воде (на Христе) свои грехи. В крещении наши грехи перекладываются на Христа, который уничтожил грех Своей смертью. Чтобы и наши грехи взял на Себя непорочный Агнец Божий, нужно, чтобы они были переложены на Него в крещении: иначе говоря - нужно креститься для прощения грехов. Следовательно, вполне очевидно, что крещение совершенно необходимо для прощения наших грехов и спасения, и поэтому православное понимание крещения правильное и библейское; протестантское же явно противоречит учению Св. Писания.
И заметим: если понимать крещение по православному, то крещение Иисуса Христа имеет глубочайший и важнейший смысл; если же по протестантски, то смысл Его крещения вообще не ясен.
Теперь посмотрим, как понимала и учила о крещении Церковь первых веков христианства.
Св. Ерм (I в.) в своей книге "Пастырь", которая в древней Церкви была весьма авторитетной, описывает видения, показанные ему Богом, в которых он беседует с Ангелом, часто задавая ему разные вопросы. Один из них "есть ли иное покаяние, кроме того, когда сходим в воду и получаем отпущение прежних грехов"["Пастырь" Ермы, книга II, заповедь четвёртая, раздел III] недвусмысленно выявляет ясную веру св. Ерма в библейское крещение "для прощения грехов", в которое протестанты не веруют. На другой из своих вопросов "почему башня[Имеется в виду Церковь] построена на водах?" св. Ерм получает от Ангела такой ответ: "Слушай же, почему башня строится на водах: жизнь ваша через воду спасена и спасется"[Пастырь" Ермы, книга I, видение третье, раздел III].
В другом случае на вопрос "еще, господин, объясни мне, почему эти камни[То есть, людские души - ср. 1 Пет. 2:5] были извлечены со дна и положены в здание башни?" он получает такой ответ: "Им было необходимо пройти через воду, чтобы оживотвориться; не могли они иначе войти в царство Божие, как отринув мертвость прежней жизни. Посему эти почившие получили печать Сына Божия и вошли в царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв; но как скоро примет эту печать, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода, в нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми; посему и им проповедана была эта печать, и они воспользовались ею, чтобы войти в царство Божие"["Пастырь" Ермы, книга III, подобие девятое, раздел XVI].
Здесь в обоих цитатах используется тоже самое выражение "через воду" (в греческом оригинале ), как в 1 Пет. 3:20, о котором выше мы уже говорили. Именно через воду, то есть крещение, спасается Церковь; только проходя через воду (крещения) люди оживотворяются, то есть возрождаются (входя в воду мёртвыми, а выходя живыми), и входят в царство Божие; только в крещении человек может принять печать имени Сына Божия, и только так он может призвать имя Божие и спастись им. Учение о спасительности крещения выражено у св. Ермы самым ясным образом, и свидетельствует о том, что именно так понимали роль крещения в спасении христиане первого века.
Св. апостол Варнава (I в.), сотрудник ап. Павла, также веровал, что в крещении прощаются грехи: "Относительно воды написано к народу израильскому, как он не примет того крещения, которое доставляет отпущение грехов… мы сходим в воду, полные грехов и нечистоты, а восходим из нее с приобретением - со страхом в сердце и с надеждою на Иисуса в духе"[Послание Варнавы, гл. 11].
В Постановлениях Апостольских (кн. 6/15) мы читаем: "а погруженные ими (еретиками) не освящаются, но оскверняются, получая не прощение грехов, но узы н - так Сам Христос /strongговорит о цели Своего Крещения от Иоанна. ечестия". Отсюда понятно, что крещённые не еретиками получают к Крещении прощение грехов.
И дальше: "Но и тот, кто не желает креститься из презрения, осужден будет, как неверующий, и поруган будет, как неблагодарный и безсмысленный; ибо Господь говорит: "если кто не крестится[То, что слово "родится" здесь заменено словом "крестится" говорит о том, что данное место понималось только как крещение] от воды и Духа, то не войдет в царствие небесное"; и опять: "кто уверует и будет погружен, тот спасется; а кто не уверует, тот осужден будет". Очевидно, кмы соединены с Ним подобием смерти Егорещение, по учению Апостолов, совершенно необходимо для спасения.
Святой Иустин Мученик (104-166 гг.) говорит: "Купелию крещения и ведения Бога мы достигли веры, по пророку, и мы исповедуем, что только это проповеданное им крещение есть вода жизни, которая может очищать кающихся"[Беседа с Трифоном, п. 14].
Далее он говорит: "Должно стараться, чтобы вы познали, каким путём можете достигнуть отпущения грехов и получить надежду наследия благ обетованных. Другого пути и сему нет, кроме того, чтобы, познав Христа и омывшись крещением во оставление грехов, начали потом жить безгрешно"[Беседа с Трифоном, п. 44].
И в другом месте: "Кто убедится и поверит, что учение наше и слова истинны, и кто обещается, что может жить таким же образом, тех учат, чтобы они с молитвою и постом просили Бога об отпущении прежних грехов, и мы с ними молимся и постимся; приводятся они нами туда, где есть вода, и возрождаются тем же образом, каким сами мы возродились, т.е. омываются они тогда водою во имя Отца всех и Владыки Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святаго Отца и владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого. Ибо Христос сказал: "если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия"… И мы получили от Апостолов следующее основание для такого действия. Так как мы не знаем первого своего рождения и по необходимости родились из влажного семени через взаимное совокупление родителей и выросли в худых нравах и дурном образе жизни, то, чтобы не оставаться нам чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и ведения, и чтобы получили в воде оставление прежних грехов, - именуется на хотящем возродиться и раскаявшемся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога. Одно только это произносит ведущий того, которому надлежит омыться в купели… Омовение же это называется посвящением, так как познающие это посвящаются умом. И именем Иисуса Христа, распятым при Понтии Пилате, и именем Духа Святого, который через пророков предвозвестил все относящееся к Иисусу, омывается просвещаемый"[Апология 1, п. 61].
И дальше: "Пища эта у нас называется евхаристиею (благодарением), и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в ист Во-вторых, Церковь очищена в крещении ину учения нашего и омылся омовением во оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос"[Апология 1, п. 66].
Заметим, что св. Иустин, засвидетельствовавший свою веру мученической смертью за Христа, бывший учеником св. Поликарпа Смирнского, утверждает, что прощение грехов, надежду благ обетованных и возрождение человек может получить именно в крещении, относя именно к нему слова Христа о рождении свыше. Учит он так потому, что так учит Св. Писание; так научил его сам ап. Иоанн через св. Поликарпа; так веровала вся древняя Церковь. Протестанты же отступили от ясной и единой веры древней Церкви.
Св. Феофил Антиохийский (II в.) также совершенно по православному говорит о крещении: "В пятый день созданы животные из воды и ч /рез них также открывается многоразличная премудрость Божия. Ибо кто может исчислить их множество и разнообразие родов? Притом были благословлены Богом созданные из воды, чтобы и это служило знамением того, что люди, которые приступают к истине, возрождаются и благословляются Богом, примут покаяние и отпущение грехов посредством воды и бани возрождения"[К Автолику, кн. 2, п. 16].
Св. Ириней Лионский (II век) в своей книге "Доказательство апостольской проповеди" (п. 3) писал: "Прежде всего она (вера) научает нас воспоминать, что мы получили крещение во оставление грехов во имя Бога Отца и во имя Иисуса Христа, воплотившагося и умершего и воскресшего Сына Божия, и в Святого Духа Божия; и что это крещение есть печать вечной жизни и возрождена в Бога, чтобы мы были чадами не умерших людей, но вечного и неизменного Бога". То есть, по мысли св. отца, крещение не только совершается во оставление грехов, но и возрождает, так что крестившиеся становится уже не просто детьми своих родителей, но детьми Бога. Таким образом, именно в крещении Бог прощает грехи уверовавшим в Него и рождает (возрождает) их, делая Своими детьми.
В другом месте той же книги (п. 7) св. Ириней ещё раз подтверждает свою мысль о том, что христиане возрождaются именно в креще[Пастырьнии: "И поэтому крещение нашего возрождения совершается посредством этих трех положений, когда Бог Отец дарует нам благодать для возрождения посредством Своего Сына чрез Святого Духа".
Вот ещё одно важное место о крещении из того же его сочинения (п. 41): "…апостолы, которые, по получении силы Святого Духа (ср. Дн. І, 8), посланы были Им во весь мир и призвали язычников, показав людям путь жизни, обращая их от идолов и любодеяния и лихоимства и очищая души их и тела крещением водою и Святым Духом".
Обратим здесь внимание на два важных момента: 1) вода крещения, по словам св. Иринея, очищает душу, естественно, от греха; 2) у св. Иринея, как и в Новом Завете и у всех других отцов Церкви, всё та же последовательность в нашем спасении и вхождении в Церковь: сначала крещение, а потом только получение Святого Духа. У протестантов же всё наоборот.
Далее: "Так, следовательно, верующие должны вести себя, потому что в них постоянно пребывает Дух Святый, который дан Им при крещении…" (п. 42). Опять мы видим, что не протестанты, а православные сохранили верность учению древней Церкви, ибо они до сих пор именно при крещении (сразу после него)[, с чем полностью согласны протестанты. Но если так, то верующий умирает для греха и воскресает для Бога в крещении, а не в покаянии. Ректор ДХУ, Мельничук А.И., на своих лекциях постоянно повторял: Крещение и Миропомазание совершается в Православии как единый акт, так что между этими двумя Таинствами нет никакого промежутка. Поэтому, Дух Святой буквально подаётся человеку "при крещении"] в миропомазании сообщают человеку Духа Святого. Протестанты же, вопреки учению древней Церкви, учат, что Духа Святого человек должен получить непременно до крещения, и часто - задолго до него.
Св. Климент Александрийский (ум. 215 г.): "Будучи погружаемы (в воду) мы просвещаемся; просвещаясь, усыновляемся Богу; усыновляясь, становимся совершенными и через то бессмертными: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы" (Пс. 81,6). Равным образом называется это действие: благодатию, просвещением и купелию, - купелию, чрез которую мы омываемся от грехов; благодатию, которой отпускаются нам наказания за грехи; просвещением, по которому мы взираем на святый и спасительный свет…"["Педагог", 3/6].
Св. Ипполит Римский (II-III вв.) приводит молитву епископа, произносимую после крещения человека: "Господи Боже, соделавший сих достойными отпущения грехов через омовение возрождения, соделай их достойными наития Духа Святого, пошли на них Свою благодать, чтобы они служили Тебе согласно Твоей воле, ибо Тебе слава подобает. Отцу и Сыну со Святым Духом во Святой Церкви и ныне и во веки веков. Аминь"["Апостольское предание", гл. 21].
Заметим: именно в Крещении человек получает прощение грехов и возрождение, и только после него, как очищенные от грехов, они могут стать достойными наития Духа Святого.
Тертуллиан (II-III вв.) в своём трактате "О крещении" (гл. 7) пишет: "Мы погружаемся в воду, но результат - духовный, потому что мы освобождаемся от грехов".
Далее (в 12 гл.) он говорит так: "…определено, что никому не достичь спасения без крещения (в наибольшей степени это явствует из речения Господа, который говорит: если кто не родится из воды, не будет иметь жизни (ср. Иоан. 3,5)".
А также: "До страдания и воскресения Господа для спасения была одна вера. Но когда вера эта умножилась верою в рождение, страдание и воскресение Его, тогда дарованы полнота таинству, запечатление крещения, как бы одежда веры, которая прежде была обнаженною и не имела силы без своего закона. А теперь закон крещения (погружения) дан, форма предписана: идите, сказал Господь, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа (Мф. 28,19). Определение, этому закону сделанное: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3,5)", обязало веру к необходимости крещения. С тех пор все верующие крещаются" (гл. 13).
Заметим, что Тертуллиан ясно исповедовал, что именно через крещение человек получает прощение грехов и спасение, а под словами Христа о "рождении от воды" понимал не что иное, как крещение, без которого одна вера не может ввести человека в Царствие Божие.
Св. Василий Великий (IV в.) пишет: "почему мы христиане? Всякий скажет: по вере. А каким образом спасаемся? Таким, что возрождаемся именно же благодатию, подаваемою в Крещении. Ибо чем иначе спастись". Возрождение и спасение св. отец со всей ясностью усваивает крещению, а не одной только вере, как протестанты. Чрез веру человек в таком смысле возрождается и спасается, что истинная вера непременно приводит его к спасительным водам церковного крещения.
Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.): "так как человек состоит из двух частей, из души и тела; то и очищение двоякое, бестелесное для бестелесного, а телесное для тела: вода т.е. очищает тело, а Дух душу запечатлевает, чтобы нам приступить к Богу с сердцем окроплённым, и телом, омытым водою чистою". И в другом месте: "когда сойдёшь ты на воду; то не простую воду представляй себе, но от действия Святого Духа ожидай спасения[Этими словами святой учитель Церкви, во-первых, обнаруживает свою веру в то, что крещение есть таинство, так как при видимом схождении человека в воду, невидимо действует, то есть погружает человека в Тело Христово, Сам Дух Святой; во-вторых, он выявляет свою веру в то, что крещением человек спасается, а не просто свидетельствует о своём уже совершившемся спасении]… (Христос) говорит: если кто не родится свыше, и присовокупляет слова: от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3,5). Ни тот, кто крещается водою, но не удостоин Духа[Заметим, что св. Кирилл понимает, что сначала человек крестится, а потом получает Духа Святого], не может иметь совершенной благодати; ни тот, кто хотя бы добр был по делам, но не полуstrongчил запечатления водою, не войдёт в Царствие Небесное. Слово дерзновенно, но не моё; ибо так определил Иисус"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 324, 336].
Итак, св. Кирилл веровал, что крещение не символизирует наше очищение от греха, но действительно очищает и душу и тело, и слова Христа о рождении от воды он, как и вся Церковь с самого начала и всегда, понимал ни что иное, как крещение, без которого нельзя войти в Царствие Небесное.
Св. Ефрем Сирин (IV в.) "Господь заповедал ученикам Своим, чтобы только единократно очищали водами грехи человеческой природы"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 334].
Св. Амвросий Медиоланский[Св. Амвросий обратил к вере и крестил блаженного Августина, о котором последний не раз упоминает в своей "Исповеди"] (IV в.): "никто не входит в царство небесное иначе, как только через таинство Крещения". "В крест Господа Иисуса верует и оглашенный, которым и сам знаменуется; но если он не будет крещён во имя Отца и Сына и Св. Духа, то не может получить отпущения грехов и сподобиться дара духовной благодати"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 337].
Св. Амвросий мыслит о крещении не по-протестантски, а вполне православно. Он
1) называет его таинством и
2) признаёт, что без крещения невозможно:
а) войти в Царствие Небесное;
б) получить прощение грехов и
в) дар духовной благодати, то есть дар Духа Святого.
Опять же заметим, что последовательность в спасении человека св. Амвросий описывает по-библейски и по-православному, а не по протестантски: сначала крещение, а потом дар Духа Святого.
Св. Григорий Богослов (IV в.): "Благодать и сила Крещения не потопляет мира, как древле, но очищает грех в каждом человеке и совершенно измывает всякую нечистоту и скверну, привнесённую перворождением..."; "Купель даёт прощение грехов соделанных, а не содеваемых… Крещение, изглаживая грехи, не уничтожает заслуг… Итак, будем креститься, чтобы победить; приобщимся очистительных вод, которые омывают лучше иссопа, очищают лучше крови закона, которые священнее, нежели пепел телицы, кропящий оскверненных (Евр. 9,15), имеющий силу только на время очищать тело, а не истреблять совершенно грех".
А также: "поелику мы состоим из двух естеств, то есть из души и тела, из естества видимого и невидимого; то и очищение двоякое, именно: водою и Духом; и одно приемлется видимо и телесно, а другое, в тоже время, совершается нетелесно и невидимо…"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 332, 324].
Св. Иоанн Златоуст (IV в.): "…в крещении совершается рождение"[Беседы на Евангелие от Иоанна, беседа 25, п. 2]. "Всех очищает благодатное крещение: будет ли он женоподобный, или блудник, или идолослужитель, или другой какой великий грешник, и хотя бы совмещал в себе всякое зло человеческое, - погрузившись в купель вод выходит из Божественных вод чище лучей солнечных. Выходя из сей купели, становится не только чистым, но святым и праведным. Ибо Апостол сказал не только: омылись, но и освятились и оправдались (1 Кор. 6,11)… Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от беззаконий, но так, как бы мы вновь родились: ибо оно вновь творит нас и образует"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 332-333]. "В крещении через чувственную вещь - воду сообщается дар"[Беседы на Евангелие от Матфея", беседа 82, п. 4], и ещё: "Потому что более главное (в крещении) есть Дух, через которого действует и вода. (…) Заметим: имел ли кто тяжкие грехи (до крещения), совершил ли кто, например, убийство, или прелюбодеяние, или сделал что-нибудь другое, ещё более тяжкое, - всё это отпускается чрез купель крещения. В самом деле, нет, подлинно нет никакого греха и нечестия, которое бы уступило этому дару и не было бы его ниже, потому что это - божественная благодать"[Беседы на Деяния апостольские, беседа 1, п. 5-6].
Как видим, великий учитель Церкви ясно понимает, что Крещение есть Таинство, в котором человеку посредством воды сообщается дар Духа, Который, действуя через воду, очищает, освящает, оправдывает, возрождает и дарует прощение грехов крещаемому.
В другом месте он говорит: "При крещении (Господа Иисуса) голубь явился для того…, дабы и ты знал, что и на тебя, когда крещаешься, нисходит Дух Святой"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 319].
Параллель, проведённая И. Хризостомом, богословски очень точна и важна: как на Христа при крещении (сразу после него) сошёл Дух Святой, так и человеку именно при крещении (сразу после него) подаётся Дух Святой! Протестанты же совершенно этого не признают, грубо исказив Божий план и последовательность в спасении человека.
Св. Епифаний (IV в.) писал: "чин епископов назначен для рождения отцов: ибо ему принадлежит умножать в Церкви отцов (духовных)[То есть, через рукоположение]; другой чин (пресвитерский), который не может раждать отцов; он раждает Церкви банею возрождения детей…"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 226].
Подобных цитат можно привести ещё множество, и так понимали крещение и все другие древние учителя Церкви. Они называли крещение банею пакибытия (возрождения), возрождением, таинством второго рождения, таинством воды, купелью таинственной, купелью спасительной, просвещением, благодатным даром, освящением, печатью веры, купелью жизни, водою жизни вечной и т.п.[См: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 318]
Св. Кирилл Иерусалимский, например, говорит: "Великая вещь - крещение. Оно есть пленных искупление, грехов отпущение, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, святая, нерушимая печать, колесница на небо, утешение райское, царствия ходатайство, дар усыновления".
Подобными словами именует крещение и св. Василий Великий: "Крещение - искупление пленных, прощение долгов, смерть греха, пакибытие души, светлая одежда, неприкосновенная печать, колесница на небо, предуготовление царствия, дарование сыноположения (т.е. усыновления)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 332].
Протестанты же никак не могут наименовать крещение подобными словами; никак они не могут согласиться и с тем множеством цитат древних святых, приведенных выше, то есть с изначальным и единогласным учением всей Церкви о крещении, что ясно свидетельствует о том, что протестантизм определённо уклонился от апостольского учения. Протестанты чаще всего либо ничего не знают о том, как учила древняя Церковь о крещении, либо откровенно врут, как, например, С. Санников, который хотя и знаком (как богослов и историк) с учением древней Церкви о крещении, тем не менее утверждает то, что нужно баптизму, а именно, что крещение "по воззрениям того времени, символически указывало на очищение от греха…"["Двадцать веков христианства", изд. Одесса, 2002 г., том 1, с. 146].
Выше было приведено множество цитат из документов древней Церкви, и все они говорят только о реальном, а не символическом очищении от греха. Поэтому, пусть мой читатель сам избирает, кому верить.
Если С. Санников решил проблему несоответствия учения Церкви протестантской доктрине с помощью вранья, то Ч. Сперджен решает эту трудность несколько другим способом, а именно - простым заявлением, что учение о возрождении через крещение для него не понятно, а потому и не истинно. Вот что он пишет: "…каким же образом Он (Христос) мог связать возрождение с особым употреблением воды? Я не смог бы объяснить, как оно происходит механически, если бы послан был учить, что… погружение в воду человека может спасти душу. (…) Употребление водного крещения, в моём понимании, не имеет ничего общего с возрождением души".
То есть, Библия ясно говорит о том, что крещение возрождает; о том, с не меньшей ясностью, единогласно свидетельствует и вся древняя Церковь, а великий проповедник, которым считают Ч. Сперджена протестанты, говорит, что не понимает того, как Христос мог связать возрождение с водой, и раз он не может осмыслить этого и объяснить этого процесса механически, то он невзирая ни на что с лёгкостью отвергает учение Библии и Церкви о том, что крещение возрождает и спасает, и предлагает нам последовать за ним. Но "кто не разумеет, пусть не разумеет" (1 Кор. 14:38). Воистину же любящий Бога и чтущий Библию, кто желает верить так, как верила древняя Церковь, не может следовать за протестантскими немощами ума и веры, тем более, что понять смысл крещения совсем не трудно.
Протестант верит, что через веру и покаяние Бог его возродил, усыновил, посадил не небесах, вошёл в Его сердце, облёк во Христа, даровал Духа Святого, и т.п. Разве он понимает, как это произошло "механически"? Нет, тем не менее, протестанту вовсе не трудно в это верить. Вот так же не трудно поверить и в то, что всё это даруется Богом человеку, но только не просто через веру и покаяние, а через крещение при посредстве веры и покаяния. А добиваться "механического" понимания того, как всё это происходит, совершенно не нужно и даже грешно, ибо в таком смысле мы мало что вообще понимаем. Об этом хорошо (как бы отвечая на безумие Ч. Сперджена) сказал св. И. Златоуст: "Первое творение Адама было творение из земли, а после него создание жены из ребра, потом происхождение Авеля из семени. Но мы не можем ни постигнуть, ни изобразить словом этих творений, хотя все они самые вещественные. Как же мы можем дать отчёт относительно духовного рождения через крещение, - рождения, которое гораздо выше тех? И каких можно требовать от нас соображений об этом рождении - чудном и необычайном? При совершении его предстоят и ангелы; но изъяснить способ этого дивного рождения через крещение не может ни один из них"[Беседа на Евангелие от Иоанна, беседа 25, п. 2].
Хочу сказать также, что не соглашаясь со смыслом крещения как Таинства, в котором человек действительно погружается во Христа, омывается от грехов и возрождается - то есть, удалив содержание, которым наполняет крещение Библия и вся Церков, то он невзирая ни на что с лёгкостью отвергает учение Библии и Церкви о том, что крещение возрождает и спасает, и предлагает нам последовать за ним. Но ь во все времена - протестанты не могут придумать для крещения никакого другого значения, кроме символического, служащего только для укрепления союза со Христом, как пишет о том М. Эриксон: "оно (крещение) имеет большое значение, ибо представляет собой знак союза верующего со Христом, и признание этого союза - дополнительный акт веры, ещё крепче цементирующий эту связь"["Христианское богословие", с. 933].
И в таком смысле крещение не является чем-то особенным, поскольку и многое другое в жизни христианина исполняет те же функции. Так, дела милосердия, проповедь людям о Христе, чтение Библии, молитва, хождение на собрания и пр. - всё это "представляет собой знак союза верующего со Христом" и является "актами веры", ещё крепче "цементирующие" связь верующего с Ним. Таким образом, как правильно замечает свящ. В. Рубский, "все их (баптистов) концепции сводятся к повторению того, что было возможным и продолжает быть возможным и без… погружения в воду"["Православие - протестантизм. Штрихи полемики". Глава "Крещение"].
То есть, для протестантов в крещении ничего не происходит того, что не было бы возможным и без него, и крестятся они лишь потому, что в Библии есть прямая о том заповедь, как прямо признаётся в том М. Эриксон: "мы продолжаем совершать обряд крещения просто потому, что так повелел Христос"["Христианское богословие", с. 925]. Потому, замечание Г. Тиссена о том, что (при протестантском) "крещении... не наблюдается особых проявлений благодати"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", изд. "Логос", 1994 г., с. 351] вполне справедливо.
Уместно здесь сделать особое замечание насчёт обряда. Протестанты очень не любят слово "обряд" - для них оно ругательное, и в обрядности они часто обвиняют православных. "Нет более неосновательного обвинения, как утверждение, что баптисты держатся обрядности и таинств. Они как раз их отрицают"["Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов", Одесса, изд. "Черноморье", 1992 г., с. 96], говорится в основных принципах ЕХБ. Но в других случаях баптисты вынуждены признавать, что "в Церкви существует два ритуала: крещение и Вечеря Господня. Эти ритуалы называются обрядами или таинством... Чтобы избежать мистицизма и сакраментализма, характеризующегося выражением "таинства" (сакрамент), лучше было бы пользоваться словом "обряд" для определения этих двух ритуалов Церкви"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", изд. "Логос", 1994 г., с. 351]. Магистр богословия М.В. Иванов о крещении и евхаристии говорит подобным образом: "(христианство) придерживалось двух обязательных церемониалов: Водного крещения и Вечери Господней"["История христианства", изд. "Библия для всех". СПб, 2000 г, с. 18]. И ещё: "водное крещение и вечеря Господня... сами по себе не сообщают благодати. Они суть внешние символы"["Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов", Одесса, изд. "Черноморье", 1992 г., с. 71].
Таким образом, если Крещение и Евхаристия в Православии не обряды, а Таинства, наполненные важнейшим смыслом, то в протестантизме это именно обряды, символизирующие некую реальность. Поэтому, протестантам не нужно, во-первых, отрицать того, что и них есть обряды. Во-вторых, не нужно делать само слово "обряд" негативным, ибо различные обряды, как символические действия, имеют право на существование, и действительно существовали и существуют и в Ветхом Завете, и в Церкви, и в протестантизме. То есть, если протестанты сами совершают обряды (символические действия, церемониалы, ритуалы) крещения и причастия, не считая эти ритуалы безжизненными и холодными только потому, что они являются лишь символами (понимая, что и символ имеет своё значение в духовной жизни), то не нужно осуждать и православные различные обряды, имеющие свою символику и своё значение.
Теперь затронем вопрос о количестве погружений человека в воду при крещении. Ведь кроме полного искажения понимания самой сути крещения, протестанты исказили также и его форму, погружая человека в воду не три, а всего один раз. Протестанты скажут, что в Библии не говорится о троекратном погружении, но в ней также не говорится и об одном погружении. Всё дело в том, как толковать слова Христа: "крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". Протестанты считают, что одного погружения достаточно, а православные настаивают на том, что крестить нужно троекратно, то есть погружать человека во имя Отца, во имя Сына и во имя Духа Святаго.
Можно посчитать, что данный спор неразрешим: одни толкуют слова Христа так, другие иначе; слово против слова, а значит - "ничья": пусть каждый остаётся при своём мнении. Именно подобные трудности, которые постоянно встречаются при чтении Библии, - да ещё, что очень неприятно, в самых важных вопросах, - я и имел в виду, когда писал в предисловии о проблеме субъективности в толкования Писания. Как же читателю Библии понять волю Христа? Можно принять ту точку зрения, которая мне больше нравится, но как быть точно уверенным в том, что я не ошибся, что мои душа и ум подсказывают мне правду? Вот поэтому я и решил, чего искренне желаю и моему читателю, обращаться в таких случаях к учению и практике первых христиан, к преданию древней Церкви. Вместо того, чтобы горделиво ставить своё понимание во главу угла, лучше в смирении признать, что я могу ошибаться, и что моя душа ещё не так чиста, чтобы самому прозревать чистую истину, и задаться вопросом: "а как совершали крещение первые христиане, которые слышали Апостолов и их учеников - троекратным или единым погружением"?
В Апостольских Правилах (№ 50) мы встречаем такие слова: "Если кто совершит не три погружения единого тайнодействия, но единое погружение, совершаемое в смерть Господню: да будет низвержен. Ибо не рекл Господь, в смерть Мою крестите, но: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19)".
Св. Ипполит Римский (170-235 гг.) в своём труде "Апостольское предание" описывал именно практику церкви своего и предшествующего времени. 21-я глава посвящена крещению, где он говорит о троекратном погружении крещаемого: "И тотчас имеющий руку на голове его пусть погружает его один раз… пусть погружает его во второй раз и… тогда пусть погружает его в третий раз".
Тертуллиан (II-III вв.): "Наконец, Он повелел им крестить во [имя] Отца и Сына и Святого Духа (Мф.28:19), а не во [имя] Кого-то Одного. Ведь и не один раз, но трижды мы крещаемся в каждое Имя и в каждое Лицо отдельно"[Против Праксея, гл. 11]. Уместно здесь вспомнить, что в тринитарных спорах, то есть, когда Церковь отстаивала перед еретиками учение о Святой Троице, св. отцами постоянно приводился аргумент троекратного погружения при крещения, что подтверждает тот факт, что для Церкви изначала такая практика была общепринята и общеизвестна.
Второй Вселенский Собор (381 г.) 7-м правилом определил: "Евномиан же, единократным погружением крещающихся…, всех, которые из них желают присоединены быть к Православию, приемлем как язычников". То есть, из-за неправильно, одним погружением, совершаемого у этих сектантов крещения, не могущее по сей (кроме прочего) причине быть действительным, Церковь определила принимать их как язычников - через оглашение в вере и троекратное, правильное крещение.
Св. Иоанн Златоуст: "Но это (погружение) совершается трижды, чтобы ты знал, что всё это совершается силою Отца и Сына и Святого Духа"[Беседы на Евангелие от Иоанна, беседа 25, п. 2].
Св. Василий Великий: "Великое таинство крещения совершается тремя погружениями…"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 325].
Итак, мы в очередной раз видим, что свидетельства веры древних христиан говорят в поддержку Православия, а не протестантизма.
Некоторые протестанты (в основном западные, а также секта, именующая себя "Церковью Христа" и не считающая себя протестантами) считают, что креститься можно не только во имя Отца, Сына и Святого Духа, но и в одно имя Христа, ведь в Новом Завете неоднократно упоминается о таковом крещении (Деян. 2:38; Гал. 3:27; Рим. 6:3). В таком случае тем более нужно погружать человека один раз.
На самом же деле, о крещении во имя Христа в Библии говорится, во-первых, просто по краткости, вовсе не утверждая того, что крещённые во Христа не были крещены также в Отца и Духа Святого. И Церковь никогда не знала и не знает никакого крещения в одно лишь имя Христа.
Св. Василий Великий по этому поводу пишет: "Никого да не вводит в обман у апостола то, что, упоминая о Крещении, нередко умалчивает он о имени Отца и Святого Духа, и никто не должен заключать из сего, что не надобно соблюдать призывания имён[То есть, призывания имён Отца, Сына и Святого Духа при крещении]. Сказано: "Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3:27); и ещё: "все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились" (Рим. 6:3). Это потому, что наименование Христа (по греч. букв. Помазанника) есть исповедание всего; оно указывает и на помазующего Бога, и на помазанного Сына, и на помазание - Духа, как учит нас Пётр в Деяниях: "Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета" (Деян. 10:38)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 328]. В 49-м же апостольском правиле говорится: "если кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню учреждению, во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будет низвержен". Св. Киприан также говорит: "сам Христос повелел крестить во имя всей Троицы вместе"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 327], и др.
Во-вторых, о крещении во Христа говорится для подчёркивания того факта, что люди уверовали, приняли и крестились именно во имя Иисуса Христа Назорея, что они признали Его Мессией и Спасителем. Ведь хотя Церковь проповедует и об Отце и о Духе Святом, но преимущественно Она проповедует о Христе. Ведь дело нашего спасения совершил Сын, Иисус Христос, и уверовать и креститься именно в Иисуса Христа[Выражение "крещение во Христа" можно понимать как "крещение христианским крещением", установленным Христом, в отличие от Иоаннова или иного крещения, Одесса, изд. ] было и есть важнейшим делом для нашего спасения. Потому именно этот факт и подчёркивают Апостолы в Деяниях и посланиях.
Теперь ответим на главные возражения протестантов против православного учения о Крещении.
Возражение 1. Самая первая, основная причина, по которой протестанты, несмотря на все вышеприведенные места из Св. Писания, отказываются придавать крещению такую важную роль в спасении, какую усвояют ему Библия и древняя Церковь, заключается в том, что в Новом Завете мы встречаем много таких утверждений, которые прямо говорят о том, что для спасения достаточно одной веры. Например: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3:16). Именно по той причине, что этот стих так ясно и ёмко говорит, что всякий верующий (не обязательно крещённый!) во Христа имеет жизнь вечную, то есть спасение, протестанты называют его золотым стихом Библии. И этот стих далеко не единственный.
О том, что веры во Христа достаточно для спасения, говорится и в других местах: "А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими" (Ин. 1:12); "верующий в Меня не будет жаждать никогда… Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день… Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную" (Ин. 6:35,40,47); "верующий в Меня, если и умрет, оживет" (Ин. 11:25); "всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его" (Деян. 10:43); "Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден" (1 Ин. 5:1) и т.д. Как же объяснить все эти места? И как согласовать их с тем библейским и древнехристианским учением о том, что человек спасается, получает прощение грехов, возрождается, соединяется со Христом (облекается в Него) именно через крещение, а не только через одну веру?
Интересно заметить, что в тех случаях, когда протестанты не могут согласовать некоторые места Библии, кажущиеся им противоречивыми, они часто идут путём подавления и умаления одной из истин. Так как учение о спасение по вере кажется им более рациональным, понятным и яснее выраженным в Евангелии, чем таинственное учение о крещении как об умирании и воскресении со Христом[Реформация и вся эпоха Возрождения вообще очень не любила мистику, тайны и чудеса, придавая большое значение разуму и ставя большой акцент на рациональном познании мира] (о чём, как выше мы видели, открыто говорил Ч. Спержден), то потому протестантами решено было учение о спасении и оправдании по вере возвышать и вообще поставить его во главу угла, а учение о необходимости крещения для спасения всячески отвергать и не замечать. Но такое решение данной дилеммы не может удовлетворить того, кто искренне любит Слово Божие, верит в его непогрешимость и непротиворечивость и жаждет познания и согласованияГосподь заповедал ученикам Своим, чтобы только единократно библейской Истины. Есть ли возможность достойно, не отвергая и не умаляя ни одну из двух истин, совместить оба эти учения? Да, есть, и не так трудно найти ответ, как пожелать всем сердцем получить его; не так трудно найти истину, как возжелать и полюбить её всем сердцем и всей душой.
О том, как соотносятся между собою библейские учения о вере и делах - в частности о том, что истинная вера заключается именно в том, чтобы исполнять все заповеди Христа, одна из которых, и очень важных, есть заповедь о крещении - мы уже говорили в главе 6.
Таким образом, вера вообще не может и не должна противопоставляться крещению, ибо именно вера и приводит человека ко крещению, и таким образом она его и спасает. Но так как вопрос этот для протестантизма один из самых основных, остановимся на нём подробнее, и как Христос и вслед за Ним все отцы и пастыри Церкви весьма часто для объяснения истин Царствия Божьего использовали притчи и примеры, взятые из жизни, то таким же образом и я постараюсь объяснить способ согласования двух интересующих нас истин - о том, что спасает вера, и о том, что спасает крещение.
Притча такова. Идёт война. На поле боя находятся солдаты, которых более многочисленный и сильный противник окружил со всех сторон. Им грозит неминуемая гибель. Но вдруг появляется некто и говорит: "Вы - в смертельной опасности! Идите за мной, здесь рядом есть надёжное подземное убежище, в котором вы сможете спастись". Одни поверили, пошли за этим добрым вестником, действительно нашли убежище и спаслись в нём. Другие же, не осознавая своего безнадёжного положения, не поверили ему, остались на поле боя, надеясь на свою победу, и погибли.
А теперь вопрос: каким образом уцелевшие солдаты спаслись? Можно ли сказать, что тех солдат спас вестник? Да. А можно ли сказать, что их спасла добрая весть об убежище? Точно так. А погрешим ли мы если скажем, что солдаты спаслись благодаря своей вере словам вестника? Не погрешим. А можно ли утверждать, что солдаты были спасены благодаря осознанию своей неминуемой гибели и пониманию того, что они находятся в смертельной опасности и нуждаются в спасении? Конечно, и это правда. А справедливо ли думать, что они спаслись благодаря своему переходу в убежище, то есть благодаря самому действию - уходу с поля боя и вхождению в убежище? Эта мысль также вполне справедлива. И последний вопрос: правда ли, что тех солдат спасло само убежище? Очевидно, что и это предположение - чистая правда. Итак, анализируя данную притчу мы ясно видим, что солдаты были спасены благодаря, по меньшей мере, шести аспектам: 1) вестнику; 2) самой доброй вести; 3) своей вере; 4) признанию своего гибельного положения; 5) своему переходу в убежище; 6) самому убежищу.
Эта история прекрасно отображает процесс нашего спасения во всех его главных составных частях. Солдаты - это все люди, которым угрожает враг (дьявол и грех) вечной погибелью. Вестник - это Христос и Его благовестники, возвещающие людям путь спасения. Весть об убежище - это Евангелие, благая Божья весть о спасении. Вера солдат это и есть вера человека в евангельскую весть. Осознание солдатами своего плачевного положения есть покаяние человека, осознающего свою погибель и нужду во спасении. Переход в убежище есть крещение[Вместе с Миропомазанием, в котором человек получает дар Духа Святого], благодаря которому человек облекается во Христа и входит в Его Церковь (становится Телом Христовым). Убежище же есть Сам Христос.
Итак, человек спасается благодаря всем этим шести пунктам: 1) благовестникам; 2) Евангелию (самой вести спасения); 3) вере; 4) покаянию; 5) крещению; 6) Самому Христу. Всё это спасает человека. Если мы будем говорить, что нас спасает Евангелие, покаяние, вера или Сам Христос, то это правильно. Но если мы станем посредством выделения одной истины устранять другую, говоря, например, что мы спасены верой, а значит покаяние не нужно для спасения; или: мы спасены благой евангельской вестью, а значит не верой; или: мы спасены Христом, а значит не благовестием, то всё это будет безумием и большим извращением пути спасения. Поэтому, совершенно нелепо утверждать, что раз нас спасает вера, то крещение уже не спасает. Ведь протестанты, говоря о спасении верой, никогда не будут отрицать того, что мы спасены также благодаря благовестникам, Евангелию, покаянию и, естественно, Самому Христу; то есть они никогда не будут одному средству спасения противопоставлять другие. Почему же один пункт, ведущий от погибели к спасению - крещение - они выбрасывают из этой цепочки? Ведь для того, чтобы наше спасение совершилось, нужны все звенья в цепи.
Для ещё большей ясности можно привести пример и из обычной современной жизни - автомобиль. О нём можно сказать, что он ездит на бензине, и что без него он не может двигаться. Это верно. Но разве, говоря это, мы полагаем, что ничего другого не нужно для того, чтобы машина двигалась? Неужели для движения не нужны водитель, колеса, двигатель, карбюратор и многое другое? Конечно, нужны. И если мы услышим от (Ин. 3,5) кого-либо такое высказывание: "автомобиль движется благодаря бензину", то мы, конечно же, никогда не поймём его слова в абсолютном смысле, что для движения автомобиля нужен только бензин, хотя данное высказывание совершенно верно!
Поэтому, когда мы читаем в Евангелии утверждения, что для спасения совершенно необходима вера, что вера спасает, то это есть чистая правда, но эти утверждения вовсе не значат, что для спасения нужна только вера, а всё остальное - не нужно. И как для того, чтобы двигался автомобиль, нужен не только мотор, так и для нашего спасения нужно очень многое. Для нашего спасения нужен Отец, Сын и Дух Святой; нужно Царствие Божие; нужна любовь и благодать Божия; нужен Авраам, Исаак, Иаков и все праведники Израильского народа; нужно воплощение и Рождение Христа; нужна Дева Мария; нужна проповедь и дела, совершённые Христом; нужен крест, смерть, сошествие во ад, воскресение и вознесение Христово; нужны Апостолы и благовестники; нужны епископы и пресвитеры; нужно Священное Писание; нужна Церковь; нужна вера и покаяние; нужно Крещение, Миропомазание и Причастие; нужна материя - вода, миро, хлеб и вино, посредством чего совершаются важнейшие для спасения Таинства; нужны наши родители, давшие нам жизнь; нужен весь этот мир - воздух, пища и солнце, чтобы мы могли жить и совершить своё спасение - и т.д.
Для того, чтобы спасение было возможным, нужно многое, и всё это Господь совершил и совершает для человека по Своей благодати, и не без участия Своих избранных. Для нашего спасения нужно очень многое - отнюдь не одна только наша вера. Поэтому, утверждая, что для спасения непременно нужна вера, мы не должны говорить и думать, что для спасения нужна только вера, а крещение, например, для спасения не нужно, что мы спасаемся верой, а не крещением. Правильно сказать, что для нашего спасения нужна и вера, и крещение, как и многое другое.
Если св. Ириней Лионский пишет, например, что Иисус "нас освободил от Амалика через связывание Своих рук и возвел в царство Отца"["Доказательство апостольской проповеди", п. 46], то это вовсе не значит, что верные взошли в Царство Христа только благодаря тому, что руки Христа были связаны, и что раз они спаслись связыванием рук Спасителя, то всего остально/supго, как то смерти Христа, веры, покаяния, крещения, исполнения заповедей и всего прочего для спасения им уже не нужно. И именно этой логики протестанты не понимают, когда говорят, что спасает нас не крещение, а вера. Протестантская тенденция постоянно что-то от истины отсекать (от того их и называют сектантами), их привычка опровергать одной истиной другую и их неспособность к восприятию полноты истины проявляется постоянно, на что я не раз в своей книге обращаю внимание, и вопрос о крещении - один из лучших тому примеров.
Таким образом, между одними местами Св. Писания, где говорится о спасении посредством крещения, и другими местами, где говорится о спасении по вере, нет никакого противоречия, как нет его и между такими утверждениями, как: "солдаты спаслись по вере" и "солдаты спаслись благодаря вхождению в убежище", а также: "автомобиль движется благодаря бензину" и "автомобиль движется благодаря колёсам". Вера и крещение есть звенья одной цепи нашего спасения. Нет одного звена в цепи - цепь обрывается, спасение не совершается. Очень хорошо сказал об этом св. Василий Великий: "Вера и крещение суть два способа спасения, между собой сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение основополагается верою, и та и другое исполняется одними и теми же именами. Как веруем в Отца и Сына и Святаго Духа, так и крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 327].
И в Деяниях Апостольских мы видим, что все уверовавшие всегда в скором времени принимали крещение. Вера для того (в частности) и нужна, чтобы привести человека ко Христу, ввести его в Церковь Христову через крещение. Если человек веровал, что во Христе спасение, и это сразу же толкало его на действие - облечься во Христа в крещении и таинственно соединиться с Ним. Потому часто Писание нам и говорит: только уверуй - и спасешься, так как само собой разумелось, что вера, если она истинная, обязательно приведет верующего к спасительному крещению во Христа и вообще к исполнению всех спасительных заповедей Христовых. Без веры не будет ни покаяния, ни крещения, ни спасения. Без веры ни Евангелие, ни благовестники, ни даже Сам Христос не может спасти человека[Христос, конечно, может всё, но Он сам определил, чтобы спасение совершалось по вере человека; точно так, как Христос всегда может творить чудеса, но Он, тем не менее, в отечестве Своём "не совершил там многих чудес по неверию их" (Мф. 13:58)]. Потому, Евангелие так и выделяет значение веры. Но утверждая великую важность веры в деле спасения, Библия вовсе не учит, что для спасения нужна только одна вера, а всё остальное не нужно.
Протестанты делают роковую ошибку и весьма обольщают себя и других тем, что толкуют слова Христа о спасении по вере в абсолютном смысле, без учёта всего библейского контекста - об этом уже говорилось в 6-й главе. Только та вера во Христа спасает, которая, во-первых, проявляется в делах, в исполнении заповедей Божиих, а одна из важнейших заповедей есть заповедь о крещении для прощения грехов; во-вторых, спасает вера не всякая, а истинная, правильная, правая, православная. Мы должны ясно понимать, что всякий истинно верующий во Христа имеет спасение и жизнь вечную, но не всякий как-либо верующий во Христа спасён.
В 6-й главе мы уже говорили, что мусульмане по-своему верят во Христа, но они не спасаются, так как нужно веровать не по-своему, а по истине, правильно. Многие древние сектанты (докетисты, ариане, несториане, монофизиты, монофилиты и прочие) и сектанты современные ("свидетели Иеговы", мармоны, виссарионовцы) также веровали и веруют во Христа. В Него веруют даже многие атеисты, признающие историческое Его существование. Но разве мы признаем, что такая вера их спасёт? Почему же нет, если Христос сказал, что "всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную"? Да потому, что протестанты сами прекрасно понимают, что эти слова Христа нужно разуметь не безусловно, а в библейском контексте, и что наследует жизнь вечную не всякий как-либо верующий, а только всякий истинно верующий! И приводят протестанты эти места только чтобы противиться библейскому и церковному учению о крещении, а не потому, что действительно думают, что одной лишь какой-нибудь веры во Христа (без всего остального) достаточно для спасения.
Злой парадокс и дьявольская насмешка, о чём совершенно не подозревают протестанты, заключается именно в том, что они, - так сильно подчёркивающие роль веры для спасения, более того - построившие на догмате об оправдании верой всё своё учение, - противятся Христу и погибают именно по своему неверию. Христос, как и обещал, послал в мир и поставил в Церкви Своих Апостолов, учителей, евангелистов, пастырей, пророков, мудрых и книжников (см. 1 Кор. 12:28; Еф. 4:11; Мф. 23:34), которые проповедуют нам Евангелие, истину и путь спасения в Церкви Христовой, но протестанты им не верят и отвращают свой слух от голоса Церкви, а ведь кто "церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь" (Мф. 18:17).
Вместо посланных Богом протестанты поверили посланникам, пророкам и учителям дьявола - Лютеру, Кальвину, Цвингли, Мелангтону, Мюнцеру[О Фоме Мюнере, одном из основателей баптизма, сами же баптисты пишут: "Мюнцер стал пастором в Ютеборге по настоянию Мартина Лютера и отличался блестящими ораторскими способностями, но при этом слишком полагался на личное откровение, которое он всегда принимал как голос Духа Святого. Позже, будучи пастором в городе Цвиккау, Мюнцер и трое пророков из этого города, двое из которых были ткачами, настаивали на более решительных реформах, то есть на снятии икон, отказе от старой евхаристии и даже отказе от крещения детей. Когда Лютер находился в Вартбурге, его преемник Меланхтон принял этих пророков в 1521 году в Виттенберге, где они проповедовали с большим успехом, но Лютер по возвращении в Виттенберг изгнал их. В 1523 году Мюнцер стал пастором в Альштедте (Тюрингия), а затем в Мюльгаузене, после чего из-за своих убеждений оставил кафедру и возглавил восстание, известное в марксистской и советской историографии как крестьянская война в Германии. Он считал, что находится в непосредственном общении с Богом, и Бог изрекает Свое слово во внутренность его души. Крестьянская война, которая охватила большую часть Австрии, Центральной и Южной Германии, привела к многочисленным жертвам и, серьезно подорвав авторитет протестантизма, закончилась полным поражением. Сам Мюнцер в 1525 году попал в плен, подвергся пыткам и затем был казнен" (текст лекций Санникова С.В. к курсу: "История и богословие ЕХБ", "предыстория баптизма"). Бог, очевидно, не мог побуждать Мюнцера к кровавой войне, которая "привела к многочисленным жертвам и, серьезно подорвав авторитет протестантизма, закончилась полным поражением". Значит, во внутренность души Мюнцера изрекал свои слова не Бог, и значит, он был лжепророком. Так же обстоят дела и с другими основателями протестантизма. Как-то я беседовал с двумя баптистскими пасторами, и они мне прямо сказали, что считают Лютера антихристом, так как он убивал множество людей. Но если основатели протестантизма были лжепророками и антихристами, то как же от них могла произойти истина? Как из горького источника могла истечь сладкая вода? Но протестанты так ненавидят Православие, что всё же предпочитают следовать вере и откровениям Лютера и Мюнцера, чем вере и святых мужей апостольских и отцов Церкви] и прочим, проповедавшим искажённое и уже не могущее спасти Евангелие. Христос призывает людей прийти в Его Церковь и принять крещение от Им поставленных пресвитеров, но протестанты сломя голову бегут от церковного крещения и истинных пастырей Церкви к волкам в овечьей шкуре, к самозванцам и кощунникам, выдающим себя за пастырей Христовых и крестящих не во Христа, а в свой дух заблуждения. Какие же протестанты верующие во Христа, и какой верой они надеются спастись? Какой-то своей верой? Но спасает только истинная вера, которая приводит человека в Христову Церковь, к водам Её спасительного крещения!
Итак, уверения Христа в том, что всякий верующий в Него имеет жизнь вечную, вовсе не опровергает необходимость крещения для спасения, ибо всякий истинно верующий во Христа обязательно крестится церковным крещением во Христа - потому и наследует жизнь вечную.
Возражение 2. Протестанты говорят, что мы спасаемся не через крещение, ибо написано: "всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся" (Иоил. 2:32; Деян. 2:21; Рим. 10:13). Вопрос этот такой же по сути, как и предыдущий, потому и отвечать на него нужно таким же образом. Эти слова, как и утверждения Христа о том, что всякий верующий в Него имеет жизнь вечную, нужно понимать в контексте всего Евангелия и не безотносительно. Нужно понимать, что эти слова значат, что всякий, кто истинно призовёт имя Господне, спасётся, но не всякий, кто как-либо призовёт имя Господне, спасётся. Разве протестанты, приводя этот аргумент, на самом деле согласны с тем, что всякий, кто призывает имя Господне, спасается? Получается, что спасается всякий, кто только призвал (назвал, позвал) имя Господа. Вот живёт человек, обратился однажды в жизни к Богу: "Господь Иисус Христос", и стал жить дальше своей жизнью, возможно даже весьма греховной и преступной, умер и спасся только потому, что однажды призвал имя Господа. Согласятся ли с этим протестанты? Нет, конечно. Почему же, ведь написано, что "всякий, кто призовёт[Заметим, что здесь не сказано "всякий, кто непрестанно будет призывать", а "кто призовёт", то есть, хотя бы однажды призовёт] имя Господне, спасётся"? А потому, что здравый смысл и весь евангельский контекст не позволяют согласится с абсолютным толкованием этих слов, и как протестанты, так и православные понимают, что это данное Божие обетование действительно только в контексте Евангелия и исполнения и других Христовых заповедей. Человек может спастись не просто, если как-либо призовёт имя Господне, но если призовёт истинно, призовёт так, что за этим последует праведная жизнь по заповедям Христа. Об этом хорошо говорит св. Иоанн Златоуст: "Всякий, который призовёт. Призовёт не просто, - потому что не всякий, говорит (Христос), говорящий Мне Господи, Господи войдёт в Царство Небесное (Мф. VII, 21), - но призовёт с усердием, при хорошей жизни, с должным дерзновением"[Беседы на Деяния Апостольские, беседа 5, п. 2].
Если же протестанты хотят понимать эти слова в безусловном смысле, то почему же они тогда вообще так воинствуют с православными? Разве они не призывают имя Господне? Ведь православные постоянно, на каждой службе и в частных молитвах призывают имя Христа и имя всей Троицы - Отца и Сына и Святаго Духа. Зачем же протестанты вообще отделились от них (или от католиков) и сотворили столько соблазна, если можно спастись и в Православии, которое призывает имя Господне? Зачем тогда протестанты спорят друг с другом (одна конфессия с другой) и противятся католикам, "свидетелям Иеговы", мармонам и прочим христианам, которых они считают еретиками, ведь все они призывают имя Господне!? Ответ очевиден: протестанты сами прекрасно понимают, что данные слова нельзя понимать в абсолютном смысле, и что нужно понимать их именно так, что спасётся не всякий, кто как либо призовёт Имя Божие, но только тот, кто призовёт Его по истине, с правильной верой, так что за этим последует праведная жизнь и исполнение заповедей Христа.
Более того, Сам Христос с ясностью засвидетельствовал то, что далеко не всякий, кто призывает имя Господне, спасается: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного". Ведь говорящий Христу "Господи! Господи!" делает ни что иное, как призывает имя Господне! Что же, Христос противоречит пророку Иоилю и Своим же первоверховным Апостолам, которые возвестили, что "всякий, кто призовёт имя Господне спасётся" (Иоил. 2:32; Деян. 2:21; Рим. 10:13)? Нет, конечно, и решение данного кажущегося противоречия довольно просто, ибо призывать имя Господа нужно истинно и не лицемерно, то есть, не просто называть Христа Господом, но и относится к нему как к Господу (господину), исполняя волю Его. Об этом и говорит Христос. Поэтому, понимать слова Писания: "всякий, кто призовёт имя Господне спасётся" нужно только так, что всякий, кто призовёт имя Господа по истине, то есть, кто будет и называть Христа Господом, и исполнять Его волю, тот спасётся. А воля Христа заключается (в частности) в том, чтобы всякий верующий в Него присоединялся к Его Церкви (а не к самозваным человеческим рукотворным протестантским обществам) и крестился в Ней во оставление грехов. Поэтому, если протестанты призывают имя Господне, но не исполняют Его волю и не крестятся в Его Церкви во оставление грехов, то они призывают Его не истинно и находятся среди говорящих Христу "Господи! Господи", но не входящих в Царствие Божие.
Нужно понимать также, что слова "призвать имя Господа" имеют значительно больший смысл, чем просто обратиться к Господу и назвать Его имя в молитве, в чём мы уже частично убедились. Ведь что значит призвать имя Господа? В гефсиманской молитве к Отцу Христос говорил: "Я… совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне" (Ин. 17:6). "Открыл имя" это не значит, что Христос научил Своих учеников правильно произносить имя Божие "Ягве" или "Иегова", как считают расселисты, или что Он научил обращаться к Богу "Отец" или "Авва", ибо главная миссия и дело Христа заключалось отнюдь не в этом (да евреи и до Христа знали Имя Божие, и называли Его в молитвах "Отцом"). Спаситель открыл имя Отца в том смысле, что открыл Его личность[В еврейском языке слово "имя" означает: 1) имя; 2) сущность; 3) личность (сущность же одушевлённого существа и есть его личность)] и показал Собою, каков есть Его Бог Отец. Дело Христа заключалось, прежде всего, в том, чтобы искупить человека от власти греха и ада, для чего Он умер и воскрес. И для того, чтобы плоды Его победы могли усвоить люди, Христос создал Церковь Свою. Именно в Церкви через, прежде всего, Таинство Крещения, человеку открывается имя Божие, ибо именно в крещении он погружается во имя (то есть в саму личность) Отца, во имя Сына и во имя Духа Святого.
В библейском языке, как известно, слово "познать" означает глубокое, опытное познание и соединение с предметом познания. Так, Адам познал Еву не в том смысле, что просто узнал о ней и увидел её, но так, что теснейшим образом соединился с ней. Так и Бога человек может познать (другими словами - ему может быть открыто имя, личность Божия) путём теснейшего с Ним соединения, а это происходит, прежде всего, в Таинствах: Крещения, когда человек погружается в личность Отца, Сына и Святого Духа; Миропомазания, когда Бог Дух Святой входит в человека Своей личностью; и Причастия, когда человек вкушает само пречистое Тело и Кровь Христовы, соединяясь со Христом всецело - и духом, и душой, и телом. Вот так, прежде всего, открыл Христос Отца Своим ученикам: Он дал им возможность соединиться с Богом теснейшим образом, по истине познать Его; и до этого никто из праведников Ветхого Завета не соединялся с Богом так, как соединяется с Ним Церковь.
Таким образом, призвать имя Господа в полном евангельском смысле слова значит истинно (православно) уверовать во Христа, в крещении погрузиться во имя Господа, получить дар Святого Духа, причаститься Христа и жить по всем Его заповедям для того, что бы призванный и пришедший к нам, и сотворивший в нас Свою обитель Господь (см. Ин. 14:23)[Ин. 14:23: "Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим"] не оставил нас и не ушел из нашего сердца, а напротив, постепенно наполнил Собою всю нашу душу. И как Христос был послан Своим Отцом для того, чтобы открыть имя Божие не всем, а "человекам, которых Ты дал Мне", то есть верным Своим ученикам, так и Апостолы были посланы Христом с той же миссией: "как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир" (Ин. 17:18). Апостолы передали в свою очередь это посланничество своим ученикам, а те - своим, и так до наших дней. Поэтому, только Церковь может сегодня открыть человеку Имя Божие, погрузив его в Триединого Бога в Таинстве Крещения; только в Церкви может человек в полном смысле слова призвать имя Господа, ибо откликаться на его призыв и приходить к человеку Господь желает в полном смысле только в Церкви в Её Таинствах.
На вопрос о призывании имени Господа можно ответить и более простым способом. Давайте опять обратимся к помощи притчи. Представим, что в каком-то городе распространяется смертельная болезнь, и есть только один врач, который способен её излечить. Среди людей ходит молва, что всякий, кто приглашает к себе этого врача, выздоравливает. Итак, истина заключается в том, что всякий, кто призовёт врача, спасётся.
Теперь давайте рассудим, что значит это выражение? Если какой-нибудь больной, лежа на постели, позовёт врача, назовёт его имя, но врач его не услышит, спасётся ли он? Нет, ведь очевидно, что позвать врача нужно так, чтобы он услышал. А если больной позовёт к себе врача и врач услышит его, но не захочет по каким-то причинам к нему прийти, спасётся ли больной? Нет, ведь позвать врача нужно так, чтобы он согласился прийти - заплатить ему или умолить. А если врач услышит, и придёт, но больной не откроет врачу дверь, спасётся ли он? Нет. Ну а если врач услышит, придет и войдёт в его дом, даст ему спасительное лекарство, но больной не станет его принимать, то сможет ли он вылечиться? Опять же нет. Итак, мы ясно видим, что выражение "всякий, кто призовёт врача, спасётся" - истинно, но его нужно правильно понимать, то есть условно. Больной тогда спасётся призыванием имени врача, когда будут соблюдены все должные условия: 1) врач услышит его призыв; 2) пожелает к нему прийти и придёт; 3) больной впустит врача к себе в дом и 4) исполнит все его предписания, приняв все назначенные лекарства.
Так вот, всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся не безусловно, а при соблюдении определённых, Библией указанных условий. Нужно так призвать Господа, чтобы Он 1) услышал нас[Как всезнающий Бог слышит всех и всегда, но отнюдь не всех Он слушает и желает слушать, и не всем отвечает на их моли/strongтвы (см., напр., Прич. 15:29; Ис. 1:15; Иез. 8:18)]; 2) чтобы Он пожелал к нам прийти и соединиться с нами для нашего спасения; 3) чтобы для этого мы истинной верой открыли Ему двери своего сердца, и 4) чтобы мы исполняли Его волю в дальнейшем. Вот такое призывание имени Господа спасает.
Если же говорить о протестантах, то они не могут спастись именно потому, что не призвали и не призывают имя Господне по истине. Господь, как уже было сказано, обозначил путь и условия, при которых Он желает прийти к человеку на его призыв - через правую веру, Свою Церковь и Её Таинства. Протестанты же не желают исполнять волю Христа; они убежали от Церкви и поносят Её вместе с Её Таинствами, извратили многие догматы веры, создали свои богопротивные церкви, и при этом зовут Господа: прийди и поселись в наших церквах и наших сердцах. Да такие призывания протестантами имени Господа при таких условиях - мерзость для Него. Он закрывает Свои уши, чтобы не слышать их призывов (ср. Ис. 1:15; Иез. 8:18), и Он никогда не откликнется на них и не придёт к протестантам, если они не перестанут противиться Его воле, Его истине и Его Церкви.
Вернёмся к нашей притче и представим, что какая-нибудь больная враждует и ненавидит детей того врача, но приходит к врачу и просит его прийти к нему и излечить её. При этом она говорит ему, что через двери она его не пустит, а только через окно, так как ей не нравится, когда кто-то входит к ней через двери; и лекарства его ей тоже не все нравятся: часть она примет, а часть - нет. Сможет ли врач при таких условиях помочь больной, и захочет ли войти к ней через окно? Так вот, эта больная - протестанты. Они враждуют с Церковью, детьми Божьими; они не желают пускать Христа в своё сердце через те двери, которыми Он Сам желает входить к человеку - через Таинства, совершаемые в Его Церкви законными священнослужителями; они желают исполнять только часть Его заповедей, а другую часть не желают. Так может ли и пожелает ли Христос прийти и спасти их? Нет, ибо сами протестанты не желают призвать Его святое Имя должным, угодным Ему образом.
Возражение 3. Как аргумент против крещения как необходимого средства спасения протестанты постоянно приводят также пример разбойника на кресте, который спасся без всякого крещения. Православный ответ на этот вопрос такой.
Во-первых, разбойник умер ещё ветхозаветным человеком. Эра Новозаветной Церкви началась примерно через два месяца после его смерти. А все ветхозаветные праведники спасались без крещения, но они и не входят в славу Церкви - невесты Христовой. Ведь на браке Агнца будет и невеста - Церковь, и возлежащие - друзья Христовы, как написано: "в испещренной одежде ведется она (царица) к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее" (Пс. 44:15). Иисус Христос не зря сказал, что "из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его" (Мф. 11:11). Это значит, что меньший в Церкви по благодати больше, чем самый великий праведник Ветхого Завета, каким был Иоанн Креститель, ибо в Церкви человек крестится во Христа, получаеstrongт дар Духа Святого и причащается самого пречистого Тела и Крови Христовых, а таковой благодати не имел ни один ветхозаветный праведник. Поэтому, хотя разбойник и спасся без крещения, то в славу Церкви он не вошёл (подробнее об этом будет сказано в главе о Церкви).
Нам же, живущим в Новом Завете, говорить о спасении по законам Ветхого Завета - преступно. Мы должны спасаться уже по законам Церкви и стремиться войти в Её славу, а для этого теперь, после дня Пятидесятницы, когда была рождена Церковь, совершенно необходимо креститься во оставление грехов, как писал о том Тертуллиан: "до страдания и воскресения Господа для спасения была одна вера. Но когда вера эта умножилась верою в рождение, страдание и воскресение Его, тогда дарованы полнота таинству…"[Выше данная цитата приводилась полностью].
О том пишет и Димитрий Чуйков: "Итак, как не всякому дано уверовать в Творца вселенной, и как не всякому из уверовавших в Творца вселенной дано уверовать и в то, что Создатель наш есть Бог Иегова, и как не всякому уверовавшему в Творца неба и земли - Господа Иегову дано уверовать и в Сына Его Иисуса Христа, то есть в Того же Иегову Господа, сотворившего небо и землю, да еще и пришедшего, вочеловечившись, в созданный Им мир, -). Спаситель открыл имя Отца в том смысле, что открыл Его личность а последующих все меньше, чем предыдущих, - так, наконец, не всякому уверовавшему в Сына Божиего дано уверовать и в Бога Иегову, оставшегося на земле в Теле Христовом; то есть не всякий верует во Святую Соборную и Апостольскую Церковь, а значит не всякий верующий во Христа нашел Христа, если не обрел в этом мире Тело Его, Которое есть Его Православная Церковь, а значит и не всякий верующий во Христа имеет Христа в себе, то есть - дар Духа Святого, который дает только Новозаветная Православная Церковь… В доветхозаветное время обретением Бога являлась вера человека в Единого Господа, сотворившего небо и землю, и для того времени это был предел Богопознания. В наши же дни, имеющий только такую веру, отстает от жизни более чем на четыре тысячелетия. Верующий же и во Христа, но к Его Православной Церкви не принадлежащий, отстает от жизни на два тысячелетия"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 95-97].
Таким образом, современному человеку, знающему Евангелие, для спасения нужно найти в этом мире среди многих лжецерквей истинную Церковь и войти в Неё посредством крещения, ибо после дня Пятидесятницы не достаточно только веровать во Христа, как при Его жизни, но необходимо креститься в Церкви во имя Его.
Во-вторых, разбойник спасся по слову Самого Христа Спасителя. Если и сейчас Христос пожелает кого-то спасти без Церкви, без Крещения и без всех остальных Таинств, то Он может это сделать, ибо Он есть Господь Вседержитель, Победитель ада и смерти, способный в миг просветить и освятить любого человека, изменить, как поётся в православной службе, "естества чин", то есть всю природу человека. Но мы знаем то, что Сам Христос желает совершать спасение не так, а через Свою Церковь и через установленные Им Самим Таинства. Потому, если даже Христос и в Новозаветное время пожелает кого-то спасти иным путём, одним Своим словом - мы Ему не указ, но любое теоретически возможное исключение никогда не отменяет правила. Правило же для спасения Христос определил ясно: "идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа"; "кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие"; "кто будет веровать и креститься, спасен будет". Ясно зная волю Христа, но при этом изо всех сил пытаться от неё уклониться, цепляясь за пример исключения, причём ветхозаветного, к временам Церкви отношения не имеющего, есть дело не благородное и богопротивное.
Пример новозаветного исключения из правила о крещении всех верующих, о которых стоит упомянуть, это Апостолы, которые, кроме ап. Павла, не были, по всей видимости, крещены (церковным крещением). Но так произошло потому, что они были первыми священнослужителями Церкви, которых никто не мог крестить. Поэтому, в день Пятидесятницы при сошествии на них Духа Святого, они приняли вместе со Св. Духом и благодать крещения; то есть, они мистически были погружены в личность Отца, Сына и Святого Духа без видимого элемента Таинства Крещения - воды.
Другим законным новозаветным исключением из правила крещения для спасения можно считать так называемое крещение кровью. "Это тогда, - объясняет митр. Макарий, - когда кто либо, ещё не успев креститься водою и Духом, подвергается гонениям за веру Христову, проливает за неё кровь свою и вкушает самую смерть, и таким образом крестится тем самым крещением, каким крестился Христос (Матф. 20, 22. 23)"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 340]. Истинность и действительность такого крещения издавна признавала Церковь.
Так, Св. Киприан писал: "Да будет известно, что оглашенные (которые подвергаются мученичеству) не лишаются таинства Крещения: ибо крещаются славнейшим и величайшим Крещением крови, о котором и Господь говорил, что Он имеет креститься иным крещением (Матф. 20, 22)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 341].
Св. Кирилл Иерусалимский: "Кто не примет Крещения, тот спасения не имеет, кроме только мучеников, которые и без воды получают царство небесное. Ибо Спаситель, искупляя вселенную крестом и быв пронзён в ребро, извел из него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, другие во времена гонений крестились собственной кровью. Да и мученичество Спаситель назвал крещением, говоря: "можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? (Марк. 10, 38)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 341].
Св. Григорий Богослов: "Знаю и четвёртое крещение - крещение мученичеством и кровью, которым крестился и Сам Христос, которое гораздо достоуважительнее прочих, поколику не оскверняется новыми нечистотами[Обратим параллельно внимание на то, как понимают само крещение эти святые: св. Киприан называет его таинством; св. Кирилл ясно говорит, что "кто не примет Крещения, тот спасения не имеет"; св. Василий также понимает, что для спасения нужно креститься, а св. Григорий словами "не оскверняется новыми нечистотами" выявляет свою веру в то, что в крещении человек очищается от всякого греха и нечистоты (но потом, часто, по своей слабости человек опять согрешает и "оскверняется новыми нечистотами)]"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 341].
Но к этому важно добавить, что Церковь издревле относила это только к православным. Сектантов же и злостных еретиков, по учению Церкви, не спасает и мученическая смерть за Христа, ибо он умирает не за Христа, а за свою ересь.
Без крещения (и без мученичества) некоторые люди могут быть спасены и в новозаветное время, а именно те, которые не слышали Евангелия и жили по законам своей веры и совести. Они будут спасаться по своим делам и совести (об этом будет ещё разговор в главе "О Церкви"). Но, опять же, таковые никогда не смогут войти в славу Церкви.
Кроме того, это не имеет к нам, знающим Евангелие и слышавшим проповедь Церкви, никакого отношения. Раз мы услышали проповедь и призыв Церкви православно уверовать во Христа, креститься в Него, получить в Церкви через миропомазание Духа Святого, причаститься Тела и Крови Его, то мы уже не можем спасаться как-то иначе. Если мы отвергли призыв Церкви, то мы отвергли Христа, отвергли своё спасение. Ведь кто "церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь".
Итак, после дня Пятидесятницы те, до которых достигла проповедь Церкви, чтобы спастись должны непременно креститься.
Возражение 4. Если крещение возрождает, то почему же в жизни многих людей, крещённых в Церкви, не видны плоды их новой жизни? Для ответа на этот вопрос нужно понять два главных момента.
Во-первых, нужно хорошо понимать, что такое возрождение по самой сути? что происходит с человеком при крещении? и каких плодов нужно от него после этого ждать? Возрождение значит: новое рождение, новая жизнь. Крещение возрождает человека таким образом, что ему даруется новая, Божественная жизнь. Лучше всего это можно сравнить с тем, когда в землю садится семя. Когда земля принимает семя, то она принимает новую жизнь, можно сказать возрождается. Затем это семя будет расти, а качество и скорость роста зависит от того, какова будет земля, и каков будет полив и уход за этим семенем. Так вот, при Крещении (и Миропомазании) человеку даётся семя новой Христовой жизни; в его душе поселяется Дух Святой. Но после этого, человек должен взращивать эту новую жизнь в себе, удаляя из души сорняки греха, препятствующие Духу Святому наполнить Собою всю душу человека.
Хорошо об этом сказал св. Игнатий Брянчанинов: "Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Дар этот сам собою совершен: но мы его или развиваем или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всём изяществе своём только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания"[Слово о человеке, п. 2], а также: "крещённый человек, делая добро, принадлежащее естеству обновлённому, развивает в себе благодать Всесвятаго Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра. Так светлее сияет неизменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как свободнее небо от облаков. Напротив того: делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу. Грех снова получает насильственную власть над человеком, диавол снова входит в человека, соделывается его владыкой и руководителем"[Творения святителя Игнатия, том II, изд. Сретенский монастырь 1998 г., с. 378].
Ту же мысль выражал и древний святой епископ-мученик Киприан: "Духовная благодать, которая в крещении равно приемлется верующими, потом поведением и действиями нашими или уменьшается или умножается, подобно тому, как в или Евангелии семя Господне равно сеется, но, по различию почвы иное истощается, а иное умножается в разнообразном изобилии, принося плод в тридцать, шестьдесят или сто раз больше"[Цит. по: Архиеп. С. Страгородский, "Православное учение о спасении", изд. Казань, 1898 г. репринт М. 1991 г. с. 213].
И так как Бог со Своей стороны всегда делает всё необходимое для возрастания человека в Нём, то всё зависит от самого человека. Потому Православие и подчёркивает важность и полную необходимость усилий со стороны человека в деле совершения своего спасения. Если он будет стремиться исполнять заповеди Христа и удаляться от греха (хотя человек не может достичь этого сам, а только в синергизме с Божьей благодатью), то новая жизнь в нём будет заметно расти: человек будет всё больше исполняться (наполняться) Духом, и всё больше освящаться, и плоды Духа будут всё больше будут проявляться в его жизни. Если же он не будет усердствовать в духовной жизни, и не пожелает расчищать душу от сорняков греха и страстей, то семя новой жизни не сможет расти в нём, и так и останется бесплодным. Никто, таким образом, и не увидит в нём никаких плодов новой жизни. В Египте были найдены семена, которые пролежали бесплодно тысячи лет, так как у них не было влаги и почвы для прорастания. Но он не умерли, и как только им создали благоприятные условия для роста, они стали расти. Вот на этом простом примере можно понять то, как это может человек быть и возрождённым, и не являть никаких добрых плодов. И таковые люди всегда есть в Церкви.
Ф.М. Достоевский замечательно сказал, что Бог с диаволом борется, а поле битвы - сердца людей. И после крещения человека борьба эта отнюдь не заканчивается - наоборот, со входом Христа в душу человека борьба только обостряется. Плоть и её страсти продолжают угнетать душу и склонять её ко греху и жизни по плоти, а жизнь Божия склоняет человека к святости и жизни по Духу. И если человек распинает свою плоть с её похотями, то дьявол в его душе проигрывает и отступает, а Господь занимает в душе большее пространство. Если же человек слушает больше диавола и любить свои страсти, то его новая жизнь заглушается, благодать потесняется, и душу человека всё больше занимает враг. Потому и сказано: "Духа не угашайте" (1 Фес. 5:19).
Итак, отсутствие плодов праведности в некоторых крещённых людях не является свидетельством того, что крещение не возрождает или что оно не имеет в Православии силы, а именно такой вывод спешат сделать протестанты, радуясь очередному поводу сказать что ни будь злое в адрес Христовой Церкви. Нет. Этот факт говорит лишь о том, что те конкретные люди не дают Духу Святому возможности проявить Себя. Но возрождены ли эти люди? Да, возрождены, и именно в том смысле, что они имеют в себе семя (не дерево с плодами, а только семя) новой жизни, и потенциально оно всегда способно начать расти. Такие возрождённые, но бесплодные люди, отличаются от не крещённых (которые по плодам жизни таковы же, как и они) так же, как отличается земля, принявшая семя, но не приносящая плода (из-за отсутствия полива и множества сорняков) от такой же земли, но которая не имеет этого семени. Видимого отличия между нерадивыми крещёнными и мирскими людьми может и не быть: более того, крещённые могут даже больше грешить, чем не крещённые, но при этом между одними и другими есть принципиальное и существенное отличие: в первых (крещённых, возрождённых), как только они начнут трудиться над своей душой, их новая жизнь тут же проявится, а во вторых, сколько не трудись, никак не может проявиться жизнь и плоды Духа Святого, так как самого Его семени в их душе нет. Да, они могут творить добрые дела, но всё это будет производить Дух Святой в таком человеке только из вне, или через его совесть. То есть, не крещённый человек не имеет в себе новозаветного дара Духа Святого, в нём не живёт Сама Его Личность. Когда же случается, что человек - быв крещён в детстве, но которого в вере никто не воспитал, и он прожил много лет во грехах и неверии - обращается к Богу, то его не перекрещивают, ибо "одно крещение" (Еф. 4:4): Господь же, как правило, не отнимает у человека благодати крещения, залог Духа Святого, до конца его жизни, несмотря на его грехи. И если крещённый человек, живший во грехах, кается и обращается к Богу, то семя новой жизни не даётся ему заново, а просто начинает расти и давать свои плоды.
К этому важно дополнить, что в Крещении возрождается только дух человека, а дальше человек призван распространить это возрождение на душу и тело, то есть, он должен сообразовать и выстроить все сферы и отношения своей жизни в соответствие со своим новым рождением. То есть, он должен умерщвлять дела плоти, и творить дела Духа. В этом и заключается процесс освящения и спасения человека. И каждый проходит этот путь по-разному: одни освящаются очень ревностно, другие менее, а третьи вообще не занимаются своим освящением и спасением. Оттого и различный результат; оттого в одних плоды Духа ясно видны, а в других меньше или вообще не видны.
Во-вторых, кто судьи? Протестантам кажется, что все православные без исключения не возрождены. В своей истории баптисты прямо заявляют, что "…Ф. Онищенко был первым украинцем, который пережил рождение свыше"["Истории ЕХБ в СССР", с. 57]. И естественно, то же самое баптисты скажут и о России, и не только о православных до XIX века, но и о живущих в наше время. То есть, их мысль именно та, что среди православных вообще нет возрождённых людей. И так как по их мнению для возрождения нужна вера во Христа как своего личного Спасителя, то значит, никто из православных не верует и не веровал во Христа за всю тысячелетнюю историю христианства на Руси… Не буду сейчас останавливать внимание на том, насколько слова эти не только великое безумие и наглость, но и прямая хула на Духа Святого.
Подумаем о другом: как баптисты судят об этом? Исходя из своего понимания, из своего искажённого духовного опыта и своих представлений о том, что есть возрождение, и каковы должны быть его плоды. Протестант видит, например, что православные ездят в паломничества, поклоняются святыням и иконам, и, пропуская через своё мировоззрение, делает вывод, что всё это плоды язычества. Видит, что православные много молятся по молитвослову, и заключает, что это плоды мёртвой и формальной веры, что у них нет "личных отношений со Христом". Видит, как подвизаются монахи, и думает, что они отвергают благодать Божию и стараются спастись собственными делами, а значит, они и не возрождены. Видит, что православные не цитируют через каждое слово Библию и думает, что Слово Божие не живёт в их душе, и т.п. Но эти выводы очень часто неверны только потому, что протестанты совершенно не понимают православную духовную жизнь, и совершенно не способны правильно оценивать её плоды и проявления. Когда я жил в доме своего отца, я был убеждён, что вокруг нас все наши соседи - неверующие и совершенно не возрождённые люди (православный и неверующий в понимании баптиста обычно синонимы). Но однажды, когда я уже был православным священником, одна соседка заболела и пригласила меня к себе пособоровать её, исповедать и причастить. И когда я совершил всё это и пообщался с ней уже как православный человек, то я увидел её совершенно иными глазами. Это была очень верующая и добрая женщина, которая много молилась, читала Евангелие и духовные книги, очень любила Бога и искренно со слезами исповедовалась. Но по своей скромности, не считая себя способной полемизировать с баптистами, она никогда не говорила с нами о своей вере, и я вслед за своим родителями считал её поэтому не возрождённой. И таких людей в Православии очень много, которые живут тихо, молятся Богу, любят Его, всегда стараются поступать с людьми так, как хотели бы, чтобы с ними поступали люди, но протестантам они кажутся не возрождёнными только потому, что они другого духа и ведут себя не так, как они, и иначе выражают свою веру.
Нужно здесь сказать, что у каждой секты есть свой дух, которым его носители определяют "своих". Так, например, у баптистов и "свидетелей" различные духи, что очень легко заметить. Поэтому, баптисты и не признают в расселистах своих. И если спросить баптиста, кто такой возрожденный человек, и каковы его плоды? он ответит: возрождённый человек стремится делать добро, удаляется от греха, молится Богу, любит Его Слово, посещает собрания и т.п. А возрождены ли "свидетели"? Нет - это обычное мнение баптистов. Почему же нет? Ведь они любят читать Библию, проповедуют, молятся, удаляются от греха, много помогают друг другу и пр.? На этот вопрос баптист скажет, что хотя всё это и так, но их духовность не такая, не правильная, что они не правильно учат, а значит, они не могут быть возрождены. Кто же тогда производит в них все эти плоды? Очевидно, дух заблуждения, который подражает Духу Святому и производит в них все эти плоды, которые только с виду хорошие. Таким образом, протестант судит о возрождении человека не просто по его добрым делам, а прежде всего по соответствию духа человека своему собственному. Харизматы, например, отличающиеся, как известно, тем, что через каждое слово говорят "аллилуйя" и "будь благословен", и, постоянно находясь в восторженном настроении, считают баптистов, которые ведут себя иначе, толи за совсем не возрождённых, толи за полуживых и хромых в вере, и т.д. Таким образом, если человек говорит о Христе, делает добрые дела, молится Богу и пр., но делает он всё это не так, не в таком духе, как сам судящий, то первый не будет признан за своего, во всяком случае, в полной мере. Поэтому, из-за того, что православная духовность сильно отличается от их собственной, протестанты и не могут признать в православных возрождённых людей, и вообще увидеть плоды Духа, ибо судят они по своим личным критериям, по своему духу, а дух протестантизма ясно свидетельствует им, что православные иного духа, то есть, в понимании протестанта, не Божьего. Поэтому, приняв духа заблуждения, протестанты уже не могут судить о правильно оценивать плоды Духа Святого.
Ещё важно сказать, что часто под словом "возрождение" разумеются разные вещи, от чего и происходит непонимание. Нужно выделить два главных (важных для нашего разговора) значения этого понятия. В евангельском, церковном смысле возрождение значит то, о чём и говорится в данной главе - семя новой жизни, даруемое человеку при крещении. Во втором значении, возрождение может употребляться в значении нравственного переворота в жизни, часто как синоним покаяния. При этом может быть вот как. Человек услышал Евангелие, по истине уверовал во Христа и обратился от своего неверия. В нём произошёл некий умственный переворот, переосмысление ценностей жизни, возрождение во втором смысле. Всё это происходит, безусловно, по действию благодати Божией, но благодать эта действует на человека из вне. В Крещении же эта благодать входит в самого человека, как пишет о том митр. Макарий: "Таким образом, благодать Божия, доселе (до крещения) только призывавшая грешника к вере Христовой и возбуждавшая в нём веру, здесь в первый раз таинственно изливается на самое существо человека, и совершенно очищает его, освящает, возраждает"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 317]. Об этом говорит и свящ. В. Рубский: "…протестанты смешивают два разных действия, часто называющихся одним и тем же словом - "возрождение".
В Православии тоже есть понятие о возрождении как обретении веры, покаяния, преданности и т.д. Но когда говорится о возрождении в таинстве крещения, разумеются более глубокие вещи. А именно: усыновление Богу через Иисуса Христа (Еф. 1,5). Первое возрождение открывает Спасителя, второе - соединяет с Ним. Возрождённый верою приходит к купели, чтобы возродить своё падшее естество к обновлённой жизни (Рим. 6,4), стать чадом Божиим. Об этих двух возрождениях души апостол Иоанн благовествует: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1,12). В крещении происходит поистине рождение нового человека"["Православие - протестантизм. Штрихи полемики". Глава "Крещение"].
Итак, Дух Святой и до Крещения может влиять на человека, побуждать его к раскаянию и пр., но это действие Духа будет только из вне, а не изнутри. И под таким воздействием, из вне, человек, конечно же, может очень измениться и являть плоды праведности, и такое изменение можно назвать возрождением (во втором смысле). Внутрь же себя принять Духа Святого, новую жизнь во Христе, человек может только через Таинства Церкви - Крещение и Миропомазание. Протестанты же совершенно не различают одно и другое возрождение, и считают, что если только человек покаялся и изменил свою жизнь, то он уже возрождён духовно.
Кроме того, нужно понимать, что нравственный переворот, влекущий за собой резкое изменение жизни и оставление каких-то грехов (что для протестантов и является главным свидетельством возрождения) переживают многие люди, и изменение жизни отнюдь не всегда является действием истинной веры и благодати. Хороший тому пример - "свидетели Иеговы": сколько у них свидетельств о том, что вот человек жил по-мирски, пил, курил, бил жену, изменял, дрался и пр., а потом пришёл к ним, уверовал и жизнь его совершенно изменилась? Подобных свидетельств множество и у ивановцев, и у буддистов, и у мусульман, и у мармонов, и у коммунистов - сколько людей, приняв коммунизм, стали очень честными, трезвыми, сознательными, трудолюбивыми, жертвенными и пр. Но все эти жизненные перевороты не означают ещё истинного духовного возрождения, а происходят они потому, что за каждой ложной идеологией, религией и сектой стоят свои духи (бесы), и если человек принимает ересь баптизма, например, то другие, более мелкие бесы (или бесы более грубых грехов) пьянства, курения, наркомании, блуда и пр. уступают место более тонкому, сильному и страшному бесу ереси. Протестантам кажется кощунством приписывать дьяволу избавление от грехов, но часто от грехов освобождает человека именно он. Например, враг держит человека в страсти пьянства или блуда, но потом, видя расположенность человека к большим грехам, сам помогает ему освободиться от менее значимых и страшных страстей, ради того, чтобы этот человек стал, например, харизматом или расселистом, и проповедуя свои ереси губил бы уже не только себя, но и многих других. То есть, дьявол часто освобождает человека от одних, грубых грехов ради больших и более тонких грехов.
Ересь же и сектантство это намного более страшные грехи, чем пьянство или блуд. К тому же, освободить сектантов от внешних грехов дьяволу нужно для двойного обольщения. Во-первых, так как всякая секта подражает Церкви, а Церковь являет плоды праведности, то и сектанты, чтобы преуспеть в своём деле обольщения людей, должны являть, прежде всего внешние, плоды "праведности", иначе никто за ними не пойдёт. Во-вторых, это нужно дьяволу для обольщения самого сектанта, который, получивший освобождение от некоторых грехов, считает это истинным возрождением и действием Бога, и к нему приходит сильное убеждение, что та секта, в которой он получил такое освобождение - истинная Церковь. И это - одно из самых коварных и пагубных обманов, которые только придумал диавол.
Таким образом, нравственный переворот, освобождение от каких-то грехов и изменение жизни отнюдь не обозначает ещё духовного возрождения, которое происходит только в крещении. Более того, освобождение от грехов и изменение жизни не всегда является действием благодати, не всегда обозначает истинное возрождение ума, и не всегда приводит в истинную Церковь к духовному возрождению в Таинстве Крещения, а часто является дьявольским обольщением.
Возражение 5. Почему православные часто крестят человека сразу, без предварительного научения и испытания? Суть этого вопроса заключается в том, насколько человек должен быть научен перед тем, как креститься? Протестанты, ссылаясь на слова Христа "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь" (Мф. 28:19-20) говорят, что нужно сначала научить, а потом крестить, а православные не следуют заповеди Христа и часто крестят без предварительного научения.
Для того, чтобы разобраться с данным вопросом, для начала нужно понять, почему Христос два раза использует слово "учить"? В русском переводе в обоих местах используется однокоренное слово "учить", но в греческом оригинале здесь стоят два разных слова. В первом случае стоит глагол (мафитэфсатэ) от
(мафитис) - ученик, и буквально значит "делайте (приобретайте) учеников". Во втором же случае стоит деепричастие
(дидаскондэс) от глагола
(дидаско) - учить, и значит тоже же самое, что и в русском - "уча".
Так какова же разница между первым и вторым словом, между приобретением учеников и научением? Как приобретаются ученики, и много ли нужно для этого времени? О том, как скоро стал учеником Христа Матфей, мы читаем в Евангелии: "Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним" (Мф. 9:9). Как только Матфей откликнулся на призыв Господа, он стал Его учеником. Итак, Христос приобрёл Себе ученика за минуту. А потом уже Иисус начал Его учить. Не много понадобилось времени для приобретения учеников (и их крещения) и ап. Петру. После одной его проповеди "охотно принявшие слово его крестились" (Деян. 2:14-48), и таковых было три тысячи. И после этого они стали учиться у Апостолов (см. Деян. 2:42). Так же и евнуху понадобилось совсем немного времени для того, чтобы стать учеником Христа и принять крещение: "Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его" (Деян. 8:35-38). Как и у кого в дальнейшем учился вере Христовой евнух, в Деяниях не сообщается. Очень скоро, через три дня после уверования, крестился и ап. Павел (см. Деян. 9:1-19).
Итак, есть все библейские основания для того, чтобы уверовавшим во Христа преподавать крещение в короткий срок. Если человек изъявляет желание креститься и жить согласно учению Христа, если он исповедует свою веру в Него (православный символ веры), то его можно крестить. Научение же всему остальному будет происходить после, и всю свою жизнь христианин не должен прекращать учиться.
Протестанты же, считая "великое поручение" (Мф. 28:19-20) Христа важнейшей задачей всей своей жизни, кроме того, что они не понимают главного (что это поручение дано не им, а Церкви, и что стараясь исполнить его, они чаще всего делают только вред, распространяя свои лжеучения), они не понимают даже элементарного грамматического смысла этих слов, думая, что здесь повелевается перед крещением обязательно научить человека вере. Об этом хорошо говорит Димитрий Чуйков: ""Сделать учеником" - это еще не значит: "предварительно научить". Так, первого сентября многие дети становятся учениками такой-то школы, такого-то класса, такого-то учителя, но разумеется, что они еще ничему не были научены в этой школе, в этом классе, этим учителем. Так и всякий человек становится учеником Христа, когда приходит ко Христу через Крещение во Имя Его и, получив дар Духа истины и премудрости, постигает учение Христово. Конечно, учиться заповедям Христовым в определённой мере можно (а часто и нужно) и до Крещения, так как Дух истины в некоторой степени оказывает Своё благотворное воздействие и на неомытое сердце человеческое, без чего, разумеется, вообще бы никто не мог прийти к Крещению. Учеником же Христа можно стать только после Крещения во Имя Христово, если Он изберёт Вас в Свою школу благочестия.
Ещё нужно заметить, что хотя слово (делайте учениками) стоит и перед словом "крестить", но это никак не значит, что сначала нужно делать учениками, а потом крестить. Такое понимание исходит от предвзятости и неграмотности еретиков. Слова Христа: "Делайте учениками все народы, крестя их" так и нужно понимать, как написано, то есть: "делайте учениками крестя", то есть - одновременно с Крещением, как, например, если сказано: "И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день и проповедовал говоря: "ещё сорок дней, - и Ниневия будет разрушена!"" (Ион. III,4), - то конечно же, делать вывод, что Иона сначала прошел по Ниневии, а потом проповедовал, и уж тем более, что он сначала проповедовал, а потом говорил, - только из-за того, что слово "ходить" стоит в этом стихе раньше слова "проповедовал", а слово "п/strongроповедовал", раньшеучить "говорил", - совершенно не правильно! Очевидно, что Иона и шел по Ниневии и проповедовал в ней и говорил - одновременно"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 161-162].
Протестанты говорят, что нужно человека испытать и убедиться, что намерения его серьёзны, и что он действительно будет жить по Евангелию, и не отпадёт от веры. Но кто может безошибочно судить о намерениях человека, и кто может поручиться за него, что он будет жить дальше по вере? Никто. Баптисты, например, испытывают новообращённых часто по нескольку лет, Ту же мысль выражал и древний святой епископ-мучени) от к Кипр) от иан: всей общиной беседуют с ним и расспрашивают его, потом все, часто единогласно, голосуют за его крещение, но некоторые люди всё же уходят от них - каждый год баптисты и другие протестанты отлучают от своей церкви значительное число своих членов - эта "текучесть" в протестантской среде особенно наблюдается в последнее время.
Таким образом, мы не можем точно знать, отпадёт человек от веры, или нет, но Церковь должна каждому предоставить возможность стать на путь веры, войти в Церковь и начать путь освящения. А как человек будет совершать своё спасение - зависит от него. И в апостольской Церкви мы видим, что многие люди принимали веру и крещение и даже были сотрудниками Апостолов, но потом отпадали от веры и благодати, и, по всей видимости, навеки погибали. Таковы: Симон волхв (Деян. 8:13-24), Анания и Сапфира (Деян. 5:1-10), Диотреф (3 Ин. 1:9), Димас (2 Тим. 4:10) Именей, Александр и Филит (1 Тим. 1:19-20; 2 Тим. 2:16-18) и другие. Так если недостойные члены Церкви были даже при Апостолах, которые находились под особым водительством Духа Святого и, имея дар прозорливости и возможность предвидеть конец этих людей, могли не преподавать им крещение, но, тем не менее, крестили и таковых, то тем более emтакие люди могут быть и всегда были в последующие времена Церкви. Если Апостолы крестили и верных, и тех, которые впоследствии оказывались не верными, то тем более сейчас священник не имеет права сказать человеку: "мне кажется, что ты не будешь жить по Евангелию и отступишь от веры, поэтому, я не крещу тебя". Таким образом, Церковь должна преподавать крещение всякому, кто православно исповедует Христа и желает креститься.
Но это не значит, что Церковь в лице своих священников обязана сразу крестить всякого желающего. Когда это необходимо, Церковь может откладывать крещение человека и давать ему возможность познакомиться с азами веры, если он их совсем не знает. Такой подход наиболее уместен и даже необходим в тех случаях, когда Церковь приходит в чужую страну, где царит чуждая ей культура и религия. Например, когда Церковь пришла с миссией в Японию, то японцев не крестили сразу, а проводили с ними катехизацию (предварительное научение азам веры). Катехизация была обязательной перед крещением и в первые века христианства в языческих народах. Желающим принять крещение сначала объясняли азы веры, а затем, как правило, на Пасху, крестили. Когда же Православие принимали целые страны и империи, как Византия и Россия, то со временем необходимость проводить катехизацию крещаемых отпадала, поскольку почти все были крещаемы ещё в детстве. Проводить же катехизацию с родителями и крестными также не было необходимости, ибо все они были верующими (по крайней мере, исповедовали себя христианами и многое знали о Христе и вере), и все ходили в Церковь. Недавно я узнал и необычайно удивился тому факту, что в моём родном городе Артёмовске до революции было пять больших Храмов при численности населения в десять тысяч человек! То есть, на каждые две тысячи жителей был Храм, и наполнены они были больше, чем сейчас, что говорит о том, что большинство жителей города были воцерковлёнными верующими и активными прихожанами.
Сейчас же, когда духовная ситуация в святой Руси сильно изменилась, опять появляется необходимость в некоторых случаях научения основам веры перед крещением, и эта практика стала сейчас в Православии возобновляться. Во многих Храмах крещение, даже младенцам, преподают только при условии предварительного посещения нескольких катехизаторских бесед с крещаемыми или крёстными, а в некоторых местах эта практика узаконена на уровне целой епархии.
Итак, Церковь за свой многовековой опыт имеет различную практику преподавания крещения. Если есть необходимость и возможность перед крещением научить человека основам веры, то нужно это делать; если таковой необходимости (или возможности) нет, то можно крестить человека и на самом малом основании -
1) изъявлении им желания креститься и
2) православного исповедания им веры.
В начале уверовавших из иудеев крестили сразу, поскольку они уже многое знали из Ветхого Завета, и им нужно было только признать, что Иисус из Назарета и есть обещанный Христос. Дальнейшему они могли научиться уже после крещения. Потом, когда Церковь стала проповедовать язычникам, появилась необходимость проводить катехизацию уверовавших перед крещением.
По своему уникален случай крещения Руси. Широкой катехизации здесь не было, и народ был крещён Богу по примеру и вслед за князем Владимиром, принявшего Православие, который посвятил свой народ Богу подобно тому, как сделал это в своё время Авраам: "И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог" (Быт. 17:23).
Заметим, обрезание есть заключение завета с Богом, а завет есть соглашение двух сторон. Однако, Авраам, что совершенно очевидно, не спрашивал у каждого из своих рабов (которых только способных к войне было "триста восемнадцать" (Быт. 14:14)), желают ли они вступить в завет с Богом, но зная, что завет с Богом есть благо и спасение для человека, как господин в своём доме заключил союз между Богом и своими людьми по своей воле.
Вот так сделал и святой князь Владимир, и произошло это по мудрому провидению и милости Божьей. И сама практика жизни показала, что крещение Руси было делом промысла Божьего, и народ добровольно[Только в одном Новгороде небольшая группа людей не захотела креститься, но этот частный и единственный случай враги Церкви выставляют так, как будто вся Русь была крещена насильно] и от души принял Веру Христову, иначе Православие не могло бы получить такого широкого и быстрого распространения на Руси. Протестанты, как известно, очень много высказываются против крещения Руси, говоря, что она была крещена насильно. Но почему же они вовсе не возмущаются, когда читают о том, как Авраам "насильно" обрезал и ввел в завет с Богом своих рабов? Всё дело в том, что крещение Руси было великой победой Церкви и большим поражением дьявола. Потому он и его слуги до сих пор и скрежещет зубами на случившееся. Если бы что-то подобное случилось с протестантами, и какой-нибудь царь принял, например, баптизм и весь свой народ обратил бы в эту веру, то баптисты бы никогда ни слова не сказали бы ни о каком "насилии", или против этого царя. Напротив, они бы считали его героем веры, и всё случившееся - великой милостью и чудным промыслом Божиим. Против же крещения Руси протестанты выступают только потому, что приняла Русь не протестантизм, а ненавистное им Православие, ради борьбы с которым и существуют все секты.
После падения СССР множество людей, как известно, пошли в Церковь креститься, и многие принимали крещение без предварительной катехизации. Но на это у Церкви тогда совершенно не было сил - из-за массовых репрессий у Неё не было достаточного количества образованных священников. Сейчас же, когда сил у Церкви уже больше (делайте учениками) стоит и перед словом , а крещаемых меньше, стала возобновляться, как было замечено, практика предварительного научения. Но Церковь может - в зависимости от ситуации, своего положения и пользы дела - в одном случае скоро крестить всякого желающего и православно исповедующего веру, а в другом требовать от желающего креститься более полного предварительного изучения основ веры. То есть, говоря конкретнее, если у епископа и священников, которые и принимают решение о крещении человека, нет по каким-то причинам сил и возможности основательно наставить человека в вере, то лучше его наставить сколько возможно, дать краткие советы к духовной жизни и крестить, вверяя в руки Божии, чем не крестить - вот в чём заключается важная истина, которой и следует Церковь.
Протестанты же выступают против православной практики скорого крещения (хотя иногда и они преподают крещение человеку после 2-3 недель после его "покаяния") по трём главным причинам. Во-первых, само крещение они понимают только как присоединение к поместной церкви, а не как возрождение, спасение, прощение грехов и соединение со Христом, о чём уже было сказано. А если так, то и спешить им особо некуда. Некрещеный по их понятию уже прощён, спасён, возрождён и соединён со Христом. Православные же, решая вопрос крещения, всегда учитывают важнейшее значение крещения для спасения человека, и бояться слишком долго его оттягивать, чтобы человек не умер без крещения. Оттого протестантам так трудно здесь понять православных.
Во-вторых, по крайней мере, на постсоветском пространстве протестанты не являются доминирующей религией, как Православие. Поэтому, им очень нужно перед крещением новообращённого вытравить из него Православие и наставить его именно в своей вере - баптистской, пятидесятнической или какой другой. По сей причине, для того, чтобы даже номинально православного сделать баптистом, нужно не мало времени. Точно так же и для того, чтобы баптисту стать православным, нужно время. Православные в Германии или Америке, например, где они находятся в меньшинстве, отнюдь не сразу преподают крещение желающим, а некоторое время научают их Православной Вере. Вот, например, один протестант, мой бывший сокурсник по ДХУ, Сергей Тютюник, который живёт сейчас в США и желает принять Православие, пишет мне: "разговаривал с отцем Алексием о том, чтобы стать членом (православной) церкви, он мне сказал прослушать курс лекций и изучить Православный катехизис, чем я и занимаюсь в настоящее время", а также: "Что касается, катехизации перед крещением… это обязательное требование для всех…". Когда я, например, принимал крещение, то мой друг, который много времени наставлял меня в Православии, заверил священника, к которому он ходил на службу, в том, что я ознакомлен с верой, и он повелел мне только выучить наизусть Символ Веры. То есть, тогда, когда это необходимо, православные требуют перед крещением пройти катехизацию, но в России этого отнюдь не всегда требуется, ведь большинство людей с азами веры знакомо с детства, и всегда имеет возможность и дальше изучать веру и воцерковляться.
В-третьих, наибольшая трудность для протестантов в обращении людей в свою веру на постсоветском пространстве заключается именно в том, что большинство этих людей крещены в Православии, и они чащевозрождение всего отказываются принимать протестантизм именно по той причине, что они уже крещены в Православии, и менять веру своих предков не хотят. Потому протестантов так это и раздражает, и потому они так и добиваются того, чтобы Православная Церковь не крестила младенцев и не спешила с крещением взрослых. Да, это было бы очень на руку сектантам - так им было бы намного легче совращать наш народ в свою веру и расхищать Христово стадо. Поэтому, сам тот факт, что протестантам так ненавистно то, что в Православии не откладывают крещение на долго, ясно свидетельствует о том, что Церковь в данной исторической ситуации избрала, в общем, верную позицию. Можно с уверенностью сказать, что скорое крещение, преподаваемое и младенцам, есть сильная защита Церкви от сектантства в наше тяжёлое время.
Поэтому, если учитывать эти три обстоятельства, а также апостольскую практику скорого крещения уверовавших, и если правильно понимать суть крещения и различие между "приобретением учеников" и "научением", то можно согласиться, что православная практика скорого крещения вполне оправдана и обоснованна.
Возражение 6. Протестанты нередко выдвигают православным то обвинение, что они крестят не погружением, а обливанием, тогда как само греческое слово "крестить" () значит "погружать". Православные не спорят с тем, что лучшая форма крещения есть полное погружение, и по возможности стараются именно так крестить. При князе Владимире Русь была крещена именно погружением. При Соборе в г. Славянске, где я начал своё служение диаконом, имеется баптистерий, в котором крещение совершается полным погружением. Баптистерии есть и в других православных Храмах, хотя и не во многих, поскольку в них нет большой необходимости, так как в нашей стране большинство людей принимают крещение в детском возрасте, и небольшой купели бывает достаточно для погружения малого ребёнка.
В общем, можно сказать, что в этом вопросе православные руководствуется правилом, записанном в Дидахе (гл. 7): "Что же касается крещения, крестите так: наперёд провозгласив всё это крестите в живой (т.е. проточной) воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же нет живой воды, крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в тёплой. А если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа"[О том же по сути говорит и св. Ипполит Римский (170-235 гг.): "Вода должна быть проточная из источника или текущая с высоты. Пусть это совершается таким образом, если нет какой-нибудь другой необходимости. Если же есть постоянная и срочная необходимость, пользуйся водой, которая есть" ("Апостольское предание", гл. 21)].
Такой способ крещения - через обливание - использовался в древней Церкви в исключительных случаях, прежде всего для крещения тяжело больных, которых нельзя было крестить через погружение. И св. Киприан (III в.) по поводу споров о способе крещения писал, что крещение не теряет своей силы и в случае его совершения через возливание[Письмо 76]. Хотя всегда лучше делать так, как лучше, и хорошо, если есть возможность, всегда крестить полным погружением. Возможно, что современным епископам и священникам следовало бы при устроении, особенно богатых городских Храмов, где к тому есть все возможности, устроять баптистерии в обязательном порядке. Но этот вопрос не меняет сути дела. Главное, что с древних времён крещение и погружением и, в случает необходимости, возливанием считается действительным, если совершается в Церкви законным священником, хотя крещение погружением предпочтительнее и гораздо больше отвечает самому своему смыслу.
II. О детокрещении
Как известно, большинство протестантов детей не крестит, и считает, что это невозможно в самом принципе. Аргументы приводятся такие: для крещения нужно 1) веровать и 2) покаяться, а дети не способны на это. Крещение, также, есть "обещание Богу" (1 Пет.3:21), а дети обещать не могут. Поэтому, обещание Богу чего либо от имени младенцев есть насилие над его волей. И вообще, крещение, как мы видели, протестант понимает как сознательное заключение обета с Богом, как свидетельство Богу, себе и ближним о своей вере, как публичное исповедание Христа, как принятие обязательств перед конкретной поместной общиной быть достойным её членом, а всего этого ребёнок делать не может. "Крещение принимается только по вере, а вера приходит через слышание Слова Божьего, как поясняет нам Апостол Павел в послании к Римлянам 10:17. Кто же может слышать и научаться, понимать, каяться, а после этого креститься? ТОТ, КТО ИМЕЕТ ПОЛНОЕ СОЗНАНИЕ! Без полного сознания этого никто не может исполнить! Не может выполнить этого ребёнок, если он ещё не имеет полного сознания"[Г. Добровольский "Во свете Писания", изд. "Наши дни", Калифорния, 1967 г., с. 34] - вот типичная позиция протестантов.
Итак, для начала рассмотрим свидетельства Слова Божьего и древней Церкви о детокрещении, а затем будут даны разъяснения на главные недоумения протестантов насчёт детокрещения.
Вот главнейшие свидетельства Св. Писания, подтверждающие догмат о детокрещении.
1) Для начала вспомним те места, которые мы уже рассмотрели в первой части главы: "да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа"; "если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие"; "кто будет веровать и креститься - спасен будет"; "крещение… спасает"; "Он спас нас… банею возрождения и обновления Святым Духом"; "все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись", и т.д. Дети, как и взрослые, нуждаются в прощении грехов, в новой жизни во Христе (рождении свыше), в спасении. Но раз всё это человек не может получить без крещения, то если мы желаем своим детям всех этих благ, то мы обязательно должны их крестить, иначе они будут вне Церкви, вне Христа, вне Духа Святого.
2) Ап. Пётр, после произнесения им пламенной проповеди, на вопрос слушателей "что нам делать, мужи братия?" отвеemтил: "покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш" (Деян. 2:37-39). Здесь говорится, что обетование крещения и дара Духа Святого принадлежит и взрослым, и детям. Протестанты не соглашаются с этим, и говорят, что под детьми здесь подразумеваются будущие потомки. Под детьми здесь нужно понимать и потомков, но вовсе не только их. Первый и более простой и ясный смысл этих слов заключается в том, что обетование Духа Святого принадлежит буквально "вам… и детям вашим", и мысль эту также усиливают слова "да крестится каждый из вас", а также тот факт, что ап. Пётр обращается ко "всем живущим в Иерусалиме".
Но наиболее ясным подтверждением тому, что под детьми здесь подразумеваются и малые дети, является то обстоятельство, что ап. Пётр ссылается в своей речи на пророчество Иоиля: "мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать… И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется" (Деян. 2:14-21).
Итак, ап. Пётр прямо связывает случившееся с ними (сошествие Духа Святого)[Можно заметить, что Дух Святой сошёл на собрание из ста двадцати человек (Деян. 1:16; 2:1), и почти не вероятно, чтобы среди них (или с ними) не было ни одного ребёнка. Ведь во все времена, как православные, так и протестанты приводят на собрания своих детей] с тем излиянием Духа Святого, о котором предсказал Иоиль, и в той части пророчества, которую процитировал ап. Пётр, содержится обетование о том, что Дух Святой будет излит на всякую плоть, включая, естественно, и малых детей. И в полной справедливости этого вывода окончательно убеждает нас прочтение всего пророчества Иоиля (2:12-32), где ещё конкретнее говорится о том, на кого изольётся Дух Святой: "Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев… И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть…". Итак, задолго до дня Пятидесятницы Бог предсказал, что Дух Святой будет излит на всякую плоть, в том числе, и на грудных младенцев.
Таким образом, младенцы способны принимать Духа Святого и откликаться на Его благодать. Эту истину также подтверждает Лк. 1:15, где об Иоанне Крестителе сказано, что он "Духа Святаго исполнится" не только от рождения, но "еще от чрева матери своей" (хотя он исполнился Духом Святым и не в новозаветном ещё качестве). Потому и "взыграл младенец во чреве" (см. Лк. 1:41) своей матери Елизаветы, когда к ней пришла Дева Мария, носившая в Себе Христа, что святой Иоанн особо чутко воспринимал душой благодать Божию и откликался на неё. И Сам Господь наш сказал: "Да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?" (Мф. 21:16; ср. Пс. 8:3). Итак, младенцы и грудные дети хотя и несознательно могут по своему хвалить Бога, и делать это они могут только по действию благодати, потому, что они способны её воспринимать. А раз так, то значит они могут принять и благодать крещения, ибо крещение всегда в Библии предшествует получению Духа Святого (чему ясно учит Библия и вся древняя Церковь, и на что я многократно обращаю особое внимание в настоящей и следующей главе, и что отрицают протестанты). Да и как можно запрещать крещение тому, на кого может и желает излиться Дух Святой, как говорил ап. Пётр: "кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?" (Деян. 10:47).
Протестанты же, несмотря на ясные свидетельства Библии о том, что и младенцам принадлежит обетование крещения и излияния Духа Святого, смеют противоречить Богу и утверждать, что дети, тем более младенцы, не могут креститься и принять Духа Святого (поскольку на это способен только имеющий веру и "полное сознание"). Всё это не мелочи, а весьма значительная ложь, богоборство и ересь протестантизма.
3) Лк. 18:15-16: "Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей . Почему православные часто крестят человека сразу, без предварительного научения и испытания? Суть этого вопроса заключается в том, насколько человек должен быть научен перед тем, как креститься? Протестанты, ссылаясь на слова Христа приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие". Во время жизни Христа, когда Он был на земле во плоти, а церковное крещение ещё не было установлено и Дух Святой ещё не сошёл, прийти ко Христу (или привести ребёнка ко Христу) имело буквальный смысл - физически подойти ко Христу. Сейчас же Христа в теле с нами нет, в известном смысле, но никто, в том числе и протестанты, не станет утверждать того, что в настоящее время данные слова Христа уже не имеют смысла. То есть, и сегодня повеление Христа "пустите детей приходить ко Мне" остаётся в силе. Но как можно исполнить это повеление, и куда мы должны приводить своих детей? Иначе говоря, где сейчас находится Христос? Протестанты, во исполнение этой заповеди, приносят своих детей для благословения пресвитера. Но Христос сказал, чтобы детей приносили к Нему, а не к пресвитеру. Через благословение и молитву пресвитера, даже истинного и законного, ребёнок не может прийти ко Христу. А как же может? В первой части главы приводилось важнейшее в богословском отношении свидетельство Св. Писания: "сей есть Иисус Христос пришедший водою". Повторю, что Христос, крестившись, оставил себя в воде, и теперь каждый, кого Церковь крестит, погружается (облекается, соединяется) не просто в воду, а в самого Христа. О Христе сказано также, что Он пришёл "не водою только", но "водою и кровию и Духом" (1 Ин. 5:6).
Итак, Христос остался в нашем мире в воде (Крещении), в крови (в Причастии) и Духе, подаваемом в Миропомазании. Поэтому, привести ребёнка ко Христу после Его вознесения на небеса значит крестить (погрузить, облечь) его во Христа; передать ему Духа Святого через Миропомазание[О том, что Дух Святой передаётся в наши дни именно через миропомазание, будет сказано в следующей главе] и причастить Его пречистых Тела и Крови.
Данное место Евангелия замечательно объясняет Димитрий Чуйков: "Лук. XVIII,15,16 говорит о повелении Христа пустить детей приходить к Нему и не препятствовать им, потому что таковых, то есть таких как дети, есть Царствие Божие. Обратите внимание! Ко Христу приносили младенцев, то есть настолько малых детей, что они не могли бы идти к Нему сами. И бесспорно, Христос видит, что младенцев приносили к Нему, а не шли младенцы к Нему сами, и, однако же, Христос не сказал: не препятствуйте приносить ко Мне детей, а именно: "пустите детей приходить ко Мне". Сии слова Христа согласно передают все три синоптические Евангелия, потому что это вовсе не мелочь для знающего Библейский язык. Выражение: "приходить ко Мне" в устах Христа - это никак не речь просто о какой-то ходьбе, а - о великом деле веры в Господа нашего, деле покаяния, обращения, возвращения к Богу, вхождения в Его Новозаветное Царство (ср.: Мф. XI,28[Мф. XI,28: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас"]; Ин. VI,37[Ин. VI,37: "Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон"]).
Итак, Христос, видя приносимых к Нему детей, осознанно и нарочито употребил это выражение, желая дать понять Своим ученикам, что и младенцы, еще не способные ходить, могут приходить к Нему.
Более того, дети не только могут приходить ко Христу в полном Библейском смысле этого выражения, а именно дети, и такие как дети, по милости Божией, только и входят в Царство Небесное (ср. Лук. XVIII,17)[Лук. XVIII,16,17: "16. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие; 17. истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него"]. И в связи с этим стихом, обратите также внимание, что для Христа мысли о приходе к Нему и о вхождении в Царство Небесное - тождественны (ср. Лук. XVIII,16 и 17 стих, что подтверждает сказанное мною выше).
Теперь замечу, что на время произнесения Христом Лук. XVIII,16,17, то есть ещё в пребывание Его на земле в ограниченном человеческом теле, прийти ко Христу, именно в Библейском смысле этого выражения, дети могли лишь отчасти, то есть, могли получить Христово благословение, и через прикосновение к ним Его руки, прикоснуться к Царству Небесному, но пока только - прикоснуться, а не войти в него. Когда же, по прославлению Своему, Христос в новом Теле вознесся и сел одесную Бога на Небесах, и вновь сошел на землю, не оставляя небес (ср. Ин. III,13), Духом Своим Святым в сердца ожидавших Его, и ныне пребывает здесь в Церкви Своей, Которая есть Тело Его (см. Кол. I,24), то со дня Пятидесятницы и по день Восхищения Церкви, прийти ко Христу: ребёнку ли, или взрослому, это значит - войти в Церковь (ср. Евр. III,6)[Евр. III,6: "А Христос, как Сын, в доме Его; дом же Его мы..."].
Войти же в Церковь Христову, значит креститься во Имя Иисуса Христа (ср. Деян. II,41 и 47 стих). Поэтому со времени сошествия Святого Духа "прийти ко Христу" и "креститься во Имя Иисуса Христа" - понятия тождественные. И теперь, чтобы исполнить повеление Господа Нашего, записанное в Лук. XVIII,15,16, до конца, насколько это со дня Пятидесятницы стало возможным, необходимо погрузить ребёнка во Имя, то есть Личность Иисуса Христа, что и совершает Православная Церковь в Детокрещении со дней первых Своих Апостолов"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 139-141].
4) Св. Писание свидетельствует нам о крещении четырёх семейств, а именно: дома Стефана (1 Кор. 1:16); Лидии с её домашними (Деян. 16:14-15); темничного стража со всеми его домашними (Деян. 16:33) и Корнилия со всеми его родственниками и друзьями (Деян. 10:24,44,48). Протестанты говорят, что в этих семействах не было детей. Но это почти невероятно, чтобы в трёх семействах, - особенно, если учитывать то, что в древности все семьи, как правило, были многодетными, и взрослые дети часто жили в доме своих родителей со своими детьми, а также, что многие люди имели и рабов с их семьями, - не было ни одного ребёнка. Но даже если мы не можем быть уверенными на все 100% в том, что в этих семьях были дети, то нельзя утверждать и того, что их там не было. И раз мы этого точно не знаем, то нужно поступать по Писанию: если оно даёт нам несколько примеров крещения целых семейств, не уточняя того, были ли там дети, то мы и должны крестить целые семейства, не зависимо от того, есть ли там малые дети или нет. К тому же, крещение целых семейств со всеми детьми полностью соответствует проповеди ап. Петра (и пророчеству Иоиля) о том, что обетование крещения и Духа Святого принадлежит "всякой плоти", "каждому из вас", в том числе, и "грудным младенцам". Более того, крещение всей семьи, в том числе и детей, полностью соответствует также учению и практике древней, в том числе и первенствующей, Церкви, чему ниже мой читатель увидит ясные подтверждения.
5) В Ветхом Завете есть прообраз крещения - переход евреев через Чермное море (Исх. 14 гл.). Об этом событии вспоминает ап. Павел: "Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море" (1 Кор. 10:1-2). Вообще, эта знаменательная история спасения израильтян от египетского плена и власти фараона является , гл. 21)]прообразом не только крещения, но и всего новозаветного спасения человека во Христе от плена греховного и власти диавола. Здесь присутствуют все 6 элементов новозаветного спасения, о которых было сказано выше в истории о солдатах:
1) вестник о спасении - Моисей[Который в своём лице прообразует и Христа, и проповедников Евангелия];
2) сама добрая весть о возможности спасения от врагов на другом берегу моря;
3) вера евреев Моисею и благой вести о спасении;
4) осознание ими своего погибельного положения;
5) действие, то есть сам переход через море, и
6) другой берег - место спасения.
Сам переход на другую сторону моря прообразует крещение, и ап. Павел в вышеприведенной цитате прямо называет этот переход крещением. Но кто участвовал в этом переходе? Одни лишь взрослые, которые сами лично могли веровать, признавать своё погибельное положение и нужду в спасении и сознательно сделать выбор перейти на другую сторону моря (то есть, креститься в Моисея в облаке и в море[Слова ап. Павла "все крестились в Моисея в облаке и в море" говорят о том, что при крещении верующие крестятся во Христа (которого прообразовал Моисей), в море, то есть в воде, и в облаке, то есть, что крещение совершает Сам Бог (который шёл с Израилем именно в виде облака), и что крещающиеся крестятся не только во Христа, но и во всю Троицу - и Отца и Духа])? Оставили ли евреи своих младенцев на этом берегу до тех пор, пока они не вырастут? Стал ли кто спрашивать детей, веруют ли они Моисею и согласны ли они перейти на тот берег? Нет, естественно. И как дети евреев крестились в Моисея в облаке и в море не по своей личной вере, а вере своих родителей, так и дети христиан крестятся во Христа по вере своих родителей.
6) В Ветхом Завете есть ещё один яркий прообраз крещения - обрезание, и ап. Павел проводит явную параллель между двумя этими священнодействиями: "В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним в крещении..." (Кол. 2:11-12). Итак, крещение является новозаветным обрезанием.
Кого же обрезывали в Ветхом Завете? Чаще всего младенцев[Девочки входили в завет с Богом без обрезания, так как оно было по плоти. Для того же, чтобы заключить Новый Завет со Христом по Духу, должны креститься все. К тому же, обрезание было для девочек физически невозможным, а крещение возможно. Поэтому, то обстоятельство, что ветхозаветное обрезание совершалось только над мужским полом, не мешает ему (обрезанию) быть прообразом крещения], в восьмой день их жизни! И нужно ведь ясно для себя понимать, что через обрезание их вводили в завет с Богом, а само слово "завет" значит соглашение - соглашение двух сторон. Поэтому, и Ветхий, и Новый Завет есть заключение соглашения между Богом и человеком, при котором обе стороны берут на себя определённые обязательства. В случае с Ветхим Заветом, израильтяне брали на себя обязательства жить по закону Моисея и исполнять его предписания. Когда же ребёнка вводили в этот Завет через обрезание, то кто с его стороны давал эти об/supязательства? Его родители, и если ребёнок вырастал и не соблюдал закон Моисея, то разве не считался он отступником от завета с Богом? Обязательно считался, что говорит о том, что этот завет, который заключали с Богом родители ребёнка за него, считался совершенно действительным. Вот так и в Новом Завете: через крещение родители вводят своего ребёнка в Завет со Христом, и заключают его от имени своего ребёнка, и это, как и раньше, считается совершенно действительным.
7) Христос, говоря Апостолам "идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вemам" (Мф. 28:19-20), не сделал никакого исключения, тогда как, например, в случае насыщения толпы, когда дети не имелись в виду, это в Евангелии оговаривается (см. Мф. 14:21). Если же вспомнить то, о чём говорилось выше, что в оригинале "научите" /strongзначит "приобретайте учеников", то для крещения ребёнка нет никакой трудности. Если родители принимают веру сознательно, и обещают своих детей воспитывать в вере, то таковой ребёнок приобретён для Церкви как ученик, ибо воля ребёнка находится в воле его родителей. Его можно крестить, а затем последует его научение. Точно так, как родители имеют право сделать своего ребёнка учеником музыкальной или иной школы, так точно они имеют право сделать его и учеником Христа. И если никто не считает насилием над ребёнком, когда его учат говорить и писать, то какое безумие считать насилием над ребёнком, когда его посвящают Христу в крещении, вводят его в Церковь, сообщаютне водою только Духа Святого и учат вере Христовой?
8) Для чуткого душой, отзывчивого к благодати Божьей и способного тонко мыслить подтверждением детокрещения может послужить даже такое древнее Божье повеление, как "плодитесь и размножайтесь" (Быт. 1:28). Димитрий Чуйков пишет об этом так: "…заповедь: "плодитесь и размножайтесь" была дана Богом человеку еще до грехопадения, и если бы Адам и Ева поспешили скорее исполнить эту благословенную заповедь, а не преступить другую, о запрете вкушать от древа познания добра и зла, то рожденное ими было бы безгрешным, то есть родилось бы живым и по плоти, и по emдуху. Теперь же, после грехопадения, когда над нашим миром довлеет закон смерти, не всякая семья способна родить живого ребенка даже по плоти, а по духу - и всякий из нас рождается мертвым. Поэтому теперь для того, чтобы во всей полноте исполнить древнюю заповедь о деторождении - мало родить ребенка только по плоти, но необходимо родить его и духовно, то есть - полноценным, что и совершается Православной Церковью в Крещении и Миропомазании младенцев"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., с. 135].
Имеет смысл здесь указать на то, что библейскую обоснованность детокрещения признают даже многие протестанты, такие как лютеране, кальвинисты, гернгутеры, англиканцы и методисты. Детей крестили и другие протестантские деноминации, из которых впоследствии выделился русский баптизм[В своей официальной "Истории ЕХБ в СССР" баптисты пишут: "…Ф. Онищенко обратился в 1858 году и в том же году на некоторое время присоединился к верующим колонистам, которые именовали себя братьями. Они имели сходство с бессарабскими сепаратистами-назарянами; в церковь не ходили и были детокрещенцами"; "…немецкие штундисты, будучи по вероисповеданию детокрещенцами…" (сс. 57, 62)]. Димитрий Чуйков по этому поводу замечает: "Тем современным протестантам, кто отвергает Детокрещение, так как оно, по их мнению, совершенно чуждо Библии, хорошо бы знать, что большинство идеологов Реформации, одним из главных лозунгов которой был "sola Scriptura" ("только Писание", что во времена ее имело следующий смысл: никакое учение не может считаться Божественным, если оно не подтверждается Св. Писанием), - не отказались от детокрещения, потому что считали его как раз-таки вполне Библейски обоснованным…"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., с. 143].
К этому хочу добавить, что М. Лютер категорически осуждал анабаптистов за перекрещивание крещённых в детстве, и сам, крещённый таким же образом, не стал перекрещиваться. И нужно заметить, что протестанты, и прежде всего его главный основатель М. Лютер, известны не только приверженностью принципу "только Писание", но и большим акцентированием важности личной веры во Христа. Тем не менее, в детокрещении они не видят противоречия ни Библии, ни учению об оправдании верой.
Теперь предлагаю моему читателю познакомиться со свидетельствами древней Церкви о детокрещении.
В Апостольских Постановлениях (кн. 6/15) мы читаем: "А крестите вы и младенцев своих, и воспитывайте их в учении и наставлении Божием; ибо "пустите, говорит, детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им"". Обратим здесь ещё раз внимание на то, что слова Христа "пустите детей приходить ко Мне" Церковь с древности связывала именно с крещением.
Дионисий Ареопагит (I в.) обычай крестить детей возводит к самим Апостолам: "Божественным нашим наставникам (т.е. Апостолам!) изволилось допускать к Крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах Божественных, и потом заботился о дитяти, как отец, указанный свыше, и как страж его вечного спасения. Этого-то человека, когда он даст обещание руководить ребёнка к благочестивой жизни, заставляет иерарх произносить отречение и священное исповедание"["О церковной иерархии", VII, 3/11].
Св. Климент Александрийский (150-215 гг.) писал: "Если кто рыбак, то перстень[По обычаю и необходимости того времени, многим мужчинам нужно было иметь при себе перстень-печать, на котором св. Климент рекомендовал изображать только христианские символы - рыбу, якорь, корабль с парусами и под] должен тому напоминать об апостолах или же о детях, воспринятых от вод крещения"["Педагог", кн. 3/11]. Речь идёт здесь о восприемниках (этим словом до сих пор называются крёстные родители), то есть о том, чём выше писал св. Дионисий.
Св. Ириней Лионский (130-202 гг.): "(Христос) пришёл спасти через Себя всех, - всех, разумею тех, которые возрождаются через Него для Бога: младенцев, и детей, и отроков, и юношей, и старцев"[Ириней Лионский, Против ересей, книга 2, гл. 22/4]. Зная терминологию св. отцов, в том числе св. Иринея[Выше, в первой части главы, из цитат св. Иринея можно легко понять, что возрождение для него есть именно крещение], легко понять, что под возрождением он имеет в виду ни что иное, как крещение. Да и подумать, что возрождение св. Ириней понимает как протестанты, нет никакой возможности, ибо они совершенно не признают того, что дети и тем более младенцы, неспособные веровать, могут быть возрождены, как пишет о том П. Рогозин: "Сознательная вера в Христа, как личного Спасителя, приводит грешника к возрождению. Там, где отступает такая вера, не может быть рождения свыше…". Итак, св. Ириней имеет в виду именно крещение.
Св. Ипполит Римский (170-235 гг.) писал о том, как нужно совершать крещение: "Ко времени пения петуха, он (епископ) пусть молится сначала наemд водой… Облачитесь в одежды и в первую очередь крестите детей. Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят. За тех же, которые не могут говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников"["Апостольское предание", гл. 21].
Ориген (185-254 г.): "Церковь приняла предание от Апостолов преподавать крещение и младенцам". И еще: "...младенцы крещаются во оставление грехов… Так как через таинство Крещения очищаются скверны рождения: то крещаются и младенцы"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 338].
Святой Киприан (200-258 г.) писал: "Если и великим грешникам, которые прежде грешили против Бога, когда они уверуют, даруется отпущение грехов, и никому не возбраняется Крещение и благодать; тем более не должно возбранять сего младенцу, который, едва родившись, ни в чем не согрешил, кроме того, что происшедши от плоти Адама, восприял заразу древней смерти через самое рождение, и который тем удобнее приступает к принятию отпущения грехов, что ему отпущаются не собственные, а чужие грехи"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сc. 338-339].
Карфагенский собор в 252 г. определил: "Не должно нам никого устранять от крещения и благодати Божией, о всем милосердного, благого и снисходительного. Если надобно держать по отношению ко всем, то особенно нужно соблюдать это по отношению к новорожденным младенцам, которые уже тем заслуживают преимущественно нашу помощь и милосердие Божие, что с самого начала своего рождения они своим плачем и слезами выражают одно моление". Нужно заметить, что данное постановление не было чем-то новым, что епискоstrongпы, собравшись, вдруг придумали и решили ввести. Они здесь изложили и своим авторитетом подтвердили лишь то, что совершалось в Церкви и в прежние времена.
Спустя полтора столетия, в 418 г. опять состоялся Карфагенский собор, который 124-м правилом ещё раз подтвердил догмат о детокрещении: "Кто отвергает нужду Крещения малых, новорождённых от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть банею возрождения (из чего следовало бы, что образ Крещения во отпущение грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении), тот да будет анафема. Ибо реченное Апостолом: "одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили" (Рим. 6, 12), подобает разумети не иначе, разве как всегда разумела кафолическая Церковь, повсюду ралиянная и распространённая. Ибо, по сему правилу веры, и младенцы, никаких грехов сами собою содевати ещё не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да чрез возрождение очистится в них то, что они заняли от ветхаго рождения".
Св. Григорий Б/emогослов (IV в.): "У тебя есть младенец? - Не давай времени усилиться повреждению; пусть освящён будет в младенчестве и с юных лет посвящён Духу. Ты боишься печати, по немощи естества, как малодушная и маловерная мать? Но Анна и до рождения вскоре посвятила, и воспитала для священной ризы, не боясь человеческой немощи, но веруя в Бога"[Слово на Крещение].
Слова "освящён", "посвящён Духу" и "печать" по терминологии св. отцов и контексту речи обозначают ни что иное, как крещение младенца. Слова "боишься печати" значит "боишься крестить ребёнка", ибо крещение отцы часто называли печатью[Подтверждение тому смотреть, например, в первой части главы в цитатах свв. Ерма, Иринея, Кирилла Иерусалимского и Василия Великого, а также ниже, в примечании 123, самого Григория]. И во время св. Григория многие христиане не желали крестить своих детей именно из-за боязни, что они после этого нагрешат и осквернят одежды крещения (об этом дальше будет сказано подробнее). Иначе эти слова понять невозможно.
Блаженный Августин (IV-V вв.): "Это (крещение младенцев) Церковь всегда имела, всегда содержала; это приняла Она от веры предков; это соблюдает Она постоянно, даже до конца".
О детокрещении учили также св. Амвросий Медиоланский, св. И. Златоуст и др[См. "Православно-догматическое богословие", том II, с. 340].
Итак, мы можем сделать ясный вывод, что в Церкви от самих времён Апостолов практиковалось, считалось возможным и одобрялось детокрещение, и св. Дионисий, св. Климент в "Постановлениях Апостольских" и Ориген прямо говорят о том, что крестить детей заповедали Апостолы. Или мы и здесь должны поверить протестантам, что христиане уже со II-го века отступили от апостольского учения и своевоemльно стали крестить детей, обманывая, что этому научили Церковь Апостолы?
Теперь с Божьей помощью я постараюсь ответить на многочисленные возражения протестантов против детокрещения.
Возражение 1. "Крестить ребёнка нельзя, поскольку крещение есть обещание Богу (1 Пет. 3:21), а ребёнок ничего не может обещать".
Для начала нужно понять, что значит "обещание" в языке подлинника. Это слово происходит от глагола (эперотао), который переводится (в словаре Баркли М. Ньюмана) как 1) спрашивать; 2) просить, требовать. И в Новом Завете это слово употребляется только в этом значении. Например, в Мф. 22:46 говорится, что "никто уже не смел спрашивать Его". Это же слово в различных формах употребляется и в Мф. 16:1; Мк. 9:32; 11:29; Лк. 2:46; 6:9; Рим. 10:20; 1 Кор. 14:35. Поэтому, отглагольное существительное от
, употребленное в 1 Пет. 3:21, прежде всего значит "испрошение": "крещение… испрошение (просьба) у Бога доброй совести". И в церковнославянском переводе это место читается так: "крещение… совести благи вопрошение у Бога". Подобным образом переводят это место и некоторые английские переводы.
Что же значит: крещение есть просьба у Бога доброй совести? Человеческая природа, как известно, повреждена и больна, и Христос пришёл исцелить человека. В крещении же человек получает новую жизнь Христову, зачаток жизни вечной. Но ему после этого нужно ещё много потрудиться для того, чтобы это семя новой жизни в его душе выросло и наполнило всю душу. То есть, человек всю жизнь после крещения должен бороться с грехами и своей плотскими страстями, должен постоянно избирать добро и отвергать зло, и для этого ему крайне необходима добрая совесть, могущая определять, что есть добро и зло. Без этого невозможно спасаться и освящаться, и наш мир крайне страдает именно из-за того, что у людей повреждена или вообще мертва совесть, которая не способна обличать человека в его грехах. Вот поэтому крещение и есть просьба у Бога доброй совести, хотя это определение, естественно, не описывает всю суть крещения, а только одну его составляющую.
Теперь вопрос: может ли ребёнок просить? или: нужно ли для того, чтобы сделать ребёнку добро, спрашивать на это его согласие? Вся жизнь ребёнка это, по сути, просьба. Сама его беспомощность взывает к родителям и просит их помощи и заботы. Мы кормим, одеваем, лечим, учим своих детей, не спрашивая их согласия, потому что знаем, что они нуждаются во всём этом. Но если ребенок нуждается в еде и тепле, то еще более он нуждается во Христе, в семени новой жизни (возрождении), в Духе Святом. Поэтому, если мы заботимся о телесных нуждах ребёнка, то тем более должны позаботиться о духовных.
Следующий вопрос: можно ли родителям просить у Бога для своего ребёнка духовные блага, в том числе добрую совесть? В Библии мы видим ряд примеров, когда одни люди просили у Бога за других людей, и Бог отвечал на эти просьбы (см. 3 Цар. 17:21-22; Мф. 8:5-10,13; 9:18,19,23-25; 15:22-28; 17:14-18; Ин. 11:41-44). Протестанты также постоянно просят у Бога различных духовных благ для своих ближних и родных, как то: спасения, вразумления, смягчения сердца, исцеления, покаяния и пр. Так если мы можем просить Бога духовные блага для взрослых людей, которые имеют свою волю, то тем более родители имеют право испросить у Бога добрую совесть для своих малых детей, воля которых полностью подчинена их воле.
Итак, главный смысл 1 Пет. 3:21 такой: "крещение есть испрошение у Бога доброй совести", и родители имеют полное право просить её для своего ребёнка. И хотя глагол чаще всего значит "просить" (особенно в языке Нового Завета), но он всё же может обозначать и "обещать", потому это слово в разных языках и переводах и переводят по-разному. Но даже и в этом случает крещение ребёнка возможно, ибо Библия даёт нам ни мало примеров того, как родители посвящали Богу своих детей и давали за них обещание служить Богу. Так, Анна посвятила Богу Самуила не то что в детстве, но ещё д должен тому напоминать об апостолах или же о детях, воспринятых от вод крещенияо его рождения и даже зачатия: "И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его" (1 Цар. 1:11). То есть, Анна пообещала Богу за своего сына, что он не будет стричься, и будет служить Богу и во все дни своей жизни! И такое обещание, естественно, было угодно Богу. Обрезание, о чём выше я уже упоминал, также являлось заключением завета человека с Богом, а завет предполагает обещание и соглашение двух сторон.
Таким образом, евреи вводили своих детей в завет с Богом, и обещали за них состоять в этом завете и исполнять все требования закона Божьего. И такое обещание ни сколько не противоречило Божьей воле - напротив, Бог Сам повелел так поступать. Поэтому, когда родители просят у Бога своим детям добрую совесть, и обещают за них состоять в завете с Ним, это угодно Господу.
Возражение 2. Протестанты говорят, что крещение младенца является насилием над его свободной волей, так как он, может быть, не желает, чтобы его вводили в союз со Христом.
При разборе 1-го возражения мы уже могли частично понять, что посвящение Богу младенцев не является насилием над ними, ибо их воля, по самому Божьему природному установлению, покорна воле родителей. Поэтому, если мы родили своих детей физически, не спрашивая на то их согласия, то тем более мы имеем право и даже обязаны родить их и духовно.
Крещение ребёнка не является насилием, ибо хотя он не может сказать "да", но он и не говорит "нет". Родители делают с ребёнком то, что считают необходимым, и это не считается насилием. Родители часто делают многие вещи даже вопреки воле ребёнка, например, поят его лекарством, лечат ему зубы или заставляют делать уроки. И даже если ребёнок всеми силами этому противится, и как только может говорит "нет", действия родителей и в этих случаях никто не считает насилием.
Кроме того, при крещении свободная воля ребёнка не нарушается потому, что он, когда вырастет, может сам лично либо согласиться с решением своих родителей и пребыть в верности Христу, либо избрать свой путь. И как история древних евреев, так и история Церкви полна примеров того, что многие, посвященные в детстве Богу через обрезание или крещение, возмужав, отступали от завета с Ним. Поэтому, воля человека при крещении даже в таком смысле не насилуется.
Если рассуждать по протестантски, то тогда и они сами насилуют детей, воспитывая их в своей вере, внушая им своё мировоззрение, водя на свои собрания и принося своих детей в "дом молитвы" для благословения пресвитера, что в большинстве случаев определяет дальнейшую жизнь и веру их детей. Почему же протестанты при этом не говорят о том, что может ребёнок не желает, чтобы его водили на собрания, благословляли и учили баптизму? Потому, не возможно считать насилием и то, когда православные воспитывают своих детей в православной вере, и через крещение вводят их в Церковь и завет со Христом.
А если разобрать эту тему ещё глубже, то легко можно понять, что не православные, а протестанты совершают насилие над своими детьми. Ведь всякая душа по природе христианка, как замечательно сказал в своё время блаженный Августин, и сотворена душа по образу православного (а не извращённого сектами) Христа. Протестанты же, внушая своим детям извращённое еретическое протестантское учение, насилуют и калечат их невинные души. Лично я, например, совершенно против того, что меня в детстве учили баптизму и водили к ним на собрания, и считаю это страшным и душепагубным насилием над собой. Но кто из протестантов согласиться с тем, что они меня насиловали? Даже хотя я и избрал другой путь, когда вырос, но никто не согласится считать насилием то, когда меня в детстве родители учили баптизму, ибо я тогда ещё не явил своей воли, а мои родители имели право воспитывать меня так, как считали нужным. Так если протестанты, духовно совращая своих детей с пути спасения (хотя часто и неосознанно), не считают это насилием над ними, то тем более не является насилием над детьми то, если мы через крещение соединим их со Христом, введём в Его Церковь и передадим Духа Святого: не насилием это будет, а великим благодеянием нашим детям.
Возражение 3. "Для крещения нужна вера, что видно из Деян. 8:36-37: "евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно". Дети же веровать не могут, потому и крестить их нельзя".
О детской вере и сущности веры настолько превосходно говорит Димитрий Чуйков, что лучшее, что я могу сделать, это дать ему возможность ответить на это возражение: "Верно, что Библейское Крещение - это Крещение по вере, но где это в Библии сектанты прочли о том, что дети веровать не могут? - они просто говорят от себя, не думая, что говорят, и плохо знают жизнь и Книгу Жизни. Библия устами нашего Господа буквально открыто говорит о том, что малые дети веруют во Христа (см. Мф. XVIII,1-6). Слова "Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня…" (ст. 6) верующими называют, во-первых, этого подозванного Христом малого ребёнка и таких как он, и только уже во-вторых - всякого умалившегося ради Христа. А то, что подозванный Христом ребёнок, хотя уже и умел сам ходить, но всё же был достаточно мал - ясно видно из того, что Христос его взял, то есть поднял, чтобы поставить посреди Своих учеников (см. Мр. IX,36), а такое обращение удобно и принято с довольно малыми детьми…
Кроме того, тем, что Христос поставил этого ребёнка перед Собою (см. Лк. IX,47) и обнял, Он хотел показать Своим Апостолам, что этот малый ребёнок к Нему ближе, чем они, потому что больше имеет веры в Него.
Как же это может быть, что какой-то посторонний ребёнок имеет во Христа веру большую, чем ходившие изо дня в день со Христом Апостолы? Как вообще малый ребёнок может быть верующим? - Всё это для сектантов есть безумие, тогда как безумием является их легкомысленное отношение к жизни и поверхностное изучение Библии, столько приносящее бед. Мы же будем стараться со всею премудростью Божией вникнуть в закон свободы (см. Иак. I,25).
Итак, по учению Библии, всякий младенец верует во Христа! Малых детей не верующих во Христа - нет! Потому что Библейская вера в Бога, о чем свидетельствует сам дух Священного Писания, - это никак не обладание только известными познаниями в области Богословия, ведь так способны и бесы веровать! (см. Иак. II,19) - а это есть открытость души человека к восприятию спасительной Божией благодати, чему препятствием является греховность взрослого человека. Потому и говорит Христос: "Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Мф. XVIII,10) - акцент этого стиха указывает на то, что дети настолько святы - а не возможно разумному существу быть и святым и неверующим -, что преимущественно перед взрослыми удостаиваются Ангельского служения*.
----------------------------------------------------------------------------------------
* Ближайший же смысл настоящего стиха таков: если и Сам Господь Бог никогда не отвергает ходатайств Ангелов о вверенных их попечению детях (именно это значит гебраизкое (еврейское) выражение: "всегда видят лице Отца Моего Небесного"), то тем более человек не имеет ни какого права, презирать малых сих.
----------------------------------------------------------------------------------------
Христос дает понять Своим Апостолам, что они грешнее или - что то же - маловернее, чем этот посторонний ребёнок, и в более худших отношениях с Богом, чем он. Потому Господь и говорит им: "Если не обратитесь (т.е. - повторю еще раз - не покаетесь) и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное" (Мф. XVIII,3).
Пусть сектант препояшет чресла ума своего и хорошо подумает, что важнее: иметь верные и осмысленные познания о Христе, и быть мертвым для Него душой, или: быть открытым для Бога душой, и наполняться Его миром - без всяких осмысленных познаний, как и живут малые дети, ещё не успевшие выстроить преграду между собой и Богом из личных своих грехов?
Несчастье сектантов в том, что они знают только о вере осмысленной и совсем не понимают того, что есть вера и неосознанная, каковой и является вера малого ребёнка. Всякая человеческая душа, приходящая в этот мир, ещё в утробе матери имеет, пусть и не осмысленную, но крепкую веру во Христа. Потому что душа человека создана по образу и подобию Христову, и для общения со Христом, и только личные грехи человека, которых у ребёнка нет или почти нет, препятствуют этому Богообщению; а потому всякий ребёнок - Христианин: и по природе своей души, и по теснейшему, ещё ничем так не нарушенному, как у взрослого, общению со Христом, то есть с благодатью Всегда-и-Вездесущего Духа Его.
Я повторю, что истинная, проповедуемая Библией вера, это, конечно, во-первых, - Богообщение, а во-вторых уже, - осознанное Богопознание. Вера, и могучая вера может быть и без известного накопления умственных знаний о Боге, каковой она бесспорно была, например, у младенца Иоанна Крестителя: при отсутствии ещё каких-либо умственных знаний о Боге, его Богообщение от чрева матери было исключительным (см. Лк. I,15). Но, напротив, истинная вера и при самых обширных Богословских познаниях - не возможна, при отсутствии Богообщения.
Кроме того, неосознанная вера во Христа присуща даже и многим взрослым (см. Мф. XXV,34-40 - в 40 стихе Христос ясно свидетельствует об этом).
Итак, на основании Библии, поскольку всякий малый ребёнок верует во Христа, то, несомненно, чаяния его веры должно исполнить, погрузив его в Источник его веры, Крещением во Имя Иисуса Христа, что от древности и совершает Православная Церковь.
Если же кто из еретиков и не понял (то есть, скорее - не принял) всего вышесказанного о детской вере, то пусть тот хотя бы постарается понять, как нелепо его утверждение, что ребёнок не может веровать, в связи с таким Библейским стихом: "…кто не будет веровать, осужден будет" (Мр. XVI,16). Значит, по лихим рассуждениям сектантов выходит, что и младенцы будут осуждены за своё неверие. Понятно, что жестокосердно не Слово Божие, а сердце сектантов черство к Духу Истины"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 145-150].
Возражение 4. "Для крещения нужно покаяние, как написано: "покайтесь, и да крестится каждый из вас" (Деян. 2:38). Дети же не способны каяться, потому и крестить их нельзя".
Начнём с того, что слово "покаяние" с еврейского значит "возвращение", а с греческого "перемена ума". Оба эти значения известны протестантам, и на своих проповедях они часто говорят именно о том, что покаяние есть обращение от греха к Богу, разворот на 180 градусов. То есть, своими грехами человек уходит от Бога, а через покаяние обращается (возвращается) к Нему. Таким образом, именно грехи - и ничто другое - удаляют человека от Бога. Ребёнок же, не сотворив ещё каких-либо значительных грехов, не успел ещё отвернуться, уйти от Бога, чтобы ему была необходимость к Нему возвращаться (обращаться от греха, каяться). Поэтому, ребёнок находится в покаянии, то есть в состоянии пребывания с Богом и обращения от греха.
Димитрий Чуйков пишет об этом так: "...по Библейскому учению о покаянии, всякий малый ребёнок находится в глубоком покаянии; и если бы это было не так, Христос никогда бы не сказал: "3. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 4. итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном" (Мф. XVIII,3,4). Покаяние в Библейском учении есть возвращение к Богу (см., например, притчу о блудном сыне - Лук. XV,11-32), а малые дети ещё не успели от Творца своего далеко отойти, потому Христос и приводит их в пример покаяния взрослым. Ведь что значит: "Кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном"? Детская нищета духа, смирение, кротость, незлобивость, незлопамятность, всепрощение, чистота сердца, простодушие, искренность, отзывчивость, бескорыстная любовь, и т.д. и т.п. - всё это и есть те долгожданные плоды, ради которых взрослый и подвергает себя покаянному деланию в слезах, постах, пепле и вретище. Ребёнок же всё это и так имеет: просто как дар Божий, с которым родился. И пока он его ещё не успел растерять по ухабам извращенных дорог этого, лежащего во зле мира (см. 1 Ин. V,19), то и следует ребёнка скорее крестить, как и поступает Христом умудренная Православная Церковь.
Итак, пока ребёнок находится в глубоком покаянии, его крещение как раз и будет своевременно и вполне согласно с Писанием"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 153-154].
Возражение 5. "Христос сказал о детях, что "таковых есть Царство Небесное (Царствие Божие)" (Мф. 19:4; ср. Лк. 18:16. Также и ап. Павел пишет, что дети верующих родителей - святы (1 Кор. 7:14). Поэтому, крестить детей и не нужно".
Во-первых, Христос сказал, что не детей, а таковых есть Царствие Божие, то есть таких как дети - незлобивых, доверчивых, кротких и т.п. И если не крещённые дети и не наследуют навеки гиену огненную, то они и не войдут в славу Церкви[Св. Григорий Нисский рассуждал по этому вопросу так: "преждевременная см О детской вере и сущности веры настолько превосходно говорит Димитрий Чуйков, что лучшее, что я могу сделать, это дать ему возможность ответить на это возражение: ерть младенцев не даёт ещё мысли, чтобы так оканчивающий жизнь был в числе несчастливых; равно как и чтобы наследовал одинаковую участь с теми, кои в сей жизни очистили себя всякою добродетелию". Подобное мнение мы находим и у св. Григория Богослова: "последние (не крещённые младенцы) не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны; потому что, хотя не запечатлены, однакоже и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий, недостойный чести, достоин уже наказания" (цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 337-338)], ибо вход в Церковь совершается только через крещение и получение Святого Духа: "кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие"; "кто будет веровать и креститься - спасен будет". И протестанты соглашаются с тем, что дети не входят в Церковь Христову: "Мы положительно утверждаем, что младенцы наши без крещения, ни вообще чьи бы то ни были с крещением в Церковь Христову без покаяния и личной веры не попадали и вовек не попадут"[Баптист, 1912, № 2, с. 17]. О том пишет и П. Рогозин: "Сознательная вера в Христа, как личного Спасителя, приводит грешника к возрождению. Там, где отступает такая вера, не может быть рождения свыше, а раз так, то не допустимо тогда и само крещение. В подобном случае оно окажется лишь лжесвидетельством о спасении, которого он, крещаемый, от Бога не получил"["Откуда всё это появилось? Пусть сектант препояшет чресла ума своего и хорошо подумает, что важнее: иметь верные и осмысленные познания о Христе, и быть мертвым для Него душой, или: быть открытым для Бога душой, и наполняться Его миром - без всяких осмысленных познаний, как и живут малые дети, ещё не успевшие выстроить преграду между собой и Богом из личных своих грехов?", глава "Крещение", раздел "Что говорит о крещении детей Слово Божие?"]. То есть, по логике протестантов, раз ребёнок не может веровать, то он не может и родиться свыше, не может креститься, не может соединиться со Христом и спастись. Поэтому, протестанты не станут спорить с тем, что ребёнок сам по себе[При этом, для православных важно, что он не . крещён, а для протестантов, что он не верующий (как они думают)] если и не в погибели, то и не во Христе и не в Церкви.
Во-вторых, дети не вообще безгрешны, а только в сравнении со взрослыми, как написано: "все согрешили и лишены славы Божией" (Рим. 3:23); "Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя" (Пс. 50:7); "кто родится чистым от нечистого? Ни один" (Иов. 14:4). Таким образом, ребёнок грешен и нуждается в прощении грехов. Всякий ребёнок рождается духовно мёртвым, потому он нуждается в возрождении, в привитии ко Христу и Его Телу (Церкви), в Духе Святом. И без Крещения и Миропомазания, без благодати Божьей он сам по себе этого не имеет и не может получить. Поэтому, он также нуждается в К/emрещении.
В-третьи (эперотао), который переводится (в словаре Баркли М. Ньюмана) как 1) спрашивать; 2) просить, требоват[В своей официальной ь. И в Новом Завете это слово употребляется только в этом значении. Например, в Мф. 22:46 говорится, что х, если ребёнок входит в Царствие Божие без крещения, то, по протестантской логике, и взрослому не нужно креститься, ибо написано: "кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него" (Мр. 10:15).
Итак, Христос говорит: "Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное" (Мф. 19:14). "Прийти ко Христу", как выше было объяснено, это значит, войти в Церковь Христову, креститься во Христа. Поэтому, Христос тому и учит, что не нужно препятствовать детям приходить к Нему, то есть входить в Него, облекаться в Него в крещении, ибо таковых как они и есть Царствие Божие.
Что же касается того, что дети святы даже если один его из его родителей верующий, то это место нужно понимать прежде всего так, что они потому святы, что крещены. Ведь если признавать, что крещение детей совершалось в Церкви от начала (а это так и было!), то совершенно понятно, что крещённые дети святы, ведь в крещении им были прощены грехи, они возродились и облеклись в праведность Христа. А то, что верующим был только один родитель детей, крещению не помеха. Ведь если верующим был отец, то он без труда как господин своего дома мог крестить своих детей. Если же верующей была жена, то она также тайно легко могла крестить детей. Ведь даже если неверующий муж строго держал жену и детей дома, не отпуская их на собрания верующиДля крещения нужно покаяние, как написано: х, то и в этом случае мать могла сама окрестить своих детей, что по древним правилам Церкви возможно в крайних случаях, о чём выше уже было сказано. Для этих случаев в древности были также диаконисы, которые могли входить под каким-либо предлогом в женскую половину дома и совершать крещение или передавать причастие верным. В советские времена также очень часто детей или внуков верующая мама или бабушка тайно крестили. Понять иначе это место нельзя, ибо дети рождаются во грехах, как говорит Библия, и они не могут стать святыми иначе, как если омоются Именем Христа в Крещении.
Возражение 6. "Христос крестился в 30 лет, потому и нам нужно креститься во взрослом возрасте".
Протестанты довольно часто приводят данный аргумент, хотя даже при беглом его рассмотрении легко понять его бессмысленность.
Во-первых, вся жизнь Иисуса была согласована с промыслом Божьим, по которому Он должен был выйти на служение именно в 30 лет, и перед началом служения креститься у Иоанна, взяв на Себя грех мира - об этом выше уже было сказано.
Во-вторых, Христос крестился Иоанновым крещением, установленным специально для покаяния (см. Мф. 3:11; ср. 3:2,6,8), и поэтому оно было только для взрослых. В-третьих, крещение церковное, в котором имею Итак, Христос говорит: т участие и дети, во время жизни Христа ещё не совершалось, а если бы и совершалось, то Христу этим крещением не нужно было бы креститься, так как Он и так был безгрешен и духовно жив - Ему не было нужды получать прощение грехов, возрождаться и облекаться в Самого Себя в Крещении. В-четвёртых, если протестанты хотят брать пример с Христа, то почему же они - те, кто выросли в семьях верующих родителей - крестятся обычно в 17-20 лет, но никак не в 30?
Итак, факт крещения Христа в 30-ти летнем возрасте Иоанновым крещением не имеет никакой силы аргумента против детокрещения. Возражение 7. П. Рогозин пишет: "Для тех, кто любит ссылаться в вопросе крещения детей на отцов церкви, не лишним будет напомнить, что Иоанн Златоуст, живший в IV веке и родившийся от родителей-христиан, был крещён двадцатилетним юношей. Григорий Богослов, живший в IV веке, сын христианина-проповедника, был крещён только в 24 года. Василий Великий, живший также в IV веке и родившийся в христианской семье, принял крещение, когда ему было уже 30 лет. Августин блаженный, мать которого Моника была христианкой и даже причислена к лику святых, крестился также в 30 лет. Киприан крестился 45 лет от роду"["Откуда всё это появилось?", глава "Крещение", раздел "Ведёт ли обычай крещения детей своё начало от апостолов?"]. Этот факт баптисты и другие противники детокрещения хотят толковать так, что Церковь в древности не имела обычая крестить детей.
Для начала, приведу одну цитату из "Исповеди" блаж. Августина, где он несознательно затрагивает поднятый нами вопрос: "Ты видел, Господи, когда я был ещё мальчиком, то однажды я так расхворался от внезапных схваток в животе, что был почти при смерти; Ты видел, Боже, мой, ибо уже тогда был Ты хранителем моим, с каким душевным порывом и с какой верой требовал я от благочестивой матери моей и от общей нашей матери Церкви, чтобы меня окрестили во имя Христа Твоего, моего Бога и Господа. И моя мать по плоти, с верой в Тебя бережно вынашивая в чистом сердце своем вечное спасение мое, в смятении торопилась омыть меня и приобщить к Святым Твоим Таинствам, Господи Иисусе, ради отпущения грехов моих, как вдруг я выздоровел. Таким образом, очищение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы оставшись жить, я ещё больше вывалялся в грязи; по-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в большую и более страшную вину"[Книга 1/17].
Итак, мы видим, что отлагательство крещения детей до взрослого возраста было мотивировано вовсе не тем, что детей нельзя было крестить - нет. Детокрещение считалось вполне возможным, что вполне доказывает тот факт, что ребёнка Августина собирались крестить и более того - причастить Христовых Таин! Но мать Августина и прочие христиане в то время (преимущественно в IV-V веках), откладывали крещение своих детей совершенно по другой причине - боязни того, что в молодости они не смогут сохранить чистоту одежд святого крещения. И как прямо свидетельствует о том блаж. Августин, "грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в большую и более страшную вину", чем вина грехов до крещения.
Причина, по которой некоторые христиане стали откладывать крещение своих детей в то время, была та, что они жили в развратном римском мире. Многим из их детей предстояло в молодости учиться в различных школах, что было сопряжено с /strongemбольшими соблазнами молодости, прежде всеemго блуда. Так, кто сейчас не знает о том, что студенческие общежития являются одними из самых развратных и крайне не содействующих духовной жизни местами? Вот поэтому родители и боялись крестить своих детей: опасаясь, что их чада не смогут избежать грехов молодости, они решали, что лучше пусть эти грехи будут совершены до крещения, чем после него, ибо грехи после крещения действительно более страшны[Св. Иоанн Златоуст писал об этом: "Так, грехи, совершаемые после (крещения), делаются вдвое и вчетверо тяжелее. Почему? Потому что, сподобившись чести, мы являемся неблагодарными и злыми" (Беседа 1/6 на Деяния Апостольские)]. И опасения эти были не беспочвенны. Так, блаж. Августин свидетельствует о том, что в молодости, во время учёбы, он "без удержу предался различным страстям"["Исповедь", книга 2/8].
Но откладывание крещения своих детей многими верующими IV-V веков вовсе не было связано с отрицанием возможности детокрещения, как хотелось бы того протестантам. Более того, именно такое отношение ясно показывает, что Церковь всегда твёрдо верила "в единое крещение для прощения грехов", что отрицают протестанты. Именно ясная вера в то, что в крещении прощаются все прежде содеянные грехи и особая боязнь греха после крещения и была единственным мотивом того, почему многие воздерживались крестить своих детей и вообще откладывали своё крещение до 30 и более лет, а часто и до самой смерти. О том, что так и по этому мотиву поступали в то время многие, осталось не мало свидетельств. Св. Иоанн Златоуст, например, пишет: "А теперь многие… отлагают (своё крещение), и отлагают до последнего издыхания"[Беседы на Деяния Апостольские, беседа 1/7].
Здесь опять хочу вспомнить уже приводимое высказывание С. Санникова: "После крещения, которое, по воззрениям того времени, символически указывало на очищение от греха, из-за чего само крещение иногда откладывалось чуть ли не до конца жизни, следовало возложение рук священства"["Двадцать веков христианства", изд. Одесса, 2002 г., том 1, с. 146].
Кроме того, что С. Санников здесь откровенно врёт, говоря, что крещение "по воззрениям того времени, символически указывало на очищение от греха", он говорит ещё и полную бессмыслицу, ибо если крещение лишь символически указывает на очищение от греха, то каков смысл откладывать его до конца жизни? Нет и малейшего! Но если крещение действительно очищает все грехи (чему ясно учит Библия и Церковь с самой древности, в чём мой читатель уже смог убедиться), то мотив откладывать крещение очевиден: чтобы очиститься от всех грехов и поменьше нагрешить после крещения, чтобы предстать пред Богом более чистым.
Итак, факт крещения многих верующих в те времена во взрослом возрасте никак не был связан с отрицанием возможности детокрещения, и отцы, крещённые во взрослом возрасте, такие как Киприан, Григорий Богослов и Августин, утверждают догмат детокрещения, что выше было показано. Сам факт того, что одни верующие крестились в 24, другие в 30 или 45, а третьи перед самой смертью, совершенно не соответствует практике крещения детей верующих родителей баптистов, например, которые крестятся строго по достижению взрослого возраста - в 17-20 лет. Это ещё раз говорит о том, что мотив древних христиан в откладывании крещения был совсем не таков, как у протестантов - необходимость достичь зрелости. Иначе, почему они крестились в 30, 45 лет и тем более перед смертью? Неужели они ждали наступления сознательного возраста?
Практика откладывать крещение своих детей и своё собственное ставит другой, более правомерный вопрос: хорошо ли откладывать крещение по такому мотиву? Соборный голос Церкви решил этот вопрос так, что такое отлагательство не оправдано. Одна из важнейших причин этому - не известность дня смерти. Об этом хорошо сказано в Апостольских Постановлениях (6/15): "А кто говорит: "когда умирать буду, тогда погружусь, чтобы не согрешить и не осквернить погружения" тот не знает Бога и позабыл о своей природе. Ибо "не отлагай, говорит, обратиться к Господу, ибо не знаешь, что породит приходящий день"".
Другая важная причина, по которой такая практика почти изжила себя, было осознание Церковью того, что благочестивый страх грешить после крещения стал во многих людях перерастать в излишний страх, малодушие и даже лукавство. То есть, оглашённый христианин часто откладывал своё крещение именно потому, что не хотел брать на себя ответственность жить пред Богом свято, отказывался от подвига сохранения себя в чистоте пред Богом, не желая вступать в кровавую борьбу со грехом (ср. Евр. 12:4) и даже, возможно, давая себе возможность погрешить, с мыслью о том, что в крещении всё проститься. Потому, увидев в этом обычае именно такую тенденцию, святые отцы стали бороться с ней.
Так, св. Иоанн Златоуст, сказав о том, что грехи после крещения "вдвое и вчетверо тяжелее", и что всякий грех "отпускается через купель крещения", говорит далее: "Может быть, я многих отвлёк теперь от принятия крещения? Но я сказал это не с этой целью, а для того, чтобы принявшие (крещение) пребывали в целомудрии и усиленно вели честную жизнь. Но я боюсь, скажет кто-нибудь? Если бы ты боялся, то принял бы и стал бы хранить. Но потому-то самому, скажешь, я и не принимаю, что боюсь (не сохранить)? А как (без крещения) отойти (т.е. умереть) не боишься? Бог, скажешь, человеколюбив? Потому-то и прими крещение, что Он человеколюбив и помогает нам. Но ты, когда нужно бы позаботиться (о крещении), не представляешь себе этого человеколюбия; а когда хочешь отложить его, тогда о нём вспоминаешь, между тем, как это человеколюбие имеет место в первом случае, и к нам оно будет проявлено в особенности тогда, когда и с своей стороны привнесём, что следует. Кто во всём положился на Бога, тот, если и согрешит, как то свойственно человеку, после крещения, через покаяние сподобится человеколюбия; а кто, как бы мудрствуя о человеколюбии Божием, отойдёт (отсюда) чуждым благодати, тот подвергнется неизбежному наказанию. Зачем же ты поступаешь так против своего спасения? Невозможно, совершенно невозможно, как я, по крайней мере, думаю, чтобы человек, который отлагает (крещение), обольщая себя такими надеждами, совершил что-нибудь возвышенное и доброе"[Беседы на Деяния Апостольские, беседа 1/6].
Таким образом, практика откладывать своё крещение была признана имеющей больше минусов, чем плюсов, ибо откладывающий своё крещение
1) рискует умереть вне Церкви;
2) слишком малодушничает вступать в битву со грехом, не надеясь на всегда своевременную помощь благодати;
3) забывает, что и после крещения есть прощение грехов через покаяние. (Потому, кстати, сейчас не редко Таинство Исповеди называется вторым крещением).
Но всё же, вопрос этот нельзя решать так уж однозначно. Ведь многие верующие, в том числе и вышеназванные св. отцы, откладывали своё крещение или крещение своих детей не по малодушию и лукавству, а по искреннему глубокому почтению к великой святыне Крещения, и в особых исключительных случаях, по провидению Божию, такое возможно. Но даже те, кто так поступали, отнюдь не отрицали, повторюсь, возможность и законность детокрещения. Поэтому, беда не столько в том, что протестанты не крестят своих детей, а именно в том, что они принципиально осуждают практику и саму возможность детокрещения.
Напоследок, по обычаю, хочу привести аргумент от противного. Есть ли что-то у дьявола, что противопоставляется детокрещению? Да, есть, и прежде всего - это печать антихриста. В Откровении мы читаем, что антихрист "сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их" (Откр. 13:16). Как в Церкви верующие посвящаются Христу в Крещении и запечатлеваются через Миропомазание печатью Его Духа не сами, а вместе со своими детьми, так и поверившие антихристу будут посвящаться ему вместе со своими детьми, и поставлять его печать не только себе, ни и детям. Таким образом, запечатление печатью антихриста детей по воле их родителей есть подражание (антипод) детокрещению. И как посвящение детей антихристу будет действительным, то действительно и детокрещение, которому антихрист и подражает.
Другой пример - октябрины, коммунистический обычай посвящения своих новорождённых детей. Коммунистическая партия Ленина, как один из антиподов Церкви, во всём подражала и противилась Ей, в чём и заключается цель и смысл всякой антицеркви. Обычай же октябрин был создан для подражания церковному детокрещению.
Итак, для того, чтобы:
1) получить прощение грехов (омыться, очиститься от них);
2) принять семя новой Христовой жизни, то есть возродиться;
3) облечься во Христа (соединиться с Ним, привиться к Нему) и стать членом Христовой Церкви (Тела Христова);
4) сделаться достойным к получению дара Духа Святого и, в конце концов,
5) спастись, нужно непременно креститься в воде во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Крещение, как и всякое Таинство, совершается в Церкви и Церковью, Её законными служителями, и только в этом случае оно является собственно крещением и имеет свою силу. Крещение вне Церкви - не крещение, а в лучшем случае простое купание; в худшем же - заключение союза (и посвящение себя) не со Христом, а с враждебными Богу сектантскими духами. На основании Библии не трудно понять, что детей можно и нужно крестить, и документы древности ясно свидетельствуют, что Церковь от времён Апостолов имела обычай преподавать крещение и младенцам, и именно от Апостолов Она и получила предание так поступать.
Таким образом, протестанты невероятно искажают истинное учение о крещении, и, не являясь Церковью, они не могут никого крестить (погрузить) во Христа, а только в воду и в свой дух заблуждения. Поэтому всякий, желающий спасения своей душе, должен креститься по слову Христа; креститься тройным погружением во имя Отца и Сына и Святого Духа, и креститься не в человеческих "церквях" от самозваных и не законных служителей, а именно в Церкви, основанной Христом и Его Апостолами, от истинного и законного священника.
Главный вопрос, на который нам предстоит ответить в данной главе, следующий: каким образом человек может получить Духа Святвсе согрешили и лишены славы Божиейpого? Вопрос этот предельно важен, поскольку от его правильного решения зависит - не больше не меньше - само наше спасение и пребывание в Церкви, так как всем нам понятно, что нельзя спастись[По крайней мере, спасением в Церкви. О том, какое ещё бывает спасение, будет сказано в главе "О Церкви"], не приняв Духа Святого, ибо "кто Духа Христова не имеет, тот и не Его" (Рим. 8:9). Таким образом, нам нужно узнать, как отвечают на поставленный вопрос православные и протестанты, и решить, кто говорит правду.
Протестанты считают, что Дух Святой входит в сердце грешника без всякого человеческого посредства в момент его обращения к Богу, в момент первой искренней молитвы покаяния - будь то молитва официальная, в молитвенном доме во время богослужения у кафедры, или же частная, произнесённая в любом месте[Нужно заметить, что многие протестанты, - например, консервативные баптисты, в среде которых я вырос, - с большой неохотой признают или вообще не признают такое уединённое покаяние, и часто в таких случаях требуют, чтобы покаявшийся произнёс молитву покаяния ещё раз официально, на собрании в молитвенном доме, выйдя вперёд к кафедре, как это требовалось и от меня. Это делается для того, чтобы, во-первых, покаяние человека услышала вся община, и, во-вторых, чтобы пастор и вся община помолились о нём. Таким образом, уча на словах о том, что покаяние есть личное дело человека и Бога, на деле многие протестанты тяготеют к тому, чтобы в этом процессе непременно было посредство и участие пастора и общины]. Причём получение Духа Святого за редчайшим исключением[Об одном таком исключении свидетельствовал, например, один баптистский пресвитер, который вырос в семье пастора и по обычаю принял в своё время крещение (ибо никто из членов общины не возражал, естественно, против крещения сына пастора), но возрождение он получил, по его словам, уже после крещения. Такому свидетельству протестанты, конечно же, готовы поверить. И так как возрождение, как правило, связывается у протестантов ни с чем иным, как с получением Духа Святого, то подобные истории можно считать теми редкими исключительными случаями, когда многие протестанты могут согласиться, что Духа Святого человек иногда может получить не до, а после крещения] происходит, по мнению протестантов, до водного крещения.
Православные же учат, что Духа Святого христианин получает в Таинстве Миропомазания только после крещения, за редчайшим исключением[Таким исключением православное богословие считает случай получения Духа Святого до водного крещения домом Корнилия, для чего была весьма веская причина, о чём ниже будет подробно сказано]. И так как для совершения этого Таинства непременно нужны епископы и священник[Таинство Миропомазания состоит из двух важнейших священнодействий: 1) из приготовления и освящения самого мира, в котором участвуют многие епископы, и 2) из помазания священником освящённым миром крещённого], то Православие положительно утверждает, что Духа Святого человек получает при посредстве священнослужителей Церкви; иными словами, власть преподавать Духа Святого принадлежит Церкви, прежде всего епископам.
Как видим, между протестантами и православными даже в таком важнейшем учении совершенно отсутствует единомыслие. Поэтому, как никогда раньше есть жгучая необходимость не ошибиться в ответе на выше поставленный вопрос.
Начнём наше исследование с книги Деяний Апостольских, в которой говорится о двух способах получения верующими Духа Святого:
1) непосредственно от Бога, и
2) посредством возложения рук Апостолов.
Этот факт, естественно, вызывает справедливые вопросы, такие как: почему Бог использовал два разных средства передачи Духа Святого уверовавшим? Являются ли оба эти способа правилом, или какой-то из них является исключением, и какой именно? Каким образом в Церкви после века Апостолов и сегодня подавался и подаётся верующим Дух Святой?
Для начала перечислим все шесть случаев, в которых говорится о способе получения верующими Святого Духа, в той последовательности, в которой они описаны в Деяниях, и укажем на то, каким образом был получен верующими Дух Святой, и когда это произошло - до, или после крещения?
1) Апостолы без крещения[Вопрос о том, были ли крещены сами Апостолы, поднимался ещё Тертуллианом ("О крещении", гл. 12). По всей видимости, крещением церковным Апостолы крещены не были (а только Иоановым), но получили возрождение, отпущение грехов и всю ту благодать, которую сейчас получает каждый христианин в Крещении, без посредства воды при сошествии на них Духа Святого в Пятидесятницу, или даже раньше, через ближайшее общение с Самим Христом. Жизнь Апостолов в этом смысле во многом является исключительной. Они, например, 1) причастились Тела и Крови Христовых и 2) приняли от Христа через дуновение священническую благодать до принятия Духа Святого, чего никогда не происходит в Церкви в русле обычных законов] получили Духа Святого непосредственно от Бога (Деян. 2:1-4).
2) Самаряне получили Духа Святого после крещения посредством молитвы и возложения рук апостолов Петра и Иоанна (Деян. 8:14-17).
3) Евнух царицы эфиопской получил Св. Духа после крещения непосредственно от Бога (Деян. 8:38,39).
4) Апостол Павел получил Духа, когда пришедший к нему Анания возложил на него руки, помолился о нём, исцелил и крестил его (Деян. 9:17,18). Но ответить на такие вопросы: ап. Павел получил Духа Святого до или после крещения? и: Дух Святой сошёл на ап. Павла непосредственно или через руковозложение Анании? исходя из короткого библейского описания довольно не просто*.
------------------------------------------------------------------------
* В Деян. 9:17,18 написано так: "Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился". Трудность истолкования данного места заключается в том, что при возложении рук на Савла Анания сказал, что он пришёл для того, чтобы Савл 1) прозрел и 2) исполнился Духа Святого. Но затем говорится только о прозрении Савла, а также о его крещении: о получении Духа Святого не сказано ничего. Поэтому, есть две основные версии того, как всё произошло с ап. Павлом.
Первая: он через руковозложение Анании не только прозрел, но и исполнился Духа Святого - просто этот факт предполагается без конкретного второй раз о нём упоминания.
Вторая: приход Анании действительно был причиной того, что Савл прозрел и получил Духа Святого, но произошло всё это в такой последовательности. Ещё до прихода Анании Савл находится в посте и глубокой молитве, и Дух Святой, конечно же, пребывает рядом с ним, побуждая его к молитве и покаянию, внушая ему веру и разумение того, что явившийся ему Иисус есть тот долгожданный, истинный, обещанный Богом Мессия. Затем, через возложение рук Анании, Дух Святой сильнее касается Савла, исцеляя его от слепоты, после чего он крестится "для прощения грехов" (Деян. 2:38), как крестятся все верные, и в уже полностью очищенное не только личным покаянием и предварительным действием Духа, но и святым Крещением сердце Савла входит Дух Святой Своей личностью. И хотя первый вариант кажется возможным, всё же вторая версия представляется более состоятельной и богословски оправданной, ибо в этом случае, во-первых, ап. Павел, призванный Богом к служению равному служению двенадцати Апостолов[Говорю "равному служению двенадцати Апостолов" потому, что апостолами в Евангелии называются, кроме Двенадцати, также ближайшие сотрудники Апостолов, такие как Варнава (Деян. 14:14), Силуан и Тимофей (1 Фес. 2:7 сравнить с 1:1). Кроме того, тех семьдесят учеников Христа, которых Он также избрал и посылал на проповедь (Лк. 10:1,17), Церковь также именует апостолами "от семидесяти"; и в этом нет ничего не допустимого, ибо "апостол" значит "посланный": раз их Христос послал на проповедь, то значит они апостолы. Многие из них, к тому же, и были теми ближайшими сотрудниками и помощниками главных Апостолов. Есть в Церкви, также, несколько святых, именуемых "равноапостольными". К ним относится, например, просветители славян Кирилл и Мефодий и наш киевский князь Владимир и бабка его княгиня Ольга, благодаря которым была обращена ко Христу огромная страна, и которые по этой причине справедливо так именуются, так как проповедь и обращение народов в христианство есть миссия апостольская. Но, имея столько апостолов, Церковь всегда особо выделяет 12 Христовых Апостолов, считая одного только ап. Павла по достоинству во всём им равным. Более того, ап. Павла Церковь не только приравнивает к Двенадцати, но и называет его вместе с ап. Петром "первоверховным Апостолом"], получил Духа Святого непосредственно от Бога, как и другие Апостолы. Во-вторых, во втором случае ап. Павел получил Духа Святого после крещения, а именно такая последовательность характерна для Нового Завета, и именно так всегда во все времена и происходило в Церкви (на что ниже я неоднократно буду обращать внимание моего читателя).
Таким образом, тот факт, что в Деяниях не говорится о том, что Савл по возложении рук Анании не только исцелился, но и принял Духа Святого, по всей видимости, не случаен, поскольку Савл сначала, через руковозложении Анании, "прозрел; и, встав, крестился", а затем уже получил дар Святого Духа непосредственно от Бога.
------------------------------------------------------------------------
5) Корнилию с его домашними был дан Дух Святой до крещения непосредственно от Бога (Деян. 10:44).
6) Ефесяне, как и самаряне, приняли Св. Духа после крещения посредством возложения рук Апостолов (Деян. 19:1-7).
Как видим, книга Деяний даёт нам самые различные описания того, как (опосредованно или нет) и когда (до или после крещения) верующие получали Духа Святого. И этот факт - очередной пример, который показывает несостоятельность реформаторского тезиса "только Писание", то есть протестантского убеждения в том, что Библия - самодостаточна; что она есть законченный источник Божьего откровения, не нуждающийся ни в каких толкованиях и преданиях; что нужно просто читать Библию, в которой всё ясно написано.
На самом же деле, Св. Писание можно правильно понять только в Церкви, только соборно, только в контексте Св. Предания, только получив в Церкви Духа Святого. А протестантский лозунг "только Писание" есть заманчивая и тонкая ложь, придуманная дьяволом для того, чтобы различные сектанты могли смелее и больше искажать истинный смысл Св. Писания, внося в его толкование любые свои человеческие мнения и предания, с уверенностью говоря при этом: "Писание ясно этому учит"[Нужно заметить, что Библия действительно содержит одно непротиворечивое и ясное учение, но только понять и разобрать всю его премудрость человек не может сам - без посредства "учителей", "пророков, и мудрых, и книжников" (Еф. 4:11; Мф. 23:34), которых Христос поставил в Своей Церкви и, естественно, без Самого Духа Святого, наставляющего на всякую истину (Ин. 16:13), получить Которого человек может только в Церкви, и Которому человек должен ещё посредством своего личного подвига дать место в душе, и научиться слышать Его голос, и отличать от голосов иных - другое название для монаха. Это слово значит духов. Поэтому, без Церкви, в коей обитает Дух Святой и в коей Бог поставляет Своих учителей, мудрецов и книжников, человек не может истинно постичь и познать то, чему на самом деле учит Библия. Можно сказать тне крещённые младенцыак, что если человек исследует Библию, но не присоединился к истинной Христовой Православной Церкви, то это есть важнейшее свидетельство того, что он не понимает главного, чему учит и к чему призывает Библия] (обо всём этом подробно будет сказано в третьей части книги). Вот и в данном вопросе, протестанты говорят: "нужно получать Духа Святого непосредственно от Бога, до крещения, как произошло это с Корнилием. Именно этот случай нужно считать правилом. Все остальные случаи, где этот процесс описан иначе, нужно считать исключениями".
Если протестанты и не говорят так дословно, то другими словами и всем своим учением они это ясно подтверждают. Так, например Г. Тиссен пишет об этом так: "Совершенно очевидно, что крещение не производит спасения, оно, скорее, следует за ним. Корнилий был крещён после того, как принял Духа"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", изд. "Логос", 1994 г., стр. 352]. То есть, сам тот факт, что Г. Тиссен привёл в пример именно Корнилия и никого другого, и о других случаях, где крещение не следует, а предшествует получению Духа Святого и спасения он ничего не упоминает в своём разделе о крещении, ясно говорит о том, что протестантизм желает считать правилом, определяющим связь между крещением и получением Духа Святого, именно случай с Корнилием, а не какой другой. Но где сама Библия утверждает то, что является правилом, а что исключением? Где она объясняет то, почему так по-разному получали Духа Святого верующие? Разве сама Библия говорит о том, что случай получения Духа Св. Корнилием есть правило? Нет. Значит никак нельзя сказать, что Св. Писание ясно учит понимать и поступать именно так.
Православные на основании той же Библии считают, что правилом нужно считать примеры получения Духа Святого самарянами и ефесянами, а другие случаи, в том числе и случай Корнилия, нужно считать исключительными. И если кто-либо следует протестантскому мнению, а не православному, то это вовсе не потому, что первое мнение основано на Библии, а второе - на предании человеческом; что мнение протестантов подтверждается Библией, а православное нет. Как видим, православное мнение также опирается на Св. Писание, причём на два примера, а не на один, как протестантское; к тому же православная позиция намного более обоснованна библейским контекстом и самой логикой, что далее мы увидим. То есть, выбор между этими двумя позициями не есть выбор между Писанием и человеческим преданием, а есть выбор только между двумя преданиями и двумя толкованиями - между преданием православным и преданием реформаторским, протестантским[О том, что выбоemр протестантских догматов и отвержение догматов православных не есть предпочтение Св. Писания преданию человеческому, как кажется протестантам, а только выбор одного толкования Библии (как раз таки человеческого и ложного) и отвержение другого толкования (как раз таки Божественного и истинного), я показываю всей своей книгой]. И это весьма важно осознавать, ибо если вот так, то есть правильно поставить вопрос, то и решить его будет куда проще.
Итак, какое же мнение, толкование и предание есть истинное, Божественное и действительно библейское, а какое - лживое, человеческое и не библейское?
Перед тем, как нам подробнее взглянуть на два вышеприведенных мнениях, нужно заметить, что в православно-протестанском диспуте о способе и времени (то есть, до или после крещения) получения человеком Духа Святого главнейший смысл имеют только три из шести перечисленных случаев, описанных в Деяниях: случай Корнилия со своим семейством с одной стороны, который протестанты[Говорю желают признавать правилом на все последующие времена для Церкви, и два случая получения Св. Духа самарянами и ефесянами с другой стороны, которые правилом считают православные. Остальные три случая не имеют такого значения, так как обе стороны легко согласятся с тем, что они являются исклstrongючительными, и вот почему.
Первый случай - получение Св. Духа Апостолами - является исключительным по понятным причинам. Во-первых, Апостолы, как упоминалось, вообще не были крещены, а потому их пример не даёт ответа на вопрос о том, когда - до или после крещения - нужно принимать человеку Св. Духа? Во-вторых, Апостолы были первыми, кто получил Духа Святого, и понятно, что получить они могли Его только непосредственно от Бога. Поэтому, этот факт не даёт протестантам возможности сказать: "нужно получать Духа Св. непосредственно от Бога, ибо Апостолы именно так Его получили". На этот аргумент всегда strongлегко ответить так: "Апостолы были первыми, кто получили Духа Св., и не было ещё на земле человека, который мог бы им Его передать; потому они и получили Его непосредственно от Бога. Когда же уверовали самаряне и ефесяне, то они уже получили Духа не непосредственно от Самого Бога, а посредством Апостолов". В-третьих, с Апостолами вообще всё происходило необычно, их роль в Церкви совершенно исключительная, что выше уже было отмечено. Таким образом, по указанным причинам протестантам невозможно использовать историю с Апостолами как аргумент в пользу того, что верующие должны получать Духа Св. непосредственно от Самого Бога.
Пример ап. Павла также неудобен ни для одной из сторон для доказательства правоты своей позиции из-за того, что подробности, связанные с получением им Св. Духа, не ясны, что уже было объяснено. И если даже придерживаться какой либо одной из высказанных мною версий того, как всё могло в действительности произойти с ап. Павлом, то обе они не устроят протестантов, ибо в первом случае нужно будет признать, что ап. Павел получил Духа Св. посредством руковозложения Анании, а во втором, что ап. Павел получил Духа Св. после крещения. Таким образом, обе эти версии протестанты должны признать исключением. Православные также не могут считать способ получения Св. Духа ап. Павлом правилом для всей Церкви потому, что в первом случае он получил Его до крещения и через руки Анании, который не имел власти передавать Духа Святого[По преданию, Анания на момент обращения Савла был рядовым верующим, и стал епископом уже после этого случая], а во втором случае ап. Павел получил Духа Святого непосредственно от Бога, а такой способ православные считают исключительным.
Случай с евнухом как протестанты, так и православные также должны согласиться считать исключительным, ибо он не подпадает под правило ни одной из сторон. Протестанты не согласны считать этот случай правилом потому, что евнух получил Духа Святого после крещения, а православные не могут считать этот случай правилом потому, что евнух получил Духа Св. от Бога непосредственно.
Итак, как было сказано, остаются только случай получения Св. Духа Корнилием, который во всех аспектах устраивает протестантов как правило, и случаи получения Духа самарянами и ефесянами, которые считают правилом православные. Теперь постараемся проанализировать аргументы обеих сторон, которые они приводят в защиту своих позиций.
Православные считают, что получение человеком Духа Святого есть Таинство, и поэтому, как и всякое другое Таинство, оно совершается Богом в Своей Церкви при посредстве Его священства. И то, что такая великая власть (подавать Духа Святого) дана грешному человеку, - что протестантам кажется невозможным, - представляется в Православии вполне нормальным и закономерным явлением, ибо Сам Христос желает совершать спасение человека при посредстве самого человека, при посредстве Своей возлюбленной Церкви. Практически никто из спасаемых не спасается непосредственно Самим Богом, а все спасаются благодаря также Христовым сослужителям и "соработникам" (1 Кор. 3:9). Так, в Крещении, например, человек погружается во имя Отца, Сына и Святого Духа, получает отпущение грехов, духовно рождается и облекается в самого Бога - какое великое Таинство! И хотя во Христа крестит Сам Дух, но совершает Он это посредством человека.
Другой пример - Таинство Причастия, в котором Христос питает Свою Церковь самим Своим святым Телом и Кровью: но и это величайшее из всех Таинств происходит не без посредства священнослужителя.
Ещё один пример - Таинство Венчания. Протестанты согласны, что жениха и невесту сочетает Сам Бог; во время бракосочетания баптисты, например, всегда поют перефразированные слова Христа: "что Бог сочетал да не разлучит человек" (ср. Мф. 19:6). Но в этом случае они признают, что сочитывает Бог, совершая при этом таинство соединения двух людей во единое целое и во единую плоть, и происходит это посредством пресвитера. То есть, хотя пресвитер и человек, но протестанты верят, что через него Бог соединяет двух людей в единую семью и единое целое, и хотя всё делает Бог, но пресвитер участвует в этом акте и сотрудничает в этом деле с Богом.
А если, по упрямству и своеволию, кто-то из протестантов не пожелает признать справедливость приведенных примеров, говоря, например, что ни крещение, ни причастие, ни венчание не есть в его понимании необходимые условия для спасения, то можно привести и другой, явный для протестанта пример того, что никто из спасаемых не спасается непосредственно Христом, а только при участии Христовых соработников - Слово Божие. Для протестанта ясно, что нельзя веровать без проповедующего, и нельзя узнать о Боге без Евангелия, как написано: "всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? (...) Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия" (Рим. 10:13-17).
Итак, протестант уверовал и, как он думает, спасся благодаря одному только Христу, или же и благодаря Апостолам, которые написали Новый Завет; благодаря тем безвестным людям, которые переписывали и сохранили для нас Евангелие; благодаря переводчикам и издателям, которые сделали возможным для нас прочтение Евангелия? Очевидно, что человек спасается Богом не непосредственно, а при посредстве многих людей. Вот так и Таинство Духа, по православному учению, совершается Богом не непосредственно: Духа Своего подаёт верным Сам Господь, но подаёт Он Его посредством Своих соработников - епископов и священников. Один только тот факт, что через возложение рук Апостолов подавался Дух Святой, говорит о том, что для Бога посредство человека в этом деле вполне возможно.
Почему же тогда Апостолы со всеми находящимися с ними в горнице, евнух Ефиоплянин и Корнилий получили от Бога Духа Святого без посредства человека? На этот вопрос можно ответить кратко: так было "угодно Святому Духу" (ср. Деян. 15:28). Но в делах Божиих всегда есть важный смысл, который Он и объясняет Своей возлюбленной Церкви, ведь если в Ветхом Завете было сказано, что "Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам" (Ам. 3:7), то тем более в Новом Завете Церкви дано понимать дела Божии. Смысл же того, почему именно эти люди получили Духа Святого от Бога непосредственно, а другие - посредством руковозложения Апостолов, заключается в том, что Бог пожелал в первый раз Сам непосредственно дать Своего Духа 1) евреям, 2) прозелитам и 3) язычникам, чтобы научить Апостолов и всех христиан-евреев тому, что отныне к народу Божьему могут принадлежать люди из всех языческих народов, и что теперь вот такая Церковь, составленная не из одного еврейского, а из многих народов, есть истинный Израиль. Поэтому, Бог вначале непосредственно дарует Духа Святого Апостолам и всем, собранным с ними в горнице, то есть евреям. Затем Он подаёт Духа Святого евнуху, который был прозелитом, ибо замечания Библии о том, что он приезжал "в Иерусалим для поклонения" и по дороге домой "читал пророка Исаию" (Деян. 8:27:28) дают нам полное право сделать такой вывод. И, наконец, Бог даёт Духа Святого язычнику Корнилию, причём не просто язычнику, а римлянину и сотнику той армии, которая оккупировала Израиль! То есть, мы видим ясную логику и последовательность в том, как Бог непосредственно даровал миру Духа Своего: сначала евреям, потом прозелитам и затем язычникам[На то, что Христос есть Спаситель сначала евреев, а потом и язычников, указывает ап. Павел, когда говорит, что благовествование Христово "есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину" (Рим. 1:16; ср. 2:10). Также и Христос, в ответ на просьбу язычнице об исцелении её дочери, ответил: "дай прежде насытиться (обо всём этом подробно будет сказано в третьей части книги). Вот и в данном вопросе, протестанты говорят: детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам" (Мр. 7:27)] - по мере близости этих групп людей к Богу и народу Израильскому.
Кроме того, в каждом из этих случаев была и другая важная причина, по которой Дух Святой сошёл без участия Апостолов.
В первом случае, о чём мы уже говорили, Апостолы не могли ни от кого принять Духа, как только от Самого Бога.
Во втором случае, как пишет о том Димитрий Чуйков, "Господь по милости Своей к ищущему истины в Слове Божием евнуху, поспешил утешить его Духом Истины и Слова Премудрости и всякого утешения, и не позволил ему ждать того случая, когда он встретится с кем-либо из Двенадцати Апостолов или с кем-либо из их преемников, и через руковозложение носителя высшей благодати получит дар Святого Духа"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 77-78]. Ибо проповедавший ему и крестивший его Филипп был из числа семи диаконов, а не из числа Двенадцати Апостолов, и потому, имея право крестить[Право крестить при крайней необходимости с древних времён имеют не только священники, о чём говорил ещё Тертуллиан: "Впрочем, даже и мирянам в крайнем случае дозволено крещение" ("О крещении", гл. 17). Совершить же Таинство Духа во всей полноте может только епископ] евнуха, он не имел власти передать ему через руковозложение Духа Святого[Для придирчивого протестантского читателя, которому причина простой милости Божией для получения Духа Святого евнухом непосредственно от Бога покажется малоубедительной, замечу, что в большинстве древних рукописей Деян. 8:39 читается так: "Когда же они вышли из воды, Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжил путь, радуясь". То есть, в большинстве рукописей фразы "Дух Святой сошёл на евнуха" в 39 стихе вообще нет, и западные протестанты в своих Библиях не имеют этих слов; они знают только о двух, а не о трёх случаях, описанных в Деяниях, когда Дух Святой был дан Богом без посредства руковозложения Апостолов].
В третьем случае, у Апостолов ещё не было веры на то, чтобы крестить и передать Духа Святого язычнику Корнилию. Этот факт весьма важен, так как даёт ключевой ответ на два важнейших вопроса:
1) почему Корнилию и его домашним был дан Дух Святой непосредственно от Бога, а не через возложение рук пришедшего к ним и благовествующего им ап. Петра;
2) почему они единственные, кто, по ясному свидетельству Библии, приняли Св. Духа до, а не после крещения.
Поэтому, давайте внимательно рассмотрим историю с Корнилием, чтобы вполне убедиться в том, что Апостолы действительно не могли по причине недостатка на тот момент веры и откровения без прямого Божьего вмешательства крестить и передать через руковозложение Духа Св. ни Корнилию, ни другим язычникам. Они всё ещё во многом держались законов своей иудейской веры, в том числе и постановления о не сообщении с язычниками, и к твёрдой вере ап. Павла в то, что во Христе "нет ни Еллина, ни Иудея" (Кол. 3:11); что язычники могут с таким же правом, как и евреи, креститься и получать Духа Святого, другие Апостолы пришли не сразу.
Итак, история, описанная в Деян. 10:1-11:18, начинается с того, что благочестивому Корнилию является Ангел Господень и повелевает ему пригласить к себе ап. Петра, сообщая ему о месте его пребывания. Самому же ап. Петру Бог являет такое видение: "он пришел в исступление и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого./strong Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо". Нечистые животные в этом видении означали язычников, с которыми иудеям запрещено было сообщаться так же, как и есть этих животных. Слова же Господа: "заколи и ешь" и: "что Бог очистил, того ты не почитай нечистым" были сказаны для того, чтобы убедить ап. Пётра пойти на общение с язычниками, которые должны были к нему вскоре прийти. Для этого Дух Святой ещё раз, уже не в видении, а наяву, сказал ап. Петру: "иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их". И рассказ людей Корнилия о видении ему Ангела окончательно убеждает ап. Петра пойти в дом к язычнику, чего он никогда раньше не делал. И в своей речи ап. Петр сам признаётся в том, что он не общается с язычниками, а сейчас пришёл к ним в дом только благодаря ясному вразумлению от Бога: "И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно". И после подробного рассказа Корнилия о явлении ему Ангела, ап. Пётр отвечает: "истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему". То есть, словом "познаю" ап. Пётр выразил ту мысль, что вот только сейчас, в настоящее время, после бывшего ему видения, после голоса Духа Святого, после видения Ангела Корнилию я начинаю постигать, понимать и осознавать то, что из всякого, а не только иудейского народа, поступающий по правде приятен Богу.
Но при всём этом, начав постигать промысел Божий в отношении язычников[Конечно, нельзя сказать, что ап. Пётр только в этот момент начал постигать тайну язычников, ибо раньше он в своей известной и вдохновенной проповеди возвестил о том, что обетование дара Духа Святого принадлежит и "всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш" (Деян. 2:39), под которыми Дух Святой, Которым говорил ап. Пётр, подразумевал не только иудеев рассеяния, но и язычников. Но очевидно, что ни сам ап. Пётр, ни слышавшие его евреи отнюдь не сразу поняли полный смысл этих вдохновенных слов], ап. Пётр и пришедшие с ним иудео-христиане не смогли сразу охватить весь объём этой истины и сделать все окончательные выводы, проистекающие из неё. То есть, даже все эти необычные видения не позволили ап. Петру и пришедшим с ним тотчас понять то, что с язычниками теперь можно не только общаться, разделять трапезу и входить к ним в дом, но и крестить и передавать величайший Божий дар - дар Духа Святого. Поэтому, продолжая вразумлять и расширять сознание Своих Апостолов и всех христиан из иудеев, Господь чудесно, Сам непосредственно изливает на Корнилия и его домашних Духа Святого во время речи ап. Петра.
И важнейшее обстоятельство, на которое нам следует обратить особое внимание, состоит в том, что "верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников"! То есть, они не тому изумились, что Дух Святой был дан чудесно и без возложения рук ап. Петра; и не тому знамению, что получившие Духа заговорили на языках. Они изумились именно тому, что Дух Святой вообще был дан язычникам!
Этот факт убедительно доказывает, что ап. Пётр и пришедшие с ним "верующие из обрезанных" даже не думали крестить и передавать Духа Святого Корнилию и его домашним. Поэтому Господь просто как бы вынужден был сотворить такое чудо, чтобы явным и наглядным образом научить всех иудео-христиан тому, что язычников Господь приемлет в Свою Церковь таким же образом, как и евреев, и что язычникам Бог так же, как и евреям, дарует Духа Своего Святого. И только после этого ап. Пётр понимает, что и язычники предназначены для вхождения в Церковь. Поэтому, увидев всё происшедшее, он восклицает: "кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?".
Но и это ещё не конец истории, и дальше мы читаем о её продолжении: "Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: "ты ходил к людям необрезанным и ел с ними"". Как видим, христиане из евреев смеют упрекать первоверховного Апостола, что говорит о том, что в их глазах он сделал нечто такое недопустимое и греховное, за что они имеют право требовать от самого ап. Петра отчёта.
И заметим также, что они его упрекают даже не за то, что он крестил язычников, а только за то, что он ходил к ним и ел с ними! Этот упрёк ещё раз ясно показывает, что на то время христиане из иудеев, в том числе и сами Апостолы, не понимали ещё того, что евреи и язычники должны стать одним Божиим народом - Церковью. Они жили ещё своими иудейскими понятиями о том, что только еврейский народ есть Богоизбранный, и что с язычниками нельзя сообщаться. С таким сознанием иудео-христиане, естественно, не были способны передать Духа Святого язычнику Корнилию, ибо если они не допускали мысли о том, чтобы просто общаться и есть с язычниками, то, - это должно быть понятно каждому, - они совершенно не могли допустить мысли о том, чтобы крестить их и подавать им Духа Святого, вводя их тем самим в теснейшее церковное общение, где все верные вместе молились, участвовали в трапезах любви (так называемых агапах), приветствовали друг друга целованием, а главное - вместе причащались! То есть, если первые иудео-христиане считали невозможным для себя разделять обычную трапезу с язычниками, то как же они могли допускать мысль о том, чтобы вкушать с ними вечерю Господню? Никак не могли.
Все эти рассуждения подтверждает св. Иоанн Златоуст, говоря, что в начале "…проповедь язычникам весьма соблазняла иудеев и даже учеников. Ученики и впоследствии не легко дозволяли себе входить в общение с язычниками, пока не получили наставление от Духа, - так как отсюда происходил не малый соблазн для иудеев. Оттого-то даже после столь великого явления Духа, Пётр, пришедши в Иерусалим, едва мог избегнуть порицаний, рассказав о плащанице (Деян. XI, 1-19)"[Толкование на Евангелие Иоанна Богослова, беседа 80, п. 1].
Димитрий Чуйков также замечает по этому поводу: "Человеческому великодушию трудно поспевать за Божиим, и к определенному Господом времени получения первыми язычниками благодати Святого Духа, в Церкви Христовой не нашлось ни одного человека, который бы шел в ногу с нелицеприятной любовью Божией; не было ни одного, впрочем, как и сейчас, кто охватил бы бездну богатства Его и постиг непостижимые судьбы Его, и исследовал неисследимые пути Его; и среди истинных Иудеев, каковыми, несомненно, следует считать Господних Апостолов, не нашлось ни одного, кто хотя бы мог предположить, что Богом предопределено и язычникам войти через Крещение и получение дара Святого Духа в славу народа Его Израиля и умножить ее"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., с. 83].
Таким образом, недостаток (в первое время) откровения у Апостолов и христиан из иудеев относительно тайны язычников была главной причиной того, почему Бог Сам непосредственно даровал Корнилию и его домашним Духа Святого. По этой причине и крещение Корнилию было преподано после получения им Св. Духа. Вот потому совершенно понятно, что случай Корнилия есть случай исключительный и в способе получения Духа (непосредствеstrongнно от Бога), и по времени получения (до крещения).
После этого Богу уже не было нужды вмешиваться в обычный процесс сообщения верующим Духа Святого. Так, когда уверовали ефесские язычники, то пришедший к ним ап. Павел, имея полную веру насчёт язычников, крестил уверовавших ефесян и передал им через руковозложение Духа Святого (Деян. 19:6).
Здесь нужно заметить, что именно Апостолу Павлу во всей полноте была открыта "тайна язычников", о которой он так много писал в своих посланиях (см. напр. Еф. 3:3; 6:19; Кол. 1:26, 27). Тайна эта в том и заключается, что Бог в Своём промысле скрывал до времени Свой замысел соделать всех верующих во имя Его - и евреев, и язычников - одним народом Божиим. /strongИ за утверждение этой, открытой ему Богом истины, он много боролся с теми "верующими из обрезанных", которые никак не могли постичь этой тайны (см. Гал. 2:4,5; Деян. 15:1,2). (Собственно говоря, первый церковный Собор, бывший ещё при Апостолах (описанный в Деян. 15:1-31) состоялся именно по причине возникшего в Церкви спора насчёт того, каким образом вводить язычников в Церковь, и какую роль для христиан имеет обрезание и прочее из закона Моисея).
Потому именно ап. Павел, а никто другой из Апостолов, назван Апостолом язычников. Сам он писал о своём служении язычникам так: "увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных - ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, - и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным" (Гал. 2:7-9).
Поэтому, другие Апостолы куда с большим трудом, чем ап. Павел, и не сразу постигли тайну язычников. Так, даже после такого яркого урока, преподанному Самим Богом Апостолам и всем христианам-евреям в случае с Корнилием, ап. Павел был вынужден защищать честь язычников и их право на полноценное церковное общение даже перед ап. Петром, о чем сам ап. Павел свидетельствует: "Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?" (Гал. 2:11-14). То есть, даже после всего происшедшего с Корнилием, в среде христиан-иудеев ещё долго бытовали понятия о том, что с язычниками нельзя общаться и вместе вкушать трапезу - так сильно было их старое иудейское мировоззрение[Нам не следует судить за это Апостолов и первых христиан-иудеев слишком строго, ибо мы не можем представить себе того, насколько глубоко на протяжении многих веков евреи были проникнуты убеждением о том, что только Израиль есть избранный народ Божий, а все остальные народы пред Богом - ничто, и обречёны Им на истребление. Да и как они могли думать иначе, когда они постоянно читали такие, например, места Св. Писания: "Вот народы - как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах… Все народы пред Ним как ничто; менее ничтожества и пустоты считаются у Него" (Ис. 40:15,17). Или: "О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям каплющим из сосуда. И ныне, Господи, вот, эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами (евреями)…" (3 Ездр. 6:56,57). А также: "…Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю… Я истреблю все народы, к которым Я изгнал тебя, а тебя не истреблю" (Иер. 30:11; 40:28). В евангельском повествовании мы видим, например, что книжники и фарисеи не входили к Пилату по тому, что он был язычником, и он сам должен был выходить к ним. То есть, даже желая склонить Пилата на свою сторону, они всё равно не преступали постановления о том, чтобы иудеям не входить в дом к язычникам, не боясь даже того, что для Пилата и для всех остальных римлян такое поведение было оскорбительным, ибо они понимали, что они не входят к ним, чтобы не оскверниться. И конечно, впитав такое отношение к язычникам, как говорится, с молоком матери, многим иудеям весьма трудно было отказаться от своей веры, которая была, по их понятиям, дана им от истинного Бога на все века. Это можно сравнить с тем, как если бы сейчас христиане, веками воспитанные, например, на понятиях о святости брака и греховности прелюбодеяния, услышали бы, что теперь Бог позволяет многожёнство. Такого, конечно же, нет в Божьем промысле в отношении христиан, но на этом примере можно хорошо прочувствовать то, как трудно было первым евреям-христианам поверить и принять проповедь ап. Павла о тайне язычников; о том, что во Христе теперь "нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания" (Кол. 3:11), ведь для них общение с язычниками было духовным прелюбодеянием].
По этой причине, повторю, Корнилий не мог получить Духа Святого иначе, как от Самого Бога, и никак не мог, как все остальные, креститься до принятия Духа, так как христиане-иудеи не имели веры на то, чтобы крестить его до сошествия на него Св. Духа. Поэтому, случай с Корнилием во всех отношениях исключительный.
Каково же тогда правило получения Духа Святого? В Библии мы находим ответ на этот вопрос: "через возложение рук Апостольских подается Дух Святый" (Деян. 8:18). Данное библейское утверждение имеет важнейшее значение для нашего разговора, и потому рассмотрим этот стих подробнее, в его непосредственном контексте: "Тогда (Апостолы) возложили руки на них (самарян), и они приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом" (Деян. 8:17-21).
Обратим внимание, что даже нечестивый Симон волхв понимал реальность апостольской власти 1) подавать через руковозложение Духа Святого, а также 2) передавать сию власть другим. Поэтому он и обратился к ним с такой просьбой. И апостол Пётр не отверг того, что он имеет полномочия на то и другое. Он лишь с гневом отказал в передаче этой власти Симону за деньги. И его слова: "нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом" дают понять, что другие люди, чьё сердце пред Богом право, могут иметь в этом участие и жребий, то есть получить власть подавать Духа Святого (и возможность передавать эту власть другим). Симону волхву ап. Пётр не дал своей власти подавать Духа Святого, но другим верным христианам (епископам) Апостолы передали эту власть через рукоположение, а те в свою очередь передали её своим преемникам, и так до сего дня.
Итак, правило, которое Бог установил в Церкви для получения Духа Святого есть то, чтобы Апостолы (а также их приемники, то есть епископы) передавали верующим Духа Святого. И в Деяниях мы видим такую картину: вначале Бог посылает Духа Апостолам непосредственно. Затем они, уже имея в себе Св. Духа, передают Его через руковозложение самарянам. На это у них хватило веры, так как самаряне были евреями, хотя и не чистыми. Затем Бог подаёт Духа Святого непосредственно сначала прозелиту евнуху, а потом и язычнику Корнилию, поскольку у Апостолов на то время, по крайней мере, во втором случае[Возможно, Апостолы в начале не имели веры и на то, чтобы подавать Духа Святого и язычникам-прозелитам, что ещё больше объясняет причину, по которой евнух получил Духа Святого непосредственно от Бога], не хватало веры на то, чтобы самим это сделать через возложение рук. И после этого уверовавшие из язычников ефесяне крестятся и получают Духа Святого через руковозложение ап. Павел, который имел полную веру насчёт язычников. И после этого, когда все Апостолы и иудео-христианские епископы убедились (прежде всего, через чудесное дарование Духа Святого Корнилию с его семейством), что Бог принимает в Свою Церковь и язычников, они стали уже сами с полной верой передавать Духа Святого уверовавшим через руковозложение, и Богу не было уже нужды изливать Духа Своего Самому, без посредства Своего священства.
Нужно не забыть здесь отметить вот ещё какую важную деталь: ап. Павел сначала крестил, а потом уже передал ефесянам Духа Святого. В такой же последовательности это произошло с самарянами, евнухом и, по всей видимости, с самим ап. Павлом. Один только Корнилий со своими домашними получил Духа Святого до крещения, но для такого исключения была весьма веская причина, на которую я уже указал. Почему же так происходило, если не потому, что так и должно происходить в Церкви? В защиту своего мнения, что сначала нужно всё же принимать Духа Святого, а только потом - водное крещение, протестанты могут, например, сказать, что "с самарянами так получилось, что они уже оказались крещёнными, но не имеющими Духа Святого; потому Апостолам ничего не оставалось делать, как передать им Духа Святого уже после крещения".
Хотя аргумент этот очень слаб[То есть, если бы ранней Церкви было присуще протестантское убеждение в том, что крестить нужно только уже имеющих Духа Святого, то 1) почему же самарян, не имеющих Духа, крестили? Разве крестили бы сейчас баптисты тех, кто не имеет, по их мнению, Духа Святого? И если правило заключается в том, чтобы верующим получать Духа Святого непосредственно от Бога, то 2) почему же Бог не подал им Духа Святого перед крещением? И 3) для чего вообще нужно было посредство Апостолов?], но допустим, что это так. Но как же тогда быть с ефесянами? Когда ап. Павел встретил их, то они не были ещё крещёнными, как самаряне. Они были готовы поступить, как сказал бы им ап. Павел. Если бы ап. Павел верил как протестанты, что нужно сначала человеку принять Духа Св., а потом уже креститься, то почему же он сначала крестил их, а потом только передал им Духа Святого? Имей любой протестант власть подавать через руковозложение Духа Святого, какую имел ап. Павел, он бы при своих убеждениях обязательно сначала возложил бы руки для передачи Духа Святого, а только потом крестил бы уверовавших. И то, что ап. Павел сделал всё в другой последовательности, говорит о том, что он по своим взглядам был далёк от протестантов.
Также и в случае с евнухом: если Бог желал дать ему Духа Святого Сам непосредственно, то почему Он это сделал после, а не до его крещения? Ответ истинный и разумный такой: потому, что Бог того и желает, чтобы сначала верующий крестился, а потом принимал дар Духа Святого. Все другие ответы, которые могут придумать протестанты - от лукавого, хотя чаще всего им в этом случае просто нечего ответить, кроме того, что "да, так было, но всё это - исключения (причём, причины таких исключений не понятны), а правилом нужно считать случай с Корнилием". А почему так? Только потому, что дух протестантизма рьяно и вопреки здравому смыслу и ясным свидетельствам Библии требует держаться только такого мнения, иначе вся его структура рухнет - об этом ниже будет сказано подробнее.
Итак, Библия с достаточной ясностью утверждает такой порядок в деле спасения и присоединении человека к Церкви: сначала нужно принимать крещение, а потом - дар Духа Святого. И для такой последовательностиВпрочем, даже и мирянам в крайнем случае дозволено крещение есть важная онтологическая причина, которая кроется в понимания сущности одного и другого Таинства. В крещении человек возрождается, то есть рождается духовно (эту важнейшую доктрину, на которой я подробно останавливал внимание моего читателя в предыдущей главе, ясно утверждает Св. Писание и вероломно отвергают протестанты). И вот в этого родившегося, духовно живого человека и изливается Дух Святой. Это можно сравнить с рождением ребёнка: он сначала рождается, а потом начинает дышать воздухом. Вот так происходит и в рождении духовном: в крещении человек возрождается, и затем этому духовно новорождённому Бог даёт дыхание жизни - Духа Своего Святого.
В общем-то, весь этот процесс - крещение и получение Духа Святого - есть единый процесс, очень друг с другом связанный, как и процесс рождения человека. Потому Христос и говорил о рождении от воды и Духа как об одном целом, но сначала от воды, а потом - от Духа: "кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин. 3:5). Вместе о крещении и получении Духа Святого говорят и другие места Св. Писания, которые мы уже привоstrongдили в предыдущей главе, например Деян. 2:38, где сказано: "да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа". Как видим, процесс крещения и получения дара Духа Святого тесно связан между собой как единый акт духовного рождения, но сказано ясно и конкретно, что сначала крещение, а потом - получение дара Духа Святого. Также в Тит. 3:5 мы читаем: "Он спас нас… банею возрождения и обновления Святым Духом". Для спасения нужны и крещение и дар Духа Святого, но сначала крещение (баня возрождения), а потом - дар Святого Духа (обновление Духом Святым).
Посему, Православная Церковь и совершает оба эти Таинства, Крещение и Миропомазание, сразу, но сначала крещение, а потом - миропомазание: прочтя после крещения человека несколько молитв его миропомазывают, преподавая тем самим уже крещённому и духовно рождённому дыхание жизни - дар Духа Святаго.
Протестанты же, ради утверждения антибиблейской идеи об индивидуализме в спасении (о чём мы ещё скажем ниже), отвергают, презирают и нагло извращают такие ясные и конкретные библейские свидетельства о том, что сначала человек должен креститься, а потом - принимать дар Духа Святого.
Теперь нужно ответить на существенный и уже давно созревший у внимательного читателя вопрос: "а какое отношение имеет миропомазание к передаче Духа Святого через руковозложение Апостолов"?
Всё дело в том, что Апостолы, спустя некоторое время после Пятидесятницы, заменили форму преподания Духа Святого: вместо руковозложения они стали помазывать миром. Это было сделано по внушению Духа Святого из-за острой необходимости, и на то, чтобы крестить и передать Духа Святого язычнику Корнилию. Этот факт весьма важен, так как даёт ключевой ответ на два важнейших вопроса:бо Церковь стала, как мы читаем о том в Деяниях Апостольских, весьма умножаться и распространяться, так что Апостолам было уже физически невозможно успевать полагать руки на всех уверовавших и крестившихся для того, чтобы передать им Духа Святого. Потому они решили освящать миро, а затем распределять его по поместным церквам, давши право не только епископам, но и пресвитерам помазывать крестившихся святым миром и тем самым передавать им дар Духа Святого[При миропомазании человек приемлет Духа Святого не просто от священника, но от епископов, освящащающих миро, которые являются приемниками Апостолов. Димитрий Чуйков по этому поводу замечает: "Теперь, благодать Святого Духа низводится Богом сначала на миро, через освещение его епископом (т.е. Апостолом), после чего уже освященное миро распределяется по Церквам, и таким образом, как бы ни был далек епископ от новокрещенных, и как бы ни была велика численность их, а нужно учесть то, что пастыри Церкви (епископы, пресвитеры) поставляются числом, соразмерным численности паствы, - каждый новокрещенный имеет все ту же возможность получить дар Святого Духа через Апостола, то есть через освященное им миро, при помазании этим миром от священника" (Там же, с. 72). Более того, всякий раз при освящении нового мира, - которое варится и освящается епи После этого Богу уже не было нужды вмешиваться в обычный процесс сообщения верующим Духа Святого. Так, когда уверовали ефесские язычники, то пришедший к ним ап. Павел, имея полную веру насчёт язычников, крестил уверовавших ефесян и передал им через руковозложение Духа Святого (Деян. 19:6).скопами по мере нужды, - добавляется часть старого мира, и так происходило в Церкви всегда. Таким образом, то миро, которым помазываются сейчас крещённые, содержит в себе часть того мира, которое было освящено самими Апостолами. Поэтому, через миропомазание православный человек получает Духа Святого не просто от священника и многих предшествующих и современных епископов, но и от самих Христовых Апостолов]. И эта замена никак не нарушает заповедей Христовых, ибо руковозложение как форма передачи Духа Святого не была предписана Самим Христом, как для крещения Им была предписана вода, а для причащения - хлеб и вино.
Димитрий Чуйков пишет о замене формы сообщения дара Духа Святого так: "В Новом Завете мы не находим Божией заповеди о замене руковозложения миропомазанием для низведения Святого Духа, но в Новом Завете равно нет и Божией заповеди о Руковозложении как, например, о Крещении и Евхаристии. И это говорит о том, что руковозложение и миропомазание как способы передачи дара Святого Духа в Библейском учении не есть настолько безусловные и ничем не заменимые, так, что бы замена их привела к нарушению заповедей, насколько таковыми являются крестильная вода для погружения в Триединого Бога и омытия грехов, и хлеб и вино для причащения Божеского естества. Поэтому Апостолы, стараясь успевать за нуждами всёвозрастающей Церкви, и, имея всю власть в Доме Божием, и великое дерзновение в великой вере, не погрешая против истины, будучи наставляемы Самой Истиной, - и внесли такое изменение в Таинство Духа. И как Дух для дарования Себя спасаемым научил их (Апостолов) руковозлагать, взяв подходящий образ из Ветхого Завета, и, напомнив им о том, как исцелял и благословлял Господь наш Иисус Христос (см., например, Быт. XLVIII, 14-20; Лук. IV, 40 и Мк. X, 13-16), - так Тот же Дух научил их и миропомазывать, вновь беря Ветхозаветный пример, (см. Исх. XXX, 22-33)[Сравнить, также, 1 Цар. 10:1; 16:13; 3 Цар. 1,39; 19:16; Исх. 28:41] и не причиняя вреда, ни Вечному Слову, ни Духу, ни Церкви, ни Отцу Светов (см. Иак. I,17)[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 72-74].
Факт замены руковозложения миропомазанием в древней Церкви не оспаривает даже баптист С. Санников, и говорит, что "во II веке[Конечно, С. Санникову как баптисту трудно признать, что миропомазание было установлено ещё раньше самими Апостолами] при возложении рук начали совершать миропомазание, указывающее[С. Санников, как баптист, совершенно не хочет признать что по вере древней Церкви через миропомазание подавался Дух Святой, и потому он и говорит, что помазание лишь "указывало" на Св. Духа, уже до этого сошедшего на крещённого. На самом же деле, Церковь никогда не учила о том, что миропомазание лишь указывает на уже имеющегося в человеке Духа Святого, а всегда верила (в чём можно без труда убедиться из множества нижеследующих цитат отцов Церкви), что через миропомазание именно подаётся Дух Святой, как подавался Он через возложение рук Апостолов] на сошествие и пребывание Святого Духа на крещённом. Так как возложение рук обычно совершалось епископами, которые не всегда могли присутствовать при крещении, то оно стало вначале откладываться до того времени, пока прибудет епископ, а позже, в связи с ростом общин, сменилось помазанием миром, над которым епископы молились с возложением рук. Так постепенно исчез акт рукоположения над новокрещёнными"["Двадцать веков Христианства", Одесса Санкт-Петербург, 2001 г., том 2, с. 146].
Если такой замены не было бы сделано Апостолами, и они передали бы одним только епископам свою власть подавать Духа Святого через руковозложение, то в положении возросшей числом Церкви епископам было бы крайне затруднительно или даже совсем невозможно успевать возлагать руки на всех крещённых по всем городам и селам своей епархии (о том, что именно эта трудность послужила замене руковозложения миропомазанием, указывает и С. Санников в вышеприведенной цитате). Да, можно было бы крестившимся самим являться в назначенное время к епископу, как делают это, например, католики: они сами приезжают для конфирмации (миропомазания) к епископу, и, теоретически, епископ мог бы их не помазывать, а полагать на них руки. Но нужно учитывать то, что многие из крестившихся не могут сами прибыть к епископу. К таковым людям относятся нетранспортабельные больные, находящиеся в заключении и т.п. К тому же нужно помнить, что современные быстрые и удобные средства передвижения и хорошие дороги стали доступны многим людям всего несколько десятилетий назад, а во все былые века самим приехать к епископу было невозможным или крайне затруднительным делом для гораздо большего числа людей. Вот поэтому, одним епископам, без[Димитрий Чуйков, замены руковозложения на миропомазание и помощи пресвитеров, практически было бы невозможно исполнить своё служение. Те же католики даже в настоящее время не в состоянии всех крещённых привозить к епископу, поэтому у них есть священники, которые также помазывают миром крещённых. (Разница только в том, что Православная Церковь даёт право всем священникам миропомазывать крещённых, а католическая - не всем, а только тем, кто имеет особое на это благословение от епископа: и этот вопрос есть один из многих нововведений и отступлений католичества от веры и практики древней Церкви, ибо из древности все, а не только избранные пресвитеры, имели право миропомазывать крещённых).
Конечно, большинство протестантов ничего не знает и не хочет знать ни о какой замене руковозложения на миропомазание, сделанной самими Апостолами. Более того, множество протестантов понятия не имеет не только о миропомаза/strongнии, но даже о том, что в древней Церкви Дух Святой передавался через возложение рук Апостолов. Я, например, задал одному небезызвестному баптистскому пастору вопрос: "как Вы думаете, почему в Деяниях мы видим два способа получения Духа Святого: непосредственно от Бога и посредством возложения рук Апостолов"? Он явно удивился такому вопросу и ответил: "я не думаю, что Апостолы передавали Духа Святого: скорее, это было благословение на служение". То есть, большинство баптистов, даже их пасторы, не имеют никакого понятия не только о миропомазании (не говоря уже о его признании), но даже не знают о том, что в первом веке Дух Святой передавался посредством возложения рук Апостолов, хотя об этом так ясно и недвусмысленно написано в книге Деяний. Поэтому, крайне важно остановиться на этом вопросе подробно и привести свидетельства Библии, и отцов и учителей древней Церкви, подтверждающие ту истину, что Дух Святой подаётся и всегда подавался (за малым исключением в самом начале) в Церкви верующим посредством миропомазания и священнослужителей Церкви.
Пророчества о миропомазании верующих мы находим ещё в Ветхом Завете, в Иез. 9:4 и Ис. 66:18-19. Но эти отрывки мы рассмотрели уже в главе "О кресте Господнем", и не будем повторяться.
В Новом Завете ещё конкретнее говорится о миропомазании. Так, ап. Иоанн Богослов пишет: "Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все… Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте" (1 Ин. 2:20,27).
О каком помазании говорит здесь Апостол? Если мы внимательно проанализируем слова, которые использует Иоанн Богослов для описания этого помазания, то увидим явные сходства с теми словами, которыми Христос описывал должного прийти Духа Святого. Так, ап. Иоанн пишет, что это помазание "в вас пребывает" - и Христос говорил, что Дух Святой "в вас будет" (Ин. 14:17); ап. Иоанн пишет о том, что "сие помазание учит вас всему… чему оно научило вас, в том пребывайте" - и Христос говорил, что Дух Святой "научит вас всему" и "наставит вас на всякую истину" (Ин. 14:26; 16:13); ап. Иоанн называет помазание "истинным и неложным" - и Христос называл Духа Святого "Духом истины" (Ин. 14:17). То есть, ап. Иоанн говорит о помазании так, как говорил Христос о Духе Святом, из чего следует, что помазание и дар Духа Святого есть одно целое; или же, точнее, что через это помазание и подаётся Дух Святой.
Более того, ап. Иоанн пишет, что помазание это "вы имеете… от Святаго", и что это помазание "вы получили от Него". Эти слова ещё больше убеждают в том, что это помазание совершенно не обычное, и что оно дано от самого Бога: то есть, через это помазание Сам Святой Бог подаёт верным Духа Святого.
На всё это протестанты, конечно же, скажут, что о помазании здесь Иоанн Богослов пишет образно. Но исключительно образное толкование слов Апостола является в этом случае произвольным, ибо для такого толкования должна быть причина. Если мы понимаем многие слова Христа только образно, то на это есть ясная причина. Например, если Христос говорит, что Он есть пастырь, а верующие - овцы; что Он есть виноградная лоза, а верующие - ветви, то понимать эти слова исключительно образно есть ясная логическая причина, ибо человек не может в прямом смысле слова быть овцой или виноградной ветвью. Но когда говорится о помазании, то ясной причины понимать эти слова только образно нет, ибо человек легко может быть помазан в прямом смысле слова.
Более того, когда в Ветхом Завете говорится о помазании, то имеется в виду физическое, буквальное помазание, и помазанники Божии потому так назывались, что были действительно помазаны елеем или миром, и через это действо, естественно, они получали особую Божию благодать. Так, Давид называет царя Саула и себя самого "помазанником" Господним (1 Цар. 24:7,11; Пс. 27:8; 88:39) именно потому, что они действительно, а не образно были таковыми: "взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его (Саула), и поцеловал его и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего" (1 Цар. 10:1); "И взял Самуил рог с елеем и помазал его (Давида) среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после" (1 Цар. 16:13). Так же и царь Соломон потому был помазанником, что "взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона" (3 Цар. 1:39).
Исключительно образно нужно понимать только те места Библии, где Помазанником называется Христос, ибо телесно человеком Он помазан не был. Но для этого есть понятые причины, ибо Христос всегда был исполнен Духом Святым, и не было никакой нужды в том, чтобы помазывать Его и сообщать Ему благодать и дары Св. Духа.
Итак, мы видим, что когда в Ветхом Завете говорится о помазанниках людях, то это всегда значит, что они были буквально, физически помазаны елеем или миром. Когда же говорится о Христе, то помазание нужно понимать образно. С кем же мы должны себя отождествлять в данном случае? С Богочеловеком И. Христом, или с Божьими людьми? Очевидно, с последними. Потому и помазание должны понимать в отношении себя буквально.
К тому же, одно из правил протестантской герменевтики говорит о том, что библейский текст нужно понимать всегда прямо и буквально, если к исключительно образному толкованию нет ве/strongских причин, а таковых причин в выше процитированных словах ап. Иоанна нет.
Димитрий Чуйков так комментирует слова ап. Иоанна о помазании: "Невозможно и не нужно отрицать того, что в этих стихах слово "помазание" имеет образный оттенок, но и нельзя видеть в этом слове только образный смысл. Все становится на свое место, все объясняется, согласуется с историческим голосом Церкви, а главное, с сегодняшней все той же древней Ее практикой передачи Святого Духа, подтверждаемой свидетельством получивших Его, - как раз таки, е Все эти рассуждения подтверждает св. Иоанн Златоуст, говоря, что в начале сли признать за этим словом и его прямой смысл. К такому пониманию нет никаких Библейских противопоказаний"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", изд. Артёмовск, 2008 г., с. 86].
Таким образом, в 1 Ин. 2:20,27 ап. Иоанн говорит о том, что христиане, к которым он писал своё послание, были физически помазаны, и что через это помазание они получили Духа Святого, Который в них пребывал и научал их всему.
О помазании упоминает также и ап. Павел: "Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши" (2 Кор. 1:21-22). Заметим, что и здесь помазание тесно связывается с получением Духа Святого.
О данных библейских отрывках (1 Ин. 2:20,27 и 2 Кор. 1:21-22) рассуждает и митр. Макарий: "Нельзя отвергать, что Апостолы говорят здесь преимущественно о внутреннем действии таинства, через которое преподаётся Дух Святой; но с другой стороны, естественно думать, что для выражения этого внутреннего действия они, желая быть понятными христианам, употребили слова, заимствованные от общеизвестного внешнего действия, служившего видимым знаком первого; и нельзя не приметить, что Апостолы даже прямо указывают на это внешнее действие: вы имеете помазание... помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел…, - как и объясняли оба приведенные текста древние учители Церкви[Дион. Ареопаг. о церк. иерарх, VII, 4. 5; Кир. иерус. поуч. тайновод. III, 6. 7; Златоуст. на 2 Коринф. Гл. 1, ст. 23; Амврос. De his, qui initiantur, c. 7; Феодорит. На 2 Коринф. гл. 1, ст. 23. Прим. Митр. Макария].
Если же так; то следует заключить одно из двух: или св. Апостолы, преподавая верующим Духа Святого через возложение рук, вместе с тем и нераздельно употребляли и другой видимый знак - помазание, о котором только умолчано в книге Деяний апостольских; или, что гораздо вероятнее, совершая первоначально таинство через возложение рук, сами же св. Апостолы вскоре заменили эт/pот видимый знак, по наставлению от Духа истины, другим видимым священнодействием - миропомазанием крестившихся. Но в том и другом случае следует, что употребление мира в этом таинстве имеет происхождение Божественное"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 349].
Если же теперь мы пожелаем узнать то, как древняя Церковь понимала вопрос способа получения Духа Святого верующими, то найдём в её свидетельствах ясное и единогласное подтверждение православной позиции в этом вопросе: древняя Церковь однозначно считала, что 1) Дух Святой подаётся верующим посредством физического, буквального миропомазания, совершаемого священнослужителями Церкви, и что 2) подаётся Он верующим после крещения. Итак, вот некоторые из этих свидетельств.
Книга Постановлений Апостольских, перечисляя дни, в которые рабов должно было освобождать от трудов, говорит: "Да не работают во дни Апостолов: ибо они были наставниками вашими во Христе и даровали вам Св. Духа; да празднуют в день первомученика Стефана и во дни прочих святых мучеников, которые предпочли Христа своей жизни"[Кн. 8, п. 33. Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 548]. Здесь хочу обратить внимание на тот факт, что для древней Церкви было совершенно очевидно, что Духа Святого верные получили через посредство Апостолов.
В этой же книге (кн. 7, п. 43) мы находим такое повеление: "После сего, крестивши его (человека) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, пусть (священник) помажет его миром". Итак, мы видим, что в древней Церкви христиане 1) буквально помазывались миром 2) после крещения.
Св. Дионисий Ареопагит, о котором упоминается в Деян. 17:34, говорит: "Есть и другое, равносильное сему (т.е. Евхаристии) священнодействие, которое наставники наши (т.е. Апостолы) именуют таинством мира"["О церковной иерархии", гл. 1, п. I]. "Да и тому, над кем совершено священнейшее священнодействие богорождения (т.е. крещение), совершительное помазание миром дарует вселение богоначального Духа, между тем как символическое священное начертание креста[Важно заметить, что с самых древних времён в Церкви использовался крест. Интересно и то, что в Православной Церкви доныне крещенных миропомазывают именно посредством начертания креста] означает, я думаю, то, что от Него Самого (от Христа), человекообразно принявшего ради нас освящение от богоначального Духа при неизменяемости свойств божественного естества, подается Божественный Дух"["О церковной иерархии", гл. 1, п. III/11]. Здесь вполне ясно говорится о помазании миром, причём только после крещения, а главное, что это помазание подаёт человеку Духа Святой, "дарует вселение" Духа, а не просто указывает на уже имеющийся в человеке Дух, как хочется понимать это С. Санникову и прочим протестантам.
Св. Феофил Антиохийский (II век) в своём письме к неверующему Автолику пишет: "Что же касается твоих насмешек надо мною и над моим именем христианина, то не знаешь, что говоришь ты. Во-первых, что помазано, то приятно, благополезно и не должно быть осмеиваемо. Ибо какой корабль может быть пригоден и прочен, если прежде не будет помазан? Или какая башня или дом могут быть красивы и удобны, если не будут помазаны? Кто вступая в эту жизнь или выходя на палестру не помазывается маслом? Какое произведение или украшение может иметь благообразие, если не помажется и не очистится? (…) А ты не хочешь помазаться елеем Божиим? Потому-то мы и называемся христианами, что помазуемся елеем Божиим"["Послание к Автолику", кн. 1, п. 12].
Христос буквально значит "помазанник". Вот потому, по мысли св. Феофила, верные и называются христианами (помазанниками), что помазываются "елеем Божиим"[В таком названии мира нет никакой ошибки, так как основа мира есть елей. Основа мира и есть собственно драгоценный елей, в который добавляется около тридцати других веществ].
У протестантов же нет никакого помазания елеем, которое было в древней Церкви и поныне есть в Православии, а потому они даже в этом смысле не христиане.
Тертуллиан: "Вышедши из купели, мы помазываемся благословенным помазанием, по древнему чину, как обыкновенно помазываемы были на священство елеем из рога… Телесно совершается на нас помазание, но духовно плодоносит... Затем возлагается рука, призывающая и низводящая через благословение Св. Духа"["О крещении", гл. 7]. В данных словах мы видим свидетельство того, что в древней Церкви:
1) христиане помазывались помазанием и
2) помазывались они не просто образно, а "телесно", и что
3) помазывались христиане (т.е. получали Духа Святого) вскоре после, а не до крещения.
Именно так всё происходит до ныне в Православной Церкви. Особо обратим внимание, также, на слова "по древнему чину". Если для Тертуллиана, который жил во II-III веках, это помазание уже было "древним чином", то очевидно, оно было установлено не во II-м веке, а ещё при Апостолах; иначе, оч слова.
Св. Климент Александрийский (II-III века) говоря о последователях еретика Василида пишет, что в этом обществе, отпавшем от Церкви, "нет более ни благословенного крещения, ни блаженного запечатления"["Строматы", кн. 11, п. 3]. Под "блаженным запечатлением", несомненно, имеется в виду миропомазание, и оно, как и у Тертуллиана (жившего во время св. Климента) и других древних церковных писателей связывается с крещением и следует за ним.
Священномученик Киприан (ум. 258 г.): "Крестившемуся необходимо еще быть помазанным, чтобы, приняв хрисму, т.е. помазание, он мог быть помазанником Божиим и иметь в себе благодать Христову"["Письмо к Иануарию"].
Опять мы видим единое учение древней Церкви о том, что для того, чтобы получить благодать Христову и быть помазанником Божиим, или иначе - чтобы получить дар Святого Духа - верующий должен быть помазан помазанием, и что совершается это помазание и принятие Святого Духа именно после крещения.
В другом письме сей святой епископ пишет: "ибо тогда только они (еретики) могут вполне освятиться и соделаться сынами Божиими, если возродятся тем и другим таинством"[Митр. Макарий, том. II, с. 351]. Ещё в одном письме он "свидетельствует, что как апостолы Пётр и Иоанн, по молитве, через возложение рук низвели на Самарян св. Духа, так и в Церкви с этих пор все крещающиеся, по молитве предстоятелей, через возложение рук приемлют Св. Духа и запечатлеваются Божественною печатью"[Митр. Макарий, том. II, с. 351].
Епикоп римский Корнилий[Корнилий был единомышленник св. Киприана, который характеризовал первого как "тихого и скромного" пастыря] (III в.) сказав, что еретик Новат во время болезни крестился, продолжает: "выздоровевши, он не принял прочего, что, по уставу Церкви, должен был принять - именно, он не запечатлён от епископа; а не приняв этого, как он мог получить Святого Духа?"[Митр. Макарий, том. II, с. 351].
Опять мы видим ясное свидетельство того, что древние христиане видели одну возможность получения Духа Святого - через запечатление от епископа: запечатления, конечно же, миром. Важно также и то, что последовательность крещения и миропомазания здесь неизменно одна и та же: сначала крещение, а потом запечатление Святым Духом.
Лаодикийский поместный собор (состоявшийся не позднее 343 г.) определил 60 правил веры и церковного благочестия, и 48-е правило гласит так: "Подобает просвещаемым (т.е. крещаемым) быть помазуемым помазанием небесным, и быть причастниками Царствия Божия".
О миропомазаstrongнии говорит, также, и 7-е правило: "Обращающихся от ересей, то есть новатиан или фотиниан, или четыренадесятников, как оглашенных, так и верных, по их мнению, принимать не прежде, как проклянут всякую ересь, особенно же ту, в которой они находились; и тогда уже называемые у них верные, по изучении Символа веры, да будут помазаны святым миром, - и так причащаются Святых Тайн". Вот и здесь мы видим свидетельство о том, что для полноценного вхождения в Церковь Христову совершенно необходимо быть помазанным святым миром.
Второй Вселенский Собор[Этот Собор известен созданием символа веры, который до сих используют православные и поют его на каждой литургии, и который признают и протестанты, впрочем, только на словах, что будет показано в главе "О Церкви"] (381 г.) 7-м своим правилом определил: "Из еретиков присоединяющихся к Православию и к части спасаемых принимаем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, македониан, савватиан и паватиан, именующих себя чистыми и лучшими, четырнадцатидневников или тетрадитов, и аполинаристов, когда они дают рукописания и проклинают всякую ересь, не мудрствущую, как мудрствует святая Божия Кафолическая и Апостольская Церковь, приемлем запечатлевая, то есть помазуя святым миром во-первых чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глагол (Ин. 3:5). Вместе о крещении и получении Духа Святого говорят и другие места Св. Писания, которые мы уже приводили в предыдущей главе, например ем: печать дара Духа Святаго".
Заметим, что Православная Церковь до сего дня именно так совершает Таинство Миропомазания - помазывая указанные части тела человека с произнесением слов: "печать дара Духа Святаго".
Св. Григорий Богослов (IV в.) в своём слове "на святое крещение" говорит: "Если же предоградишь себя печатию, обезопасишь свою будущность лучшим и действительнейшим пособием, ознаменовав душу и тело миропомазанием и Духом, как древле Израиль мощною и охраняющею первенцев кровию и помазанием (Исх. 12, 13); тогда что может тебе приключиться?". Св. учитель Церкви, как видим, миропомазание считает необходимым для христианина, и понимает его вполне буквально.
Св. Иоанн Златоуст (IV в.): "Плачь о неверных, плачь о тех, которые нисколько не отличаются от них, которые умирают без крещения и миропомазания; подлинно такие достойны слез и сетования, они вне царского чертога с обвиненными и осужденными: "Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье" (Иоан. 3:5)"[Толкование на послание к Филиstrongпийцам, беседа 3].
Заметим, что св. Иоанн Златоуст, во-первых, совершенно не двусмысленно связывает слова Христа о рождении от воды и Духа ни с чем иным, как с крещением и миропомазанием, и, во-вторых, утверждает, что без этого нельзя спастись. Именно так и понимала и понимает данные слова Христа вся Церковь с древности, и никто не толковал эти Христовы слова так, как толкуют их протестанты, что Христос здесь говорил о рождении от слова Божия, не имея в виду крещение и миропомазание. В-третьих, И. Златоуст, как и все другие древние церковные писатели, говорит о крещении и миропомазании только в одной и той же последовательности - сначала о крещении, а потом о миропомазании.
Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) одно из своих поучений посвятил именно миропомазанию, где он пространно и ясно изложил свои взгляды об этом предмете:
"1. Так и вам, когда вышли вы из купели священных вод, преподано помазание, сообразное тому, которым Христос помазался. Оное же есть Дух Святый…
2. Ибо елеем, или миром телесным Христос от человеков не был помазан: но Отец, предпоставив Его во Спасителя всему миру, помазал Духом Святым, как Петр говорит: "как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета" (Деян. 10, 38)... И Давид пророк вопиял, вещая: "Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих" (Пс. 44, 7-8). И каким образом Христос воистину был распят, погребен и воскрес; а вы чрез крещение в подобии, и сраспяться, и спогребстись, и восстать с Ним удостоились: так и в миропомазании. Он духовным елеем радости помазался, то есть Духом Святым, который елеем радости нарицается, потому что есть виновник духовной радости: вы же помазались миром, сделавшись общниками Христу и причастниками.
3. Но смотри, не почитай оного мира простым. Ибо как хлеб в Евхаристии, по призывании Святого Духа, не есть более простой хлеб, но тело Христово: так и святое cиe миро не есть более простое, ни, если бы кто сказал, обыкновенное по призывании: но дар Христа и Духа Святого, присутствием Божества Егоstrong бывающий действительным. Оным знаменательно помазуются твое чело и другие орудия чувств. И когда видимым образом тело помазуется, тогда Святым и Животворящим Духом душа освящается.
4. И во первых помазаны вы были на челе, чтобы избавиться вам от стыда, каковый первый преступник человек обносил повсюду (Быт. 3, 7-8). И чтоб откровенным лицем вы славу Господню созерцали (2 Кор. 3, 18). Потом на ушах: дабы получить вам для слышания Божественных таин ухо, о коем сказал Исаия: "Господь пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал" (Ис. 50, 4). И Господь Иисус во Евангелии: "кто имеет уши слышать, да слышит" (Мф. 11, 15). После на ноздрях:? дабы вы, Божественным облагоухавшись миром, возглаголали: "Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых" (2 Кор. 2, 15). Далее на груди: "чтобы облекшись в броню праведности, стать против козней диавольских" (Еф. 6, 14, 11). Ибо как Христос по крещении и по наитии Святого Духа, изшед победил врага (Мф. 4, 1, и след.): так и вы по Святом Крещении, и по таинственном Миропомазании, облекшеся во все оружие Святого Духа, стали против силы врага, и оную побеждаете, восклицая: "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Флп. 4, 13).
5. Сего Святого Миропомазания удостоившись, вы нарицаетесь Христианами, оправдывая возрождением и самое имя. Ибо, прежде нежели вы сподобились оной благодати, вы сего наименования собственно достойными не были, а стремились к тому, чтобы вам быть Христианами.
6. Ведать же вам надлежит, что Миропомазания сего прообразование находится в Ветхом Писании. Ибо когда Божие повеление Моисей передавал своему брату (Лев. 8, 1, 2) и поставлял его в первосвященника, то по измытии водою помазал его (Лев. 8, 6, 12): и сей был назван помазанником (Лев. 4, 5), то есть от помазания образовательного (т.е. прообразного). Так и Соломона, возводя на царство, Архиерей помазал, по измытии в Гионе (3 Цар. 1, 39, 45). Но всё это происходило с ними, как образы (1 Кор. 10, 11). Вам же необразно, истинно: потому что вы от Святого Духа истинно помазаны…
7. (Cиe помазание) сохраните непорочно; ибо оно само учит вас о всем (1 Ин. 2, 27), если в вас пребудет, как ныне слышали вы блаженного Иоанна говорящего, и много о сем помазании любомудрствующего. Ибо оно есть священие, телу духовное хранение, и души спасение. О сем от древних времен блаженный Исаия, предсказывая, говорил: и сотворит Господь всем языком на гopе сей (Ис. 25, 6); горою же называет он Церковь, как и в другом месте, когда говорит: и будет в последняя дни явлена гора Господня (Ис. 2, 2)… Итак вы, сим святым помазавшись миром, соблюдите оное в себе непорочно и неукоризненно: успевая в добрых делах и благоугождая Начальнику спасения вашего Иисусу Христу, Коему слава во веки веков. Аминь"[3-е тайноводственное поучение].
Данное поучение настолько ясно, что не нуждается в подробных комментариях. Заметим только самое для нас важное:
1) св. Кирилл признавал именно физическое, буквальное миропомазание;
2) он верил и учил, что именно через него получают верующие Духа Святого и вообще в полном и буквальном смысле становятся христианами;
3) он учил, что Духа Святого через миропомазание верующий должен получать только после крещения.
О том, что христиане получают Духа Святого именно через миропомазание учили, конечно же, и другие отцы и учителя Церкви первых столетий, такие как Ефрем Сирин, Амвросий Медиоламский, Кирилл Александрийский, блаж. Августин, блаж. Феодорит и другие[См. "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 352-353].
Кроме того, они называли миропомазание различными именами, такими как: таинственное помазание, таинство помазания, помазание спасения, дар Духа, таинство Духа, символ Духа, печать, печать Господня, печать духовная, печать жизни вечной и т.п[См. "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 346-347].
Всё это говорит о том, что Церковь от времён Апостолов совершала миропомазание и посвящала ему важное место в своём учении. Но протестанты, говоря, что они вернулись к жизни древней Церкви, ничего не знают о миропомазании, не совершают его и противятся учению о нём. Так как можно верить протестантам, если мы в очередной раз убеждаемся, что они не учат так, как учила древняя Церковь?
Итак, почему в писаниях и документах древней Церкви мы находим столько упоминаний о том, что Дух Святой подаётся через миропомазание, и нигде мы не встречаем учения о том, что Св. Дух Сам (непосредственно) сходит на уверовавшего во Христа, тем более - до его крещения? Именно потому, что такова истина, и именно таким образом - через священнослужителей и миропомазание, и именно после Крещения - благоволил Бог подавать верным Духа Своего Святого. Митр. Макарий по этому поводу пишет: "Употребление мира при совершении таинства Миропомазания, несомненно, ведёт своё начало от самих Апостолов. Ибо -
а) на это есть ясные намёки в св. Писании, нами уже рассмотренные (1 Иоан. 2, 20; 2 Кор. 1, 21. 22);
б) преемники Апостолов, приявшие от них такие строгие завещания хранить и устные и письменные их предания (1 Тим. 6, 20; 2 Фес. 2, 15), никак не осмелились бы самовольно допустить перемену в таком важном деле, каково совершение таинства, и вместо возложения рук избрать новый видимый знак для низведения на верующих даров Св. Духа;
в) если бы даже кто из древних пастырей и решился сделать такую важную перемену: она не могла бы остаться без замечаний со стороны других блюстителей апостольского предания, и во всяком случае не могла бы сделаться общепринятою в Церкви вселенской. Между тем как употребление мира в рассматриваемом таинстве является повсеместным и на востоке и на западе с первых веков Христианства, - и никто из древних не замечает, чтобы это началось в Церкви только с известного времени или введено таким-то. Наконец -
г) св. Дионисий Ареопагит, как мы видели, говорит, что сами св. Апостолы назвали этсие помазание о таинство таинством мира, и следовательно сами ввели употребление мира"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 354].
И действительно, как можно себе представить, чтобы первые христиане, ревнующие о соблюдении Христово-апостольского учения даже до муче/emнической смерти, после смерти Апостолов вдруг все сговорились без всякой видимой причины изменить учение 1) о способе получения Духа Святого, введя употребление мира, и 2) времени получения Духа Святого (после Крещения). Такое просто невозможно. Причина же того, почему Церковь с древних времён повсеместно учит о том, что Дух Святой получают верующие через миропомазание после крещения, очевидна - этому Она была научена самими Апостолами!
При ознакомлении с учением древней Церкви о способе получения верующими Духа Св. может возникнуть вопрос о том, во всей ли полноте миропомазание заменило руковозложение, или же помазание миром первое время употреблялось вместе с возложением рук, потому как некоторые из древних отцов и писателей церковных упоминают о совершении в их время после крещения как одного, так другого священнодействия (как, например, Тертуллиан и св. Киприан в вышеприведенных цитатах).
На этот вопрос мудро и достаточно исчерпывающе отвечает митрополит Макарий, который говорит: "Употребление мира при совершении таинства Миропомазания всегда считалось существенно необходимым, а отнюдь не возложение рук, отдельное от действия Миропомазания. Ибо, во-первых, древние Соборы, вселенские и поместные, упоминая ясно об этом таинстве, говорят только о помазании миром, вовсе умалчивая о возложении рук, каковы были: второй и шестой вселенские, разрешившие принимать в Церковь некоторых еретиков через совершение над ними таинства Миропомазания, и поместный лаодикийский, подтвердивший совершать это таинство над всеми верующими тотчас после их крещения. Во-вторых, наибольшая часть учителей Церкви, особенно восточные, упоминают также только об одном употреблении мира в этом таинстве, совершенно умалчивая о руковозложении, например: св. Кирилл иерусалимский посвятил целую беседу на объяснение новокрещённым таинства Миропомазания, и однакож ни слова не сказал о возложении рук. В-третьих, если в некоторых частных церквах, преимущественно западных, как видно из свидетельства их пастырей, до некоторого времени вместе с миропомазанием соединяемо было и возложение рук, как и доселе соединяется в церкви римской, то можно думать, что это последнее пастыри Церкви удерживали по местам, только как образ, освящённый примером Апостолов, а не как существенную принадлежность таинства. Ибо, например, св. Киприан, который в одном месте упоминает и о миропомазании и вместе о возложении рук при совершении этого таинства, в другом ясно говорит, что собственно необходимо всякому крестившемуся принять хрисму или помазание, чтобы он мог иметь в себе благодать Христову…"["Православно-догматическое богословие", том II, сс. 355-356].
Но углубляться в рассмотрение данного вопроса нам нет никакой необходимости. Из всех рассмотренных выше свидетельств совершенно ясно то, что в древней Церкви было единогласное понятие о том, что Дух Святой подаётся после крещёния посредством церковного священнодействия (руковозложения или миропомазания): протестантского учения о том, что Дух Святой даётся Богом всякому верующему во Христа до крещения без посредства священства, древняя Церковь решительно не знала!
Да, изучая документы ранней Церкви у нас могут возникнуть такие вопросы, как: в какие именно годы апостольской жизни руковозложение было заменило миропомазанием? была ли эта замена введена повсеместно в одночасье, или какое-то время использовалось по местам как один, так и другой способ низведения Духа Св. на верующих? заменило ли миропомазание руковозложение вполне, или какое-то время некоторые первые христиане для низведения Духа Святого на крещённых использовали оба эти священнодействия?
Подобные вопросы уместны, и о них можно говорить и высказывать свои предположения. Но вопрос о том, - должен ли Дух Святой подаваться через церковное священнодействие (будь то руковозложение или миропомазание), или же непосредственно Богом, а также, должен ли человек креститься до или после получения Духа Святого - при изучении этих документов просто неуместен. Вся Церковь из начала ясstrong/strongно понимала и верила в то, что Дух Святой непременно подаётся уже крещённым, и не иначе, как посредством священнослужителей - епископов или пресвитеров. Это совершенно очевидный факт, который крайне важно осознать протестантам, ведь они считают, что протестантизм есть возвращение от церковного отступления средневековья к чистоте веры гонимой Церкви первых веков. Но эта Церковь совершенно иначе, чем протестанты, учила о способе и времени получения верующими Духа Святого. Поэтому, то, что протестантизм есть возвращение к вере древней Церкви - иллюзия и выдача желаемого за действительное, никак не соответствующая реальности.
Итак, мы достаточно ознакомились с православным учением о способе получения Духа Святого, и увидели веские и вполне убедительные библейские и исторические подтверждения православной точки зрения.
Каковы же аргументы протестантов в защиту своей позиции? Аргstrongументов этих не так уж много, а о их силе и говорить не приходится, ибо всегда трудно отстаивать ложную позицию, как писал ап. Павел: "мы не сильны против истины, но сильны за истину" (2 Кор. 13:8). Быть сильным против истины трудно, потому протестантское богословие так слабо в сравнении с православным…
Итак, почему протестантизм отрицает учение Церкви о миропомазании? Потому, что протестантизм это религия, основа которой есть идея индивидуализма, иначе говоря - идея личного, а не соборного спасения. Основная идея протестантизма заключается в том, что для спасения человеку не нужна Церковь: для спасения ему достаточно самому обратиться ко Христу и признать Его "своим личным Спасителем"[Это выражение, как уже ранее говорилось, не случайно является излюбленнейшей формулой спасения протестантов]. Если человек искренне сделает это, то Бог сразу же, Сам, без всякого посредства Церкви, её священства и Таинств, дарует человеку Духа Святого, спасение и Царствие Небесное. Поэтому, для спасения человеку Церковь не нужна. Конечно, Церковь не отвергается протестантами вообще. Верующие и спасённые Христом должны вместе собирались для молитвы, для проповеди, для взаимного назидания и более успешного возрастания во Христе, но всё, что касается спасения, человек в протестантизме получает от Бога только сам лично. Протестантский богослов Г. Тиссен, например, начиная свою главу о Церкви пишет: "Вот поэтому после учения о спасении приступаем к изучению того рода организованной жизни, которую Бог запланировал для Своего спасённого народа в нынешнем веке"["Лекции по систематическому богословию", с. 337].
То есть, в протестантизме уже спасённые Христом по своей личной вере (ещё до вхождения в какую либо поместную Церковь) присоединяются к земной церкви не для того, чтобы получить спасение и соединение со Христом через её Таинства, а для провождения "организованной жизни… в нынешнем веке". Дальше Г. Тиссен дополняет свою мысль: "Когда он (раскаивающийся человек) становится членом Тела Христова, ему надлежит отождествить себя с поместным собранием"[Г.К. Тиссен, "Лекции по систематическому богословию", с. 353].
Опять же, в протестантском понимании сначала человек через своё покаяние и веру, без всякого посредства Церкви и её Таинств, становится членом Тела Христова, то есть членом вселенской, невидимой Церкви, получая при этом, естественно, прощение грехов, Духа Святого, соединение (причастие) со Христом и спасение, и только потом этот, уже спасённый и всё сам непосредственно получивший от Бога, присоединяется к церкви поместной для достижения различных целей, но вовсе не для прощения грехов в крещении, не для получения Духа Святого, не для причастия Христу в евхаристии, не для спасения. Вот потому ни о каком миропомазании протестанты и слышать не хотят, ибо зачем оно им, если Духа Святого они получают (в чём они уверены) сами, просто обратившись ко Христу в молитве?
И более того, протестанты категорически против того, чтобы Дух Святой подавался через миропомазание или руковозложение, так как в этом случае главная идея протестантизма об индивидуальном спасении рушится, ибо если Дух Святой подаётся через миропомазание, то значит, моё спасение зависит от Церкви, от священства, а именно отвержение этого догмата и есть сущность всего протестантизма. Вот потому им и приходится отвергать учение Библии и Церкви о руковозложении и миропомазании, отвергать все ясные древние свидетельства о сем предмете.
А причина, по которой для протестантизм догмат о личном (без Церкви) спасении стал главнейшим, кроется в его истории. В главе "О Таинстве Священства" мы уже говорили о том, что католическая иерархия сильно злоупотребляла своей властью, и уйти от католичества (считая себя при этом не отступниками от веры и Бога) реформаторы могли только через изобретение догмата о том, что человек спасается сам лично, и ему не нужна для этого Церковь, её священство и Таинства; в протестантизме всё, относящееся ко спасению, не могло зависеть от Церкви. Вот на этой волне и было отвергнуто учение о миропомазание как Таинстве Церкви, через которое подаётся Дух Святой, ибо это учение полностью привязывает спасение к Церкви и священству, от власти которого протестантам так хотелось уйти. Поэтому протестантизм постарался вообще забыть о миропомазании, и вообще о той идее, что Дух Святой вообще может передаваться посредством священства и церковного Таинства. И здесь протестантам очень кстати подошла история обращения Корнилия, вырванная из всего библейского, исторического и логического контекста, который непосредственно от Бога ещё до крещении получил Духа Святого. Таким образом, исключительный во тихого и скромноговсех отношениях случай вхождения в Церковь Корнилия протестантизм сделал правилом.
Итак, протестантский догмат о личном спасении был обусловлен не библейской истиной, а исторической необходимостью освободиться от гнёта римской церкви, и явился реакцией на её злоупотребления. Поэтому, в радикальном отрицании протестантами Церкви и её Таинств есть много понятных человеческих причин, много трагизма, но нет главного - библейской, богословской (экклезиологической и сотериологической) и исторической правды.
Таким образом, ложный и совершенно не библейский догмат - которого совершенно не знала древняя Церковь - о личном спасении не зависимо от Церкви обуславливает главную, так сказать онтологическую, глубинную причину отвержения миропомазания протестантизмом. Все остальные аргументы против миропомазания второстепенны и вытекают из этого важнейшего для протестантизма учения. И нужно заметить, что в этом вопросе протестантизм идёт путём не осознанного замалчивания[Точнее сказать, сами духи протестантизма замалчивают этот вопрос, и не попросту не дают водимым ими задаваться этим вопросом].
То есть, если о том, что отношение Православия и протестантизма к иконам, мощам, крестному знамению и монашеству - очень различно знают все протестанты, то о существовании принципиальной разницы в учении данных конфессий о таком важном для спасения вопросе как способ получения Духа Святого знают единицы. Подавляющее большинство протестантов просто ничего не ведает ни о каком миропомазании, и о том, что кто-то вообще считает, что Дух Святой передаётся посредством него - в этом можно легко убедиться из расспросов протестантов.
Многие баптисты, даже пасторы, как уже говорилось, не только ничего не знают о миропомазании, но даже отказываются признавать очевидное, о чём ясно сказано в Св. Писании, что при Апостолах Дух Святой передавался через возложение их рук. Я, например, даже после трёхлетней учёбы в Донецком Христианском Университете, по сути ничего не знал об этом вопросе, и причина тому было вовсе не моё нерадение к богословским вопросам. Просто сам дух протестантизма отвлекает водимых им от подобных вопросов. То есть, для протестантизма этой темы чаще всего просто не существует.
Но, по возможности замалчивая этот вопрос, протестантское богословие, конечно же, не может, просто уйти от него, и в защиту своей позиции лучшее, что оно может сказать, следующее: "власть Апостолов подавать Духа Святого была исключительной, которая была дана только им одним, и никому другому они её не передавали и не могли передать. Поэтому, в наши дни Духа Святого мы можем получить только непосредственно от Бога, как получил Его Корнилий. Апостолы Иоанн и Павел говорят о помазании только в образном смысле". Но всё это ложь: всю свою власть Апостолы передали своим преемникам епископам, что мы показали в главе "О Таинстве Священства", а понимать места Св. Писания о помазании только образно нет, как было показано, никакого основания. Что же касается свидетельств древней Церкви о миропомазании, то протестанты либо просто их игнорируют, не придавая им никакого значения, либо же самым откровенным образом врут, утверждая, как, например, протестантский "великий пастор" П. Рогозин, что "миропомазание было введено" только в V веке["Откуда всё это появилось?", "Хронология"]!
Заметим, что выше было приведено много свидетельств о миропомазании, и все они - древнее и намного древнее V века. Почему же тогда пастор П. Рогозин такое пишет? Разве он не находил этих свидетельств? Нет, просто он, как и большинство протестантов, не стремиться найти истину, а лишь любыми путями оправдать протестантизм и его разрыв с Церковью. П. Рогозину в частности данная ложь понадобилась для того, чтобы подтвердить свой вывод о том, что "вплоть до V-го века церковь христианская была ещё сильна верой и истиной", а в пятом веке отступила от истины и впала в различные ереси, заблуждения и язычество.
Такая вера принципиально важна для протестантизма, так как без неё само его существование трудно оправдать, ибо если Церковь не отступила от истины, то почему и на каком основании протестанты вообще появились и существуют в качестве церкви? А так как морально очень трудно самого себя и других убедить в том, что Церковь отступила от истины в самом начале (хотя многие протестанты утверждают и такое), сразу же, или очень скоро после смерти Апостолов; так как очень неудобно думать, что гонимая, умирающая за Христа в римских Колизеях Церковь первых трёх-четырёх веков уже была в отступлении, то время такового отступления, в которое непременно нужно протестантам верить, было перенесено на пятый век, по крайней мере, на время после Константина. Потому, протестантам просто логически нужно держаться мнения, что все православные догматы, не согласующиеся с их собственными, не могли появиться в самом начале, а только в период "отступления". Вот потому П. Рогозин без всякого исторического изучения вопроса о миропомазании и пишет, что оно появилось только в V веке. Потому то П. Рогозину и всем прочим протестантам лучше закрыть глаза на правду и верить в свою сладкую ложь, чем признать истину.
Если кто из протестантов хочет верить и дальше в то, что Бог вам без Церкви и вне Церкви без всякого миропомазания даровал Духа Святого - верьте во что хотите. Истина же заключается в том, что Бог с самого начала и во все века подавал Духа Святого верным только в Церкви, и не до, а после Крещения, причём не Сам по Себе, а через Апостолов и их приемников, рукоположенных ими, вначале посредством руковозложения, а затем - миропомазания. И сегодня Духа Святого человек может получить только через Таинства Крещения и Миропомазания в Православной Христовой Церкви.
Кстати, из-за того, что вся раннехристианская литература ясно свидетельствует против протестантских догматов (таких свидетельств я привожу в своей книге большое количество) протестанты так не любят церковную историю и не читают древних церковных писателей. Декларативно они заявляют о том, что вернулись к вере древней Церкви. Логическим следствием такого заявления должен быть активный интерес в среде протестантов к древнехристианской литературе, чтобы находить в ней подтверждения своим верованиям и обличать католиков и православных. Но этого нет, и нет по понятной причине: вера ранней Церкви совсем не такая, как вера протестантская.
Поэтому, можно сказать, что я потому принимаю Православие, что хочу быть последовательным протестантом в этом пункте: я действительно хочу верить так, как верила гонимая Церковь первых веков. Но первые христиане были в своей вере православными, а не протестантами (или католиками).
Ещё в пользу своей позиции протестанты могут привести, например, слова Христа: "Дух дышит, где хочет" (Ин. 3:8), а раз так, то ограничивать Его рамками миропомазания мы не имеем права. Но этот аргумент, при всей его привлекательности, не праведен, ибо Дух Святой действует в согласии со Христом и его Церковью, Которая есть Тело Его. Дух дышит где хочет, но Христос открыл нам и то, где и в ком Дух хочет дышать в полноте - в Его Церкви. Дух Святой желает сходить на того человека, который принимает Христа, Его истинное учение и Его посланников: "Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня" (Ин. 13:20); на того, кто присоединяется к Его Церкви и кто принимает в Церкви крещение, а не на тех, кто восстаёт против Христовой Церкви, против учения Христа и против Христовых посланников, создавая свои богопротивные и самозваные общества. Дух дышит, где хочет, но дышать сектантским духом ереси, раскола и противления Он вовсе не желает - это Церковь знает точно.
На все аргументы в пользу миропомазания протестант в большинстве случаев скажет также, что ничего он об этом не знает и знать не хочет, а знает только то, что Дух Святой точно дан ему /supи живёт в нём, так как он имеет свидетельство Духа в себе, как написано: "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии" (Рим. 8:16). Этот аргумент у протестантов один из любимых, но он не становится от того менее лживым. Правда заключается в том, что протестантам никогда Дух Святой не свидетельствовал о том, что они - дети Божии, ибо протестанты, во-первых, Его не имеют: как же Он им может свидетельствовать? Во-вторых, они враждуют с Церковью и проповедуют (хотя часто и по неведению) много ужасной лжи, и потому Дух Святой (причём, только из вне) может лишь обличать их и призывать к покаянию, а не свидетельствовать о том, что они - дети Божии. Кто же тогда им свидетельствует? Конечно же, духи обольщения. Чем больше отходишь от протестантского духа, тем больше осознаёшь всю глупость, наивность, легкомысленность и самонадеянность протестантов, когда они приводят подобный аргумент.
По чему протестанты знают, что их чувство, что они спасены, есть чувство от Духа Святого, а не от дьявола или от самовнушения? Разве они такие знатоки духовного мира, что с лёгкостью могут отличать голос Духа Святого от голоса обольстителя? Но протестанты считают себя такими знатоками, при том, что находятся в ужасной вражде со Христом, Его Церковью и Его волей. Если спросить "свидетелей Иеговы", мармонов, мунитов и прочих сектантов, имеют ли они в себе свидетельство от Бога о том, что они дети Божии, то все, естественно, подтвердят, что имеют. Так что же, им Дух Святой свидетельствует, или всё же дух обольщения? Конечно, не Дух Святой, скажут протестанты, так как Дух Святой не может такого свидетельствовать тем, кто отрицает важнейшие библейские догматы.
Вот так пусть ответят протестанты и самим себе: если они отвергают многие важнейшие догматы Церкви и саму Церковь, то им не может Дух Святой свидетельствовать о том, что они - дети Божии. Тот дух, который им это свидетельствует - врёт и обольщает их, чтобы они спокойно погибали - и не является Духом Святым.
Теперь важно сказать о причине, по которой протестанты изменили последовательность крещения и получения Духа Святого. Напомню, что выше мы привели свидетельства из Евангелия, Деяний и посланий Апостолов, из писаний учителей Церкви и деяний её соборов первых четырёх веков, где единогласно утверждается одна и та же последовательность в спасении человека: сначала крещение, а потом - получение Духа Святого!
Почему же протестанты, пренебрегая всеми этими такими единогласными свидетельствами, так упорно настаивают на обратной последовательности: сначала получение Духа Святого, а только потом - крещение. Для человека непосвящённого может показаться, что этот вопрос маловажный, ради которого не нужно спорить. На самом же деле, изменение этой последовательности принципиально нужно протестантам и стоящим за ним духам, и будь в Св. Писании и в ранней Церкви таких свидетельств во множество раз больше, они всё равно продолжали бы стоять на своём. Почему же так? Почему этот вопрос так важно было исказить протестантизму? Неужели просто ради противления? Нет, это искажение логически очень нужно протестантизму для утверждения всё того же своего главнейшего положения о личном спасении без посредства Церкви. Узнав о Христе, человек может уверовать в Него, лично обратиться к Нему в покаянии и получить от Бога непосредственно Духа Святого, возрождение и спасение - вот главнейшее, во что верят и чему учат протестанты.
Потому, всё учение Церкви о Таинствах протестантами было искажено. Было искажено учение о Крещении, собственно о его спасительности: в протестантизме человек не может в крещении получать прощение грехов, спасение и возрождение (хотя этому учит Библия и вся древняя Церковь), о чём подробно мы говорили в предыдущей главе, ведь в этом случае его спасение зависит от Церкви и её священства. Потому была изменена и последовательность крещения и получения Духа Святого. Ведь если этого не сделать, если Бог дарует Духа Святого (даже если непосредственно) только крестившемуся, то снова выходит, что моё спасение зависит от Церкви, от крестящего священнослужителя. То есть, пока меня не крестит какой-нибудь пресвитер, то Бог и не даст мне Духа Святого, а этого в протестантизме не может быть, ибо сама его суть, ради которой протестантизм и был изобретён дьяволом, есть именно разрыв Христа и Церкви. В этом, повторю, есть, без всякого преувеличения, вся сущность протестантизма. В протестантизме спасение должно быть только индивидуальным делом (Христос и я), и никак не соборным, как желает того Бог (Христос, Церковь и я).
По этой же причине было полностью искажено и умалено значение не только крещения, но и причастия, о чём подробно мы будем говорить в соответствующей главе. Так как хлебопреломление, как и крещение, совершает священнослужитель, то причастие не может в протестантизме спасать и реально соединять со Христом; оно не может быть средством спасения, как в Православии: причастие, как и крещение, стали в протестантизме только символами, вовсе не обязательными для спасения. По той же причине протестантизм отвергает и Таинство Исповеди, ибо если священство имеет власть прощать грехи, то опять получается, что моё спасение хоть как-то зависит от Церкви и Её священства. Всё это с очевидностью показывает, как протестантский дух ради своей идеи индивидуального спасения планомерно и очень последовательно исказил важнейшие учения Христа и древней Церкви, то есть весь Богом задуманный процесс спасения человека в Церкви.
Весьма интересно к нашему разговору будет заметить, что отрицая смысл руковозложения как способа передачи Духа Святого крещённым, многие протестанты, в частности баптисты, после совершения обряда крещения в лице пресвитеров возлагают руки на новокрещённых и молятся о них! Этот обряд, без всякого сомнения, основан на примерах с самарянами и ефесянами из Деяний Апостольских, о которых мы не раз уже упоминали, когда Апостолы возлагали руки на крещенных и молились о них (Деян. 8:14-17; 19:5,6). Но для чего протестанты это делают? "Для благословения" - отвечают они. Но для какого благословения? Ведь через возложение рук с молитвой Апостолы передавали крещённым Духа Святого, а не просто благословение. И если протестанты хотят подражать Апостолам, то тогда им нужно верить в то, что через руковозложение их пасторов тоже подаётся Дух Святой. Но они в это никак не верят, а считают, что Дух Святой был дан крещённым ещё до их крещения; в любом случае, протестанты никоим образом не считают, что через это руковозложение передаётся Дух Святой. Так зачем же, отвергая смысл этого действа, они подражают только его форме, наполняя её совершенно другим содержанием? Вразумительного ответа на этот вопрос у них нет и быть не может, ибо сектантство во многих своих проявлениях бессмысленно и противоречиво, хотя всегда имеет свой смысл, который в данном случае, как и во многих других, заключается в том, чтобы внешне подражая Церкви для обольщения людей, внутренне противиться и искажать её учение.
Напоследок представляется более чем уместным привести свидетельство от противного в пользу истинности миропомазания, на что я хочу обратить особое внимание моего читателя. Во 2 Кор. 1:21,22, которое мы выше приводили, ап. Павел говорит о том, что помазавши и даровавши верным залог Духа Бог "запечатлел нас". "Запечатлел" буквально значит "поставил печать". Второй Вселенский Собор также говорит о том, что "помазуя святым миром во-первых чело, потом очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глоголем: печать дара Духа Святаго".
То есть, в Таинстве Миропомазания Бог запечатлевает своих рабов печатью Духа Своего Святого. Дьявол же и антихрист, в подражание Богу и Церкви, также будет в конце времён всем своим рабам ставить печать на лоб или А причина, по которой для протестантизм догмат о личном (без Церкви) спасении стал главнейшим, кроется в его истории. В главе правую руку: "И он (первый зверь, т.е. антихрист) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их" (Откр. 13:16, 17; ср. 14:6-13; 19:20). "Начертание" и "печать" есть по смыслу понятия весьма схожие, ибо печать всегда есть начертание каких либо слов или символов. Священник запечатлевает крещённого именно посредством начертания креста на известных частях тела.
Дьявольское же начертание в свою очередь также есть печать, ибо это начертание будет запечатлевать принявших его дьявольским духом. И здесь очевидна параллель: как верующему во Христа через видимую физическую печать (миропомазание) нев/strongидимо сообщается Дух Святой, так поверившему антихристу также через видимую и физическую печать невидимо будет сообщаться дьявольский дух.
И важно заметить, что антихрист, не имея необходимости ставить своё мерзкое начертание на всех тех же частях тела человеческого, на которых ставит своё спасительное начертание Церковь, изберёт главнейшие из них - чело и правую руку. Лоб, то есть глава человека, есть важнейшая часть его тела, и само слово "глава" имеет нарицательный, всем понятный смысл. Быть главой какой-либо организации значит быть в ней главным. Итак, глава человека (самая высшая, видная и лицевая часть которой есть лоб) есть главная часть человеческого тела. Правая рука также имеет особое значение в теле человека, так как именно в ней заключается главная его сила.
Кроме того, слово "правый" также имеет в нашем языке (как и во многих других) нарицательное значение, и является синонимом "правильный". Слова "право" и "правый" в таких выражениях, как "право мыслить", "право поступать" или "стать на правый путь" означает "правильно", "правильный". В Библии также правая рука и правая сторона имеет символический смысл. Так, Христос сидит "одесную Бога" (Мр. 16:19), то есть с правой стороны, и Своих святых Господь поставляет на Страшном Суде также именно справа (Мф. 25:34). Поэтому, принимая начертание на свою правую руку человек тем самым покажет, что слова и богоборческий путь антихриста он считает делом правым, правильным.
Таким образом, печать антихриста есть антипод, подражание печати христиан: печати Духа Святого противопоставляется печать зверя. И раз печать антихриста будет физической и буквальной, то и печать христиан, которой он подражает, есть физическая и буквальная. То есть, изучая дела дьявола и сына его антихриста, совершенно ясно, что подражают и противопоставляют они свою печать Богу, Который запечатлевает Своих рабов Своим Духом через физическое поставление печати на их челе и правой руке. Иными словами, дьявол подражает Церкви, у которой есть миропомазание, а не протестантам, у которых нет никакого понятия об этом. А раз не протестантам подражает и противостоит антихрист, то значит они и не Церковь…
Более того, протестанты не только не являются Церковью, которой противостоит дьявол, но и делают с ним одно дело - и вот каким образом: через антихриста дьявол подражает и извращает одну, главную церковную форму подавания Духа Святого - миропомазание, а протест/strongанты, как говорилось выше, подражают и извращают другую форму передачи Духа Святого, которая ранее использовалась в Церкви - руковозложение. Так что - и это ужасно - в духовной брани Христа и Его рабов с дьяволом и его слугами протестанты на стороне последних.
Итак, после изучения вопроса о том, как и когда может человек получить Духа Святого, после достаточного рассмотрения библейских и раннехристианских свидетельств об этом вопросе, мы можем сделать конечные выводы и подвести такой итог. Все священнодействия, совершаемые Богом в Церкви, совершаются священнослужителями, как Христовыми соработниками. Таинство Духа (дарование дара Духа Святого) по Божьему установлению должно также совершаться посредством священнослужителей Церкви. Первые годы Апостолы для передачи Духа Святого использовали форму руковозложения, но вскоре, по причине быстрого роста Церкви, для удобства они заменили, по внушению от Духа, одну форму на другую - руковозложение на миропомазание, имея на это полное право как "домостроители таин Божиих" (1 Кор. 4:1). И свою власть подавать Духа Святого Апостолы передали своим законным приемникам - епископам, которые освящают миро; помазывать же миром, освящённым епископами, могут также пресвитеры, законно и преемственно принявшие своё священство. И о том, что в древней Церкви с самых первых веков Дух Святой подавался сначала через руковозложение, а потом миропомазание, мы имеем множество ясных и достоверных свидетельств.
Протестанты же не имеют ни миропомазания, ни законных, преемственно через рукоположение поставленных священнослужителей, а потому не имеют и strongникак не могут принять новозаветный дар Духа Святого.
Протестантам нужно задаться вопросом, который задавал древний епископ Корнилий, которого мы выше цитировали: если вы не приняли запечатления от епископа, то как вы могли получить Святого Духа? А ведь "кто Духа Христова не имеет, тот и не Его".
Поэтому, узнав учение Библии и ранней Церкви о том, что получить Духа Святого я могу только в Церкви от законных епископов и священников через миропомазание, я не желаю вопреки истине продолжать обманываться и безосновательно считать сладко-убаюкивающие внушения дьявола (о том, что мне Бог и так, без Церкви и её священства, без всякого миропомазания, уже даровал Духа Святого, тем более, ещё до крещения) свидетельством Духа.
И раз протестанты не имеют благодатного миропомазания, через которое человек может получить Духа Святого, то это важнейшая причина, по которой протестантизм не является спасительной Церковью.
[§ 1] Таинство Причастия или Евхаристии является сердцем всего Православия, а евхаристический канон, в ходе которого совершается это Таинство - главной частью Богослужения, ради чего отправляются все остальные службы, которые суть лишь подготовка к ней. Как Пасху православные называют "праздников праздник и торжество из торжеств", так и о Причастии можно сказать, что это есть Таинство Таинств[Евхаристия возвышается над другими таинствами 1) преизбытком таинственности, поскольку при крещении, например, вода не становится Христом, и при миропомазании миро не становится Духом Святым, а Святые Дары Евхаристии претворяются в Тело и Кровь Христовы; 2) преизбытком любви и благодати, ибо здесь Господь предлагает верным вкусить Самого Себя, и наитеснейшим образом соединиться с Ним; 3) тем, что она кроме прочего есть умилостивительная жертва Богу, приносимая за всех - живых и умерших] и Святыня из святынь. По сути, как утверждает Димитрий Чуйков, "Православная Церковь - это Евхаристическая Жертва в окружении прославления Её причащающихся Ею"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 182]. Поэтому, извращение протестантами столь важного учения коренным образом отделяет их от Церкви.
[§ 2] В чём же заключается различие в учении о Евхаристии между православными и протестантами? Православные веруют, что на их литургии "по освящении хлеба и вина хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, преобразуется в самое истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Приснодевы, крестилось во Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных; а вино претворяется и пресуществляется в самую истинную кровь Господа, которая во время страдания Его на кресте излилась за жизнь мира"[Послание восточных патриархов 1723 г.].
Главным же смыслом причащения православные считают полное - духом, душой и телом - причастие (соединение) Христу, когда причастник в полном смысле слова становится Телом Христа (Кол. 1:24), членом "тела Его, от плоти Его и от костей Его" (Еф. 5:30), как пишет о том митр. Владимир: "…приобщаясь Святых Даров, верующие реально входят в таинственное духовно-телесное единение со Христом, вследствие чего и образуют единое Тело (1 Кор. 12:14,20,27), которое есть Церковь Христова…[Блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан), "Слова и речи", том 3, изд. Киев, 1997 г., с. 48].
[§ 3] Протестанты же не признают того, что святые дары Евхаристии претворяются в Тело и Кровь Христовы, и считают хлеб и вино "простыми символами"[По выражению П. Рогозина (глава "Евхаристия"), и это - мнение большинства протестантов] Тела и Крови Христа, которые напоминают причастникам о Христе и возбуждают в них веру. Поэтому, смысл протестантского хлебопреломления - вспомнить и поблагодарить Христа за Его страдания.
Итак, протестанты отвергают главное в учении Церкви о Евхаристии и, более того, считают его полным безумием и даже каннибализмом. С этим и другими вопросами относительно Вечери Господней мы и постараемся в данной главе разобраться.
[§ 4] Для начала нужно сказать о слове "евхаристия" (греч. ![]() ), которым наиболее часто православные обозначают Таинство Причастия. Это слово библейское, и означает: благодарение, благодарность, благодарственная молитва, благой дар. Так называется Таинство Тела и Крови Христовых на основании Евангелия (Мф. 26:27; Мк. 14:23; Лк. 22:19) и 1 Кор. 11:24, где сказано, что "Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил…", а также потому, что Таинство Тела и Крови Христовых есть с одной стороны наибольший и совершенный благой дар Божий Церкви (ведь Христос даёт человеку вкушать Самого Себя!), а с другой - наибольший повод для верных благодарить Бога.
), которым наиболее часто православные обозначают Таинство Причастия. Это слово библейское, и означает: благодарение, благодарность, благодарственная молитва, благой дар. Так называется Таинство Тела и Крови Христовых на основании Евангелия (Мф. 26:27; Мк. 14:23; Лк. 22:19) и 1 Кор. 11:24, где сказано, что "Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил…", а также потому, что Таинство Тела и Крови Христовых есть с одной стороны наибольший и совершенный благой дар Божий Церкви (ведь Христос даёт человеку вкушать Самого Себя!), а с другой - наибольший повод для верных благодарить Бога.
[§ 5] Но в наименовании Таинства Причастия благодарением есть и ещё более тонкий и глубокий смысл, который замечательно объясняет митр. Владимир: "Прославить Бога - значит исполнить, совершить Его волю. ''Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить'', - молится Христос Спаситель Богу Отцу перед страданиями (Ин. 17:4). И в Нагорной проповеди Он говорит: ''Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного'' (Мф. 5:16). То есть, по смыслу Священного Писания, сущность прославления, благодарения и хвалы Богу полагается в духовно-нравственном совершенстве человека, в явлении в нем таких качеств, которые бы и вовне выражались в делах, заслуживающих наименования ''света'' (Лк. 11:33-36; Мф. 6:22-23).
Говоря точнее, прославить Бога - явить в себе богоподобную святость (1 Фес. 4:4; Лев. 11:44), быть совершенными, как Отец Небесный (Мф. 5:48). Однако никакое истинно по-христиански богоугодное дело и, тем более, совершенство духа не мыслится в Новом Завете без самого живого соучастия в нем Христа. ''Я есмь лоза, а вы ветви, - говорит Христос; - кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего'' (Ин. 15:5). Пребывание же во Христе, не просто в нравственном общении с Ним, а в союзе (как ветвь с лозой), Христос поставляет в зависимость от исполнения христианами двух основных условий: вкушения Его Плоти и Крови, а также пребывания в Его любви, то есть верности Его заповедям (Ин. 15:9-10), причём источником последнего мыслится первое. ''Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем; как… я живу Отцем, так и ядущи/pй Меня жить будет Мною'' (Ин. 6:56-57), то есть Моим Духом, Моей любовью и Моей силой. Эта же самая мысль выражена и в текстах наших литургий. Тело и Кровь Христовы здесь - источник оставления грехов, прощения согрешений, общения Духа Святого, наследия Царства Небесного, которое есть ''праведность и мир и радость во Святом Духе'' (Рим. 14:17; Лк. 17:20-21), и залог жизни вечной.
Таким образом, хвалебная жертва христиан в Евхаристии, в своем полном и подлинном значении, есть ни что иное, как само вкушение жертвы Тела и Крови, вернее, те благодатные плоды, которые бывают от вкушения. Вкушение Тела и Крови Христовой поставляется потому в текстах наших литургий целью совершения Евхаристии, так что и само пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь является всего лишь условием к достижению указанной цели. ''Ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит быть закланным и дарованным в пищу верным'', - говорится в одном из литургийных песнопений. ''Верою и любовию приступим, да причастниками жизни вечной будем'', - поётся в другом. Действительно, Богу нужна не столько жертва уст, сколько то, чтобы Сам Христос изобразился в нас (Гал. 4:19), чтобы жизнь Божия обновила наше растленное грехом естество. На этой основе и жертва уст примет достойное содержание"[Блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан), "Слова и речи", том 3, изд. Киев, 1997 г., сс. 192-193].
Итак, истинная благодарение и хвала возможна только в том случае, если Сам Христос в нас будет жить и действовать; вселение же Христа в нас происходит главным образом в Таинстве Причастия. Посему, истинное благодарение и достойное прославление Бога возможно только в теснейшей связи с Причастием. Вот поэтому оно и называется Евхаристией.
[§ 6] Но Евхаристию, что интересно знать, Апостолы и отцы Церкви (Климент, Ипполит, Киприан, Златоуст, Василий Великий, Кирилл Иерусалимский, Феодорит, Августин и др.) называли и многими другими словами: вечерею Господнею (1 Кор. 10,17,21), таинственною и божественною; трапезой Господней (1 Кор. 11:20), Христовой, священной, таинственной; таинством алтаря; хлебом Господним, Божиим, небесным, насущным; чашею страшной; таинством чаши; чашей благословения (1 Кор. 10:16); телом Христовым, Господним, спасительным, святым и кровию Христовой честной; причащением, общением; чашею жизни, спасения; тайнами, тайнами святыми, Божественными, страшными, пренебесными; жертвою святою, таинственною, и т.п[См: "Православно-догматическое богословие", том. II, с. 368-369].
[§ 7] Теперь перейдём к главному - к рассмотрению учения Евангелия о Таинстве Причастия. Пространнее и обстоятельнее всего раскрывается данный вопрос в 6-й главе Евангелия от Иоанна, где Христос говорит с иудеями. Прочтём внимательно эту беседу: "27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. 28. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 29. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 30. На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 31. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. 32. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 33. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. 34. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. 35. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 36. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 37. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38. ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 40. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 41. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. 42. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес? 43. Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. 44. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 45. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. 46. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 48. Я есмь хлеб жизни. 49. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 50. хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 51. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 52. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? 53. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 54. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 55. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 56. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 57. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. 58. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. 59. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. 60. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? 61. Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 62. Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? 63. Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 64. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. 65. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. 66. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним".
[§ 8] Прежде всего заметим, что Христос 1) в начале несколько раз называет Себя хлебом жизни, сшедшим с небес (33, 35, 48, 50, 51 ст.), а потом уточняет, называя хлебом и истинной пищей и питием Свои Плоть и Кровь, призывая всех к их вкушению (51-56 ст.), и это вкушение Он теснейшим образом связывает с 2) пребыванием человека в Нём (56-57 ст.) и 3) его воскресением и вечной жизнью (47, 50, 51, 53, 54, 58 ст.), одним словом - с его спасением.
[§ 9] Теперь главный вопрос: можно ли понимать данную речь Христа так, что Он говорил о Своей Плоти и Крови образно, символически, иносказательно, имея в виду веру в Него (и вкушение символов Его Тела и Крови как выражение этой веры), как считают протестанты? Решительно нельзя, и подтверждением тому служат два весомых аргумента.
[§ 10] 1) Для понимания смысла слов Христа следует неприменно обратить внимание на то, как поняли Христа Его слушатели. Известный протестантский пастор Джош Мак-Дауэлл в своей книге "Неоспоримые свидетельства"[Москва, изд. "Соваминко", 1990 г., с. 80] приводит из Евангелия доказательства Божественности Христа. Одно из мест, которые он разбирает - Ин. 10:30, где Христос говорит: "Я и Отец - одно". Здесь автор задаётся вопросом: как понять эти слова - прямо, что Христос есть Бог, или так, что Христос просто в одном союзе с Отцом, как толкуют эти слова расселисты? Автор настаивает, что понимать эти слова нужно только прямо, ибо в этом убеждает нас реакция слушателей! Как поняли Христа слушающие Его иудеи? Они поняли, что Он называет Себя Богом, потому взяли камни, чтобы побить Его за богохульство (Ин. 10:33). Т.е. слушатели Христа посчитали, что Он делает Себя равным Богу, и Спаситель не сказал, что они Его не так поняли, чем подтвердил то, что слушатели уразумели Его слова верно. И действительно, Мак-Дауэлл здесь мыслит совершенно логично и правильно.
[§ 11] Но теперь давайте применим этот принцип к речи Христа о Своих Плоти и Крови и посмотрим, какая была реакция Его слушателей? Вначале иудеи "стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?", что говорит о том, что они поняли Христа буквально, иначе они не были бы в недоумении. Потом, когда Христос никаким образом не прояснил Свои слова так, чтобы их можно было понять образно - напротив, ещё более конкретно и прямо сказал о вкушении Его Плоти и Крови - иудеи пришли в ещё большее замешательство, говоря: "какие странные слова! кто может это слушать?". То есть, они и дальше продолжали понимать Его буквально. И Христос опять не опроверг их вывода. И в итоге всё закончилось очень драматично: "С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним". И вновь Христос не стал их останавливать и никаким образом не дал понять, что Его слова - образны. То есть, Христа оставили Его ученики именно тогда, когда Он выразил учение о Евхаристии (!), которое в учении Церкви действительно самое таинственное и соблазнительное для людей неверующих и плотских.
Протестантам следует задуматься: если Христос здесь говорил образно, то как мог произойти такой соблазн и такой отход от Христа? Ведь Спаситель часто говорил о Себе приточно, что Он, например, есть виноградная лоза (Ин. 15:1), дверь (Ин. 10:7), путь (Мф. 7:13) и под., но никто из Его слушателей и учеников не смущался этими словами, не говорил "кто может это слушать?" и не отходил от Него из-за этого, потому что все понимали, в каком смысле Он это говорит. А когда Его образную речь не понимали, то Христос имел обыкновение объясняться. Так, когда Никодим понял образные слова Христа о рождении свыше буквально, что нужно войти в утробу матери и вновь родиться, то Христос объяснил, что Он имеет в виду не обычное рождение, а рождение от воды и Духа (Ин. 3:3-5). Когда же Иисус образно назвал иудеев рабами, а они поняли его буквально, то Он также объяснил, что Он имел в виду не обычное порабощение, а рабство греха (Ин. 8:32-34). Или, когда Христос сказал ученикам о пище иносказательно, а Его поняли прямо, то Он тут отвёл их от заблуждения: "Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его" (Ин. 4:31-34). Также, когда Спаситель образно сказал о закваске фарисейской, а ученики поняли Его слова буквально, то и здесь Он пояснил, что говорит не хлебе, а об учении фарисеев (Мф. 16:6-12). Подобным образом Господь поступил и в другом случае: "Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер" (Ин. 11:11-14). Здесь же (Ин. 6 гл.), несмотря на то, что Его всё больше и больше не понимают и всё больше соблазняются Его словами, Христос этого не делает. Напротив, всеми Своими словами Он лишь подтверждал то, что Он говорит буквально, а не образно.
[§ 12] Во-первых, после первого недоумения иудеев Он им отвечает: "истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни". Итак, вместо объяснения того, что Он говорит образно, Господь с ещё большей ясностью и прямотою настаивает на Своих словах, прибегнув к выражению "истинно, истинно говорю вам", которое Он употреблял только в случаях произнесения наиважнейших догматов веры.
Во-вторых, после второго недоумения, происшедшего уже в среде Его учеников, "Господь - пишет митр. Макарий - чтобы убедить их в возможности такого чудесного вкушения, указал на другое чудо, на Своё будущее вознесение, на которое Он указывал только в редких случаях, как на самое сильное доказательство своей божественной власти в деле учения и истинности своей проповеди (Ин. 1:50,51; Мф. 26:13,64). "Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?""["Православно-догматическое богословие", том. II, с. 387].
В-третьих, словами "Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие" Христос показывает с одной стороны полную тождественность между одним и другим (то есть, что Его Плоть и Кровь истинно, на самом деле есть пища и питие), а с другой - Он подтверждает, что иудеи действительно поняли Его правильно, что Он говорит о вкушении Своей Плоти и Крови прямо, а не образно. Для объяснения Христос сказал лишь, что слова Его духовны, и могут быть поняты только верой и не плотски, и только теми, кому дано будет от Отца. И Церковь так и понимает учение Христа - буквально-духовно (это понимание и выражено в Её учении о Таинстве Евхаристии), а не буквально-плотски, как иудеи, которые полагали, что Христос призывает их на самом деле кусать и пожирать Его Тело, стоящее перед ними.
[§ 13] Протестанты же настаивают на том, что "как духовно надо понимать слова Христа, сказанные в беседе с самарянкой: "Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную" (Иоан. 4,14), точно так же, иносказательно, надо понимать слова о принятии плоти и крови Христа"[Е. Пушков, "Не смущайся", глава "О причастии"]. Но в том всё и дело, что внимательное изучение слов Христа в их непосредственном контексте никак не позволяют понять Его слова "иносказательно". Ибо когда Христос говорил образно, то никто никогда так не смущался Его слов, и не оставлял следование за Ним.
[§ 14] Можно и с другой стороны взглянуть на этот вопрос, и подумать, чьё - православное или протестантское - учение о Причастии соблазняет не верующих и не духовных людей? Протестантское учение о сём предмете никогда и никого не может соблазнить, ибо что соблазнительного или не понятного в учении о том, что хлеб и вино есть символы Тела и Крови Христа? Ничего, здесь всё просто и всякому понятно. Православное же учение о Евхаристии воистину соблазн для неверующих, на что и жалуется Е. Пушков: "Учение о пресуществлении - великий соблазн для приверженцев других религий"["Не смущайся", глава "О причастии"]. Но Е. Пушков, как и все протестанты, не понимает того, что этот факт говорит не против, а только за Православие, ибо как учение Христа о вкушении Своей Плоти и Крови соблазняло неверующих и плотских людей, так и учение Церкви, если оно тождественно учению Христа, неприменно также должно их соблазнять[Нужно понимать, что соблазны есть отрицательные, полагаемые дьяволом и людьми грешными, которые служат для немощных в вере препятствием для спасения, а есть положительные, установленные Самим Богом для отделения людей верующих от неверующих, плотских от духовных. Так, главнейший Божественный соблазн это Христос, распятый на кресте: "мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1:23). (Соблазн здесь в том, что человек, распятый позорной смертью, не смогший спасти Самого Себя, есть Спаситель мира). И соблазн этот, естественно, положен Богом, как написано: "вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна" (Рим. 9:33). Также и учение Церкви о Троице - великий соблазн для многих, например, для мусульман и расселистов. Но разве не понятно Е. Пушкову и всем протестантам, что Церковь никоим образом не должна ради прекращения этих соблазнов перестать проповедовать о Христе распятом или о Троице? Вот так и о Таинстве Причастия Она не должна прекращать проповедовать из-за того, что эта проповедь соблазняет плотских людей]! И тот факт, что протестантское учение о Причастии никого из "приверженцев других религий" (то есть людей не верующих, не Христового стада) не соблазняет, говорит не в пользу протестантизма, а является важнейшим доказательством не истинности и не тождественности их учения учению Христа! И против этого протестантам нечего сказать...
И кроме того, что их учение не тождественно учению Христа, протестанты сами принадлежат к той группе учеников Христа, которые соблазнились и отошли от Него! Когда я, приняв Православие, исповедал перед двумя баптистскими пасторами свою веру в пресуществление - каждый высказал свою реакцию. Один сказал, что я закончу в сумасшедшем доме, а другой сказал, что это "каннибализм какой-то". Как это страшно! Ведь сказать: "какие странные слова! кто может это слушать?" и: "это безумие и каннибализм" - по сути, одно и тоже, причём реакция баптистов выражена даже в более кощунственной форме, чем реакция иудеев!
[§ 15] Повторю важнейшую мысль: совершенно ясно должно быть, что как учение Христа о Причастии соблазнило многих, плотских и неверующих, так и учение Церкви о сём предмете должно их соблазнять. Соблазняет же неверующих, по признанию самих протестантов, православное, а не их собственное учение о Причастии, что ясно показывает, что протестантизм провозглашает учение не тождественное Христовому!
[§ 16] Итак, 1) реакция слушателей и учеников Господа, а также 2) поведение и слова Самого Христа ясно показывают, что Он говорил прямо, а не образно!
[§ 17] 2) Вся Церковь со времён Апостолов всегда понимала эти слова Христа только прямо, и никак не образно (подтверждение тому см. ниже, § 30-62).
[§ 18] Теперь проанализируем повествование Евангелия уже не об обещании Христа дать верным вкушать Плоть Свою, а о том, как Он его исполнил: "И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов" (Мф. 26:26-28). Об этом повествуется и в других Евангелиях (Мк. 14:22-24; Лук. 22:19-20). Здесь также необходимо сделать несколько важных замечаний.
[§ 19] 1) Христос на Тайной Вечере, как и в Ин. 6 гл., говорит прямо: "сие есть Тело Мое… сие есть Кровь Моя", а не "сие есть символ (знак, подобие, прообраз) Моего Тела и Крови". Поэтому, так и нужно понимать, прямо и буквально, что как Господь взял хлеб и вино, но после молитвы Он назвал их уже не хлебом и вином, а Своими Телом и Кровью, так и сегодня хлеб и вино, после молитвы священника, есть уже не хлеб и вино, а Тело и Кровь Христа. Посему, право судит Церковь, когда учит, что посредством молитвы священника хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы.
[§ 20] 2) "Допустить с вольнодумцами - пишет митр. Макарий - что Господь, говоря ученикам своим: сие есть Тело Мое.., и сие есть Кровь Моя.., хотел собственно выразить мысль: "это есть символ или знак Моего Тела, и это есть символ Моей Крови", не значит ли допустить вместе, что Он неточностью Своего выражения ввёл в заблуждение и Апостолов, и через них всю Церковь, которая… всегда принимала означенные слова в смысле прямом, буквальном, и потому всегда видела в Евхаристии истинное Тело и истинные Кровь Своего Господа, а отнюдь не символы Его Тела и Крови?"["Православно-догматическое богословие", том. II, с. 388-389].
Ведь если протестанты правы, и Христос говорил образно, то получается, что слова Христа поняли неправильно не только иудеи и многие из Его учеников, но и вся Церковь во все века от самого начала (в чём ниже можно будет убедиться), как восточная, так и западная, понимала слова Христа не верно, пока в XVI веке не появились "великие пророки" Лютер, Кальвин и прочие реформаторы, и не объя [§ 2] В чём же заключается различие в учении о Евхаристии между православными и протестантами? Православные веруют, что на их литургии снили истинного значения слов Христа. Зачемкто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего же Христос допустил такое ужасное недоразумение, тем более, если Он хотел донести совершенно простую (с точки зрения протестантов) мысль - о необходимости веровать в Него и символически преломлять хлеб в воспоминание Его ломимого Тела?!
[§ 21] Для лучшего понимания силы данного аргумента приведу хорошо понятный протестантам пример. Расселисты, как известно, отвергают ад и вечные муки нечестивых. Баптисты и другие протестанты (равно как и православные и католики, признающие существование ада) в полемике с ними приводят места Писания, где прямо говорится о вечных муках грешников. Например: "кто поклоняется зверю и образу его… тот будет пить вино ярости Божией… и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю…"; "а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков" (Откр. 14:9-11; 20:10). Или Лк. 16:19-31, где Христос рассказал историю о богаче и Лазаре, из которой явствует, что душа после смерти продолжает жить, и души нечестивые испытывают мучения, о чём свидетельствуют выражения: "Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках"; "я мучаюсь в пламени сем"; "чтобы и они не пришли в это место мучения", и др. Расселисты на это отвечают: "этими словами образно выражается идея о смерти грешников".
Но тогда возникает два важных вопроса: 1) почему Св. Писание, если Бог желал сказать о том, что души нечестивых обратятся в полное небытие, говорит вместо этого о их вечном мучении? Ведь по мнению расселистов получается, что из-за этих слов подавляющее число христиан всех исповеданий ошибались и ошибаются. Зачем бы Господь соблазнял людей такими "образами", если бы хотел донести простую мысль о полном и безвозвратном уничтожении душ грешников? 2) Если Библия в таких образных выражениях говорит о небытии, то почему никто из расселистов никогда не говорит о своей вере в таких образах, и никогда не расскажет никакую историю в такой манере с использованием подобных соблазнительных выражений, которые использовал Христос в рассказе о Лазаре?
[§ 22] Вот эти логически верные вопросы, котоправо мыслитьрые задают "свидетелям" протестанты, пусть теперь они зададут самим себе по отношению к учению Христа о Своём Теле и Крови. Если Христос хотел сказать о вере в Него, и о вкушении хлеба и вина как символов Его Тела и Крови, то для чего Он сказал об этом так соблазнительно и непонятно? Ведь получается, повторю, что Его слова не правильно поняли не только Его слушатели и многие ученики, но и подавляющее большинство христиан многие века понимали и понимают Его неверно. Зачем Христос так соблазнил людей? Почему о таком важном деле, как Таинство Евхаристии, Он сказал так неточно? 2) Если Христос, имея в виду символическое учение протестантов о хлебопреломлении, объяснился в таких выражениях, то почему протестанты никогда не объясняются подобными словами? Почему они никогда не говорят вслед за Христом: "кто не будет есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, тот не будете иметь в себе жизни"; или: "вкушающий Тело и пиющий Кровь Христову имеет жизнь вечную", и т.п.? Потому, что подобные выражения (как слова Библии о вечных мучениях для расселистов) совершенно не соответствуют протестантской догматике, и произносят их протестанты только тогда, когда цитируют по какому ни будь поводу Ин. 6 гл. Православные же часто и с радостью говорят и пишут о Причастии в подобных словах, ибо их учение о Причастии тождественно учению Христа. Протестанты же как бы не замечают Ин. 6 гл. Я ясно помню, как я удивился, прочтя эту главу уже православными глазами. Мне показалось, что раньше я её вообще не читал (притом, что фактически я читал её много раз) - так вот диавол закрывает глаза протестантам, чтобы им не видеть того, что ему не желательно.
[§ 23] 3) Господь перед Своими страданиями, на Тайной Вечере, по свидетельству Евангелия, сказал, что будет говорить теперь с учениками прямо, а не притчами (Ин. 16:25), что Он и исполнил: "Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой" (Ин. 16:29). И действительно, человеку свойственно открывать свою душу друзьям особенно перед смертью. Поэтому, слова Христа "сие есть Тело мое… сие есть Кровь Моя", сказанные Им после обещания не говорить более с учениками притчами и незадолго перед Своей смертью, нужно понимать буквально, а не "иносказательно", как предлагает Е. Пушков и все протестанты. К тому же, сама важность Таинства Евхаристии, - посредством которого Христос заключил с человеком Новый Завет (!), и которое Он заповедал совершать во все времена до Его Пришествия (Лк. 22:19-20), - требовала самых ясных и буквальных (а не иносказательных, гадательных и двусмысленных слов), какие и используются всегда при заключении важных договоров и соглашений.
[§ 24] 4) Слова Христа "сие есть Кровь Моя Нового Завета" безусловно имеют прямую связь со словами Моисея при заключении Ветхого Завета: "это кровь завета, который заповедал вам Бог" (Евр. 9:20; ср. Исх. 24:8). Моисей же при этом кропил народ настоящей кровью тельцов (Исх. 24:5-6), а не вином, символизирующим эту кровь. Кровь же тельцов прообразовала ничто иное, как Кровь истинного Агнца Божия Иисуса Христа. Поэтому, и Христос, заключая Новый Завет, использовал не символ, а истинную Свою Кровь. И не только кровь ветхозаветных жертв прообразовала Кровь Христа - весь жертвенный телец или агнец был прообразом жертвы Христа. Поэтому, как в Ветхом Завете иудеи вкушали настоящую жертву, а не её символ, так и в Новом Завете Церковь тем более вкушает не символ, а истинные Тело и Кровь Агнца Божия, как пишет о том Димитрий Чуйков:
"Подобно тому, как в Ветхозаветной Церкви Её религиозная жизнь сосредоточивалась на Богослужении Иерусалимского Храма, а вся суть сего Богослужения заключалась в прославлении Единого Господа Иеговы, сотворившего небо и землю, и в принесении Ему бесчисленных умилостивительных жертв, являющихся только символами единой умилостивительной Жертвы Христа, однако же при этом, - обратите особое внимание - и жертвователи и совершители жертвоприношений вкушали не от символа жертвы, а от самой жертвы, - тем более в Церкви Новозаветной, после того, как уже Христос принёс Себя в Жертву умилостивления, и символические жертвы были заменены действительной, - безумно было бы от действительной Жертвы причащаться символически, когда даже от символических жертв причащались действительно"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", сс. 182-183].
Это - важнейшая параллель в богословском отношении, и важнейшее свидетельство того, что христиане должны вкушать не символ, а истинные Тело и Кровь Христовы.
[§ 25] Теперь остаётся приве/supсти ещё два места из послания к Коринфянам, где ап. Павел говорит о Причастии: "Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба... язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской" (1 Кор. 10:16-21). Здесь ап. Павел прямо говорит, что в Евхаристии христиане приобщаются не символа, а самого Тела и Крови Христовых. Слово "приобщение" (греч. ![]() - койнониа) значит также: (со)участие, (со)причастность, общение, связь.
- койнониа) значит также: (со)участие, (со)причастность, общение, связь.
Итак, Апостол учит, что вкушая от Хлеба и пия от Чаши христиане приобщаются, причащаются, становятся частью, сообщаются, соединяются ни с чем иным, как с Самими Телом и Кровью Христовыми, что было бы не возможным, если Святые Дары были бы лишь символами Тела и Крови Христа. Протестанты попросту не задумываются над значением слова "приобщение". Ведь как можно причаститься (приобщиться, соединиться) воды посредством вкушения её символа, например, изображения воды, или посредством простого воспоминания о воде? Чтобы приобщиться воды, нужно испить эту воду, иначе просто нельзя сказать, что человек приобщился воды. Поэтому, никак нельзя через вкушение хлеба и вина приобщаться (соединяться, причащаться) Телу и Крови Христа! Для приобщения Тела Христа нужно вкусить само это Тело, а не его символ.
[§ 26] Протестанты на это скажут: ведь здесь Павел пишет, что мы "все причащаемся от одного хлеба", а не от Тела Христа. Верно, христиане причащаются от одного хлеба, но в Ин. 6 гл. Христос ясно сказал, что Он Сам, Его Плоть и Кровь есть хлеб жизни, что "хлеб Божий есть тот, который сходит с небес". Вот от этого хлеба Божия мы и причащаемся. Ведь ап. Павел объясняет: "один хлеб, и мы многие одно тело"[В этом выражении, безусловно, есть и тот образный смысловой оттенок, что как хлеб состоит из многих зёрен, как и Тело Христа, Церковь, состоит из многих членов. Но это никоим образом не даёт оснований думать, что ап. Павел считал хлеб Евхаристии обычным хлебом]. О каком же одном хлебе и одном теле он говорит? Разве христиане действительно причащаются от одного земного хлеба, и разве они составляют одно земное тело? Нет, для Евхаристии используются многие хлеба, и христиане имеют каждый своё, а не одно на всех тело, но при этом, они причащаются действительно одного Хлеба, Который есть Христос, и составляют во Христе (кстати, прежде всего, именно благодаря Таинству Причастия) одно Тело. Потому древние христиане и называли Евхаристию, как выше мы видели, хлебом Господним, хлебом Божиим, хлебом небесным, хлебом насущным, имея в виду под хлебом самого Христа.
[§ 27] Второе место звучит так: "Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем" (1 Кор. 11:23-29).
Здесь обратим внимание на то, что ап. Павел очередной раз подтверждает, что Христос взял хлеб, но после его благословения назвал его уже Своим Телом. А то, что ап. Павел называет Святые Дары Евхаристии хлебом, что протестанты толкуют, естественно, в том смысле, что эти дары на сам, если бы хотел донести простую мысль о полном и безвозвратном уничтожении душ грешников? 2) Если Библия в таких образных выражениях говорит о небытии, то почему никто из расселистов никогда не говорит о своей вере в таких образах, и никогда не расскажет никакую историю в такой манере с использованием подобных соблазнительных выражений, которые использовал Христос в рассказе о Лазаре?ом деле есть просто хлеб, а никакое не Тело Христа, то выше было уже объяснено, в каком смысле ап. Павел называет Причастие хлебом. Он имеет в виду Тело Христово, а не обычный хлеб, иначе он не мог бы назвать его "единым хлебом". Потому он и в данном отрывке (1 Кор. 11:23-29) говорит сначала об обычном хлебе (одном из многих), который взял Христос, а потом говорит уже о "хлебе сем", о едином хлебе, хлебе жизни, который есть Тело Христа.
И очень важно заметить, что Апостол, три раза сказав о вкушении от "хлеба сего" (ибо он имел возможность назвать Тело Христово хлебом, поскольку Сам Христос назвал Себя так), ни разу не сказал о питии вина, а только о питии "из чаши сей". Если бы ап. Павел думал, что христиане в Причастии пьют вино, а не Кровь Христа, то он мог бы прямо сказать: "когда вы едите хлеб сей и пьете вино сие". Но Апостол не употребил такого выражения в том числе и потому, что не считал содержимое чаши вином, а назвать Кровь Христа вином, как Плоть - хлебом, он не мог, поскольку хлебом Христос назвал Себя, а вином нет. Одним словом, факт именования ап. Павлом Причастия "хлебом сим" не даёт протестантам никакого основания думать, что ап. Павел считал, что Святые Дары Причастия и после молитвы остаются хлебом и вином, а не становятся Телом Христовым.
[§ 28] Более того, в данном тексте есть ясное указание на то, что хлеб Евхаристии есть истинное Тело Христа. Апостол говорит: "Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем". Протестанты, как правило, понимают это место так, что во время хлебопреломления (той части служения, когда пастор читает соответствующие места Писания и говорит об этом проповедь, что является у протестантов подобием православного евхаристического канона) нужно рассуждать (размышлять, вспоминать) о Теле Господнем, то есть Его страданиях. Это верно, но греческое слово ![]() (диакрино), которое здесь использовано, значит не только "размышлять", но и: видеть различие (разницу), отличать, судить, рассуждать, оценивать, разбираться, выносить решение.
(диакрино), которое здесь использовано, значит не только "размышлять", но и: видеть различие (разницу), отличать, судить, рассуждать, оценивать, разбираться, выносить решение.
Итак, рассуждать о Теле Господнем это не просто размышлять о нём, вспоминать, представлять его, а отличать его, или же судить, как судит судья: он рассуждает о деле подсудимого в том смысле, что оценивает, хороши его дела или плохи, и насколько. Вот так и христианин должен рассуждать о Теле Христовом, оценивать его величайшую ценность и святость и отличать его от обычного хлеба! Таким образом, мысль ап. Павла такова: кто есть от хлеба сего и пьет из чаши сей не рассуждая о Теле Господнем (т.е., не только не размышляя, но и не различая, что ест и пьёт не простой хлеб и вино, а Тело и Кровь Христовы), тот ест и пьёт осуждение себе. Потому ап. Павел и говорит, что таковой будет виновен именно "против Тела и Крови Господней", как поправший такую великую святыню. Вот в таком смысле и нужно рассуждать (размышлять, судить, оценивать, отличать, видеть разницу) о Теле Господнем.
[§ 29] Итак, рассмотрение учения Нового Завета о Евхаристии говорит нам в пользу реального, а не символического Причастия. Так же, и никак иначе, понимала этот вопрос вся Церковь с самого начала, чему мы находим множество свидетельств. Познакомимся с некоторыми из них.
[§ 30] В древнейшей литургии св. апостола Иакова содержится молитва: "Посему (т.е. по заповеди Христовой: сие творите в Мое воспоминание) и мы грешные, поминая Его животворящие страдания, спасительный крест…, приносим Тебе, Владыко, сию страшную и бескровную жертву, молясь… Помилуй нас, Боже, по великой Твоей милости, и ниспошли на нас и на предлежащие дары сии Святаго Твоего Духа, Господа животворящего, сопрестольного Тебе Богу Отцу и единородному Твоему Сыну, соцарствующего, единосущного, совечного…, - сего всесвятаго Твоего Духа, Владыко, ниспошли на нас и предлежащие дары сии, дабы, пришед, святым, и благим, и славным Своим наитием, освятил хлеб сей и сотворил святым телом Христа Твоего, и чашу сию - честною кровию Христа Твоего"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том. II, с. 381].
[§ 31] В "Постановлениях Апостольских" также записан чин (последовательность) молитв при Богослужении (литургии). В известный момент "первосвященнику" (епископу) предписано молиться следующим образом: "…Вспоминая так страдания Его и смерть и из мертвых востание и на небеса возшествие и будущее Его второе пришествие, в которое грядет со славою и силою судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его, приносим Тебе, Царю и Богу, по Его чиноположению, хлеб сей и чашу сию, благодаря Тебя Им за то, что Ты сподобил нас стоять пред Тобою и священствовать Тебе. И молимся Тебе, Вседовольный Бог, воззри милостиво на предлежащие пред Тобою дары сии, благоволи о них в честь Христа Твоего, и ниспошли на жертву сию Святаго Духа Твоего, свидетеля страданий Господа Иисуса, да сотворит хлеб сей телом Христа Твоего, и чашу сию - кровью Христа Твоего, дабы причащающиеся этого утвердились в благочестии, получили оставление грехов, избавились от диавола и лести его, исполнились Духа Святого, достойны были Христа Твоего, получили жизнь вечную, по примирении их с Тобою, Владыка Вседержитель"[Книга 8, п. 12].
[§ 32] Подобные молитвы находятся не только в литургиях Апостольских Постановлений и ап. Иакова, но и во всех древних литургиях, на что обращает внимание митр. Макарий: "Во всех древних литургиях, начиная с литургии св. апостола Иакова, и употребляющихся не только в Церкви православной, но и в обществах не православных, как то: у несториан, евтихиан, армян, сирийцев-яковитов и в Церкви римской, находится молитва к Богу Отцу пред освящением св. даров, чтобы Он преложил, применил, претворил Духом Святым хлеб в честное тело И. Христа, а вино в честную кровь Его. Такое полное согласие всех древних литургий и в столько важном предмете учения о таинстве Евхаристии неоспоримо свидетельствует, что таково именно было предание Апостольское о сем предмете, и так всегда веровала о сем св. кафолическая Церковь"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 397].
[§ 33] Св. Игнатий Богоносец († 107 г.) в послании к Смирнской Церкви (гл. 7) писал: "Они (еретики докеты) удаляются от евхаристии и молитвы, потому что не исповедуют с нами, что евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, та плоть, которая страдала за нас и которую Отец воскресил по Своей благости".
[§ 34] Послание к Римлянам (гл. 7): "Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа Сына Божия, родившегося в последнее время от семени Давидова и Авраама". Итак, в понимании св. Игнатия св. Причастие есть хлеб жизни, хлеб небесный, хлеб Божий, плоть Иисуса Христа! Это чуждо для протестантов, как чужда им вообще вся вера древней апостольской Церкви! Т.е., вера св. Игнатия и Иоанна Богослова, который и наставил его в этой вере, чужда протестантам: как же они при этом утверждают, что они проповедуют истину и вернулись к вере древних христиан?
[§ 35] Так же и в послании к Ефесянам (гл. 20) он призывает верных повиноваться "епископу и пресвитерству в совершенном единомыслии, преломляя один хлеб, это врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее жизнь во Иисусе Христе".
Заметим: никто из протестантов не думает, что причастие есть врачевство бессмертия, дарующее жизнь во Христе, что вполне логично, ибо как символ может спасать от смерти и даровать жизнь вечную? Но если понимать причастие по православному, как и понимал его св. Игнатий, то всё очень понятно: вкушение святого и бессмертного Тела и Крови Христовых (единого хлеба, который есть Христос) действительно спасает дарует человеку жизнь вечную, ибо его спасение - в соединении (причастии) со Христом, что и происходит в Таинстве Приобщения.
[§ 36] К Филадельфийцам (гл. 4) св. мученик писал также: "Итак, старайтесь иметь только одну евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитером и дьяконами, со служителями моими, дабы все, что делаете, делали вы о Боге".
Опять же, св. Игнатий говорит, что чаша есть единение Крови Его: то есть, причащаясь из чаши верные соединяются (причащаются) самой Крови Христа, а не её символа.
[§ 37] Св. Иустин Мученик (104-166 гг.), называемый ещё Философом по своему образованию и потому, что, обретя истинную веру, стал путешествовать в философской мантии с проповедью христианства, показывая его превосходство над языческой религией и философией. Так вот, в 1-й свой Апологии (п. 66) он пишет о Причастии:
"Пища эта у нас называется Евхаристиею (благодарением), и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не как простой хлеб, и не как простое питие: но как Христос, Спаситель наш, Словом Божьим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть - как мы научены - плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано: Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: "сие творите в Мое воспоминание, это есть тело Мое"; подобным образом Он взял чашу и благодарил и сказал: "это есть кровь Моя", и подал им одним".
Очень важно здесь знать, что св. Иустин в данной своей Апологии имел цель защитить христиан от клеветы в том, что они едят человеческое мясо. И если бы первые христиане веровали по протестантски, что хлеб и вино есть только символы Тела и Крови Христовых, то св. Иустин непременно бы сказал об этом, и более того, с[Е. Пушков, делал бы на этом факте акцент, отводя с христиан всякое подозрение. Но он ничего не говорит о символе, а совершенно ясно и не двусмысленно подтверждает, что хлеб и вино после церковной молитвы действительно становятся не обыкновенной пищей, а телом и кровью самого воплотившегося Иисуса!
Таким образом, св. Иустин не отрекается от того, что христиане действительно вкушают Тело и Кровь Христа, но показывает, что это не имеет никакого отношения к невежественным обвинениям их в каннибализме - в убийстве людей и кровавом пожирании их плоти. Важно также, что св. Иустин высказывает императору не личное своё понимание этого вопроса, а веру всей древней Церкви, говоря, что так веровать они были научены, разумеется, Апостолами. Какие же есть причины не верить словам ревностного проповедника, исповедника и мученика Христова, жившего так близко к Апостолам?
[§ 38] Св. Ириней Лионский († 202 г.) в своей апологетической книге "Против ересей" опровергал учение еретиков, отрицавших воскресение плоти. И главным его аргументом было то общепринятое, хорошо известное и не оспариваемое, в том числе и этими еретиками, учение Церкви о Евхаристии - именно о том, что христиане причащаются истинного Тела и Крови Христовых. Вот как он рассуждал:
"Каким же образом они (еретики) могут говорить, что тот хлеб, над которым совершено благодарение, есть тело их Господа и чаша есть кровь Его, когда утверждают, что Он Сам не есть Сын Творца мира..? Еще, каким образом они говорят, что плоть подвергается истлению и не участвует в жизни, - плоть, которая питается от тела и крови Господа? Пусть они или переменят мнение свое или перестанут приносит названные (вещи). Наше же учение согласно с Евхаристиею, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение (о воскресении плоти). Ибо мы приносим Ему то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа. Ибо как хлеб от земли, после призывания над ним Бога, не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей из земного и небесного; так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду воскресения"[Книга 4, гл. 18, п. 4-5].
[§ 39] В другой книге св. Ириней развивает ту же мысль: "Безрассудны вовсе те, которые презирают устроение Божие и отрицают спасение плоти, и отвергают ее возрождение (т.е. воскресение), говоря, что она не участвует в нетлении. Но если не спасется она, то значит и Господь не искупил нас Своею кровью, и чаша Евхаристии не есть общение крови Его, и хлеб, нами преломляемый, не есть общение тела Его. Ибо кровь может исходить только из жил и плоти и прочего, что составляет сущность человека, которою истинно сделалось Слово Божие и искупило нас Своею кровью, как Апостол Его говорит: "в Нем мы имеет искупление кровью Его и прощение грехов" (Кол. 1:14)... (чашу) Он назвал Своею кровью, от которой Он орошает нашу кровь, и хлеб от творения исповедал Своим телом, которым укрепляет наши тела. Когда же чаша растворенная и приготовленный хлеб принимают Слово Божие и делаются Евхаристиею тела и крови Христа, от которых укрепляется и поддерживается существо нашей плоти; то как они (еретики) говорят, что плоть не причастна дара Божия, т.е. жизни вечной, - плоть, которая питается телом и кровью Господа и есть член Его? И св. Павел в послании к Ефесянам говорит: "потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его" (Еф. 5:30), - говоря ото не о каком-либо духовном и невидимом человеке, - ибо "дух ни костей, ни плоти не имеет" (Лк. 24:39), - но об устроении истинного человека, состоящем из плоти, нерв и костей, и эта плоть питается от чаши Его, которая есть кровь Его, и растет от хлеба, который есть тело Его… (хлеб и вино) принимая слово Божие становится Евхаристиею, которое есть тело и кровь Христова; так и питаемые от нее тела наши, погребенные в земле и разложившиеся в ней, в свое время восстанут…"[Против ересей, книга 5, гл. 2, п. 2-3].
[§ 40] Итак, св. Ириней со всей ясностью и недвусмысленностью выявляет веру древней Церкви в то, что вкушая дары Евхаристии верные причащаются Самого истинного Тела и Крови Христовых, а не их символа! И суть его аргумента против еретиков, не веровавших в воскресение плоти, такова: наши тела неприменно воскреснут, поскольку в Евхаристии мы питаемся бессмертным Телом и Кровью Христовыми, которые и являются залогом нашего воскресения! Подобным образом всегда мыслила вся Церковь, например, св. Игнатий (см. § 35).
[§ 41] Св. Ипполит Римский (170-235 гг.), имея в виду замечательное пророчество о Евхаристии (Притч. 9:1-6), которое было приведено и растолковано во введении ко II части настоящей книги, пишет: "Премудрость (Христос) приготовила честное и непорочное Тело Свое и Кровь, которые на таинственной и Божественной трапезе ежедневно приносятся в жертву"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 108].
[§ 42] А также: "Пусть каждый стремится к тому, чтобы язычник не вкушал от Евхаристии, также ни мышь, ни другое животное, и чтобы ничто не упало и не погибло от нее. Ибо это - Тело Христово для вкушения верующим, и оно не должно быть пренебрегаемо. Благословляя чашу во имя Божие, ты принял ее как вместообразное Крови Христа. Поэтому не проливайте, чтобы вследствие твоего пренебрежения не слизнул бы это чуждый дух. Ты будешь судим за Кровь, как тот, кто презрел то, что искуплено"[Апостольское предание, гл. 37-38].
Св. Ипполит, без сомнения, признавал Причастие истинным Телом и Кровью Христовыми. Здесь нужно прокомментировать слово "вместообразное". Оно до сих пор употребляется в Православии, когда говорится 1) о хлебе и вине до их освящения на литургии; 2) о том, что Тело и Кровь Христовы христиане принимают под видом (т.е. под внешним видом) хлеба и вина. То есть, Господь преподаёт нам Свои истинные Тело и Кровь, но под видом хлеба и вина, ради человеческой немощи, которая, во-первых, не может вкушать плоть и кровь в их обычном виде, а во-вторых, не может вынести славы и сияния прославленной Плоти Христа. Поэтому христиане вкушают Тело и Кровь Христа под видом хлеба и вина. Это не должно нас удивлять, поскольку для Бога нет ничего невозможного, и для Него не трудно претворить хлеб и вино в Тело и Кровь Христа, в тоже самое время оставив их (для чувств человека) в виде хлеба и вина.
Св. Иоанн Златоуст писал: "Или ты не знаешь, что души человеческие никогда не могли бы перенести огня этой жертвы, но все совершенно погибли бы, если бы не было великой помощи Божественной благодати"[Шесть слов о священстве]. Т.е., если бы эта жертва, Тело и Кровь Христа, даровалась бы христианам в их истинном, славном небесном виде, то никто бы этого не вынес, и помощь Бога заключается как раз в том, что Тело и Кровь Христовы скрыты для верных п († 107 г.) в послании к Смирнской Церкви (гл. 7) писал: од видом хлеба и вина.
[§ 43] Макарий Магнис, иерусалимский пресвитер, († 266 г.): "(В Евхаристии) не образ тела и не образ крови, как некоторые ослепленные возглашали, но воистину тело и кровь Христова"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 391].
[§ 44] Ориген (II-III в.) последовательный аллегорист в толковании Писания, тем не менее, Причастие понимает не символически-алегорически-иносказательно, как протестанты, а буквально: "...мы с благодарением за полученные блага и с молитвою вкушаем принесенные хлебы, соделавшиеся чрез молитву Телом Святым…"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том. II, с. 382].
[§ 45] На Первом Вселенском Никейском Соборе (325 г.) Церковь, обличив Ария и его ересь, исповедала также Свою Веру в отношении Таинства Причастия: "на Божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но возвышаясь умом, должны верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира (Иоан. 1, 29), приносимый в жертву священниками, и, истинно приемля честное Тело и Кровь Его, должны веровать, что это знамение нашего воскресения".
Св. Собор говорит здесь о необходимости "верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец Божий", т.е. понимать, осознавать, различать, что на священной трапезе лежит не простой хлеб, а Сам Агнец Божий. По сути, это лишь повторение мысли ап. Павла о необходимости рассуждать о Теле Господнем, о чём выше говорилось (§ 28).
[§ 46] Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.): "Хлеб и вино Евхаристии, прежде святого призывания поклоняемой Троицы, были простыми хлебом и вином; по совершении же призывания хлеб соделывается (![]() ) телом Христовым, а вино - кровию Христовою"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 382]; "Хлеб в Евхаристии, по призывании Святого Духа, не есть более простой хлеб, но тело Христово"[Тайноводственное поучение третье, п. 3]; "Видимый хлеб не хлеб, хотя и ощутителен вкусу, но Тело Христово; и видимое вино есть не вино, хотя и подтверждает то вкус, но кровь Христова"[Тайноводственное поучение четвёртое, п. 9].
) телом Христовым, а вино - кровию Христовою"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 382]; "Хлеб в Евхаристии, по призывании Святого Духа, не есть более простой хлеб, но тело Христово"[Тайноводственное поучение третье, п. 3]; "Видимый хлеб не хлеб, хотя и ощутителен вкусу, но Тело Христово; и видимое вино есть не вино, хотя и подтверждает то вкус, но кровь Христова"[Тайноводственное поучение четвёртое, п. 9].
[§ 47] А также: "После сего (т.е. на Богослужении после Серафимской песни) освятив себя духовными сими песнями, молим человеколюбца Бога, да ниспошлёт Святаго Духа на предлежащие дары, да сотворит хлеб - телом Христовым, а вино - кровью Христовой"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 382-383].
[§ 48] И ещё одно пространное и совершенно ясное поучение св. Кирилла о Причастии: "Даже одно cиe блаженного Павла учение довольно к тому, чтобы удостоверить вас о Божественных тайнах, коих удостаиваясь, вы соделались Христу стелесными (единотелесными) и скровными (единокровными). Ибо теперь вопиял Апостол: что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблаго [§ 32] Подобные молитвы находятся не только в литургиях Апостольских Постановлений и ап. Иакова, но и во всех древних литургиях, на что обращает внимание митр. Макарий: дарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое (1 Кор. 11: 23-24). И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя (Мф. 26:27). А когда Сам (Христос) объявил и сказал о хлебе: cиe есть тело Мое, после сего кто уже осмелится не веровать? И когда Сам уверил и сказал о чаше: сия есть кровь Моя, кто тогда усомнится и скажет, что cиe не кровь Его?
[§ 49] Он в Кане Галилейской некогда воду претворил в вино (Ин. 2:1,10), сходное с кровию: и не достоин ли веры (Христос), когда вино в кровь прелагает (![]() )? Если зван быв на брак телесный, совершил Он cиe преславное чудо: не паче ли сынам брачным (Мф. 9:15) даровав Свое тело и кровь Свою в наслаждение, требует исповедания нашего.
)? Если зван быв на брак телесный, совершил Он cиe преславное чудо: не паче ли сынам брачным (Мф. 9:15) даровав Свое тело и кровь Свою в наслаждение, требует исповедания нашего.
[§ 50] Вот по этой причине со всякою уверенностью примем cиe, как тело и кровь Христову. Ибо во образе хлеба дается тебе тело, а во образе вина дается тебе кровь, дабы приобщившись тела и крови Христа, соделался ты Ему стелесным и скровным. Ибо таким образом бываем и Христоносцами, когда тело и кровь Его сообщится нашим членам. Так, по словам блаженного Петра, соделаемся причастниками Божеского естества (2 Пет. 1:4).
[§ 51] Некогда Христос, беседуя, говорил к иудеям: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53). Они же не духовно услышав реченное, но соблазнившись, отошли (Ин. 6:61-62,66), думая, что к плотоядению склоняет их…
[§ 52] Итак, хлеб и вино (в Евхаристии) не/em разумей простыми: ибо оные тело суть и кровь Христова, по изречению Владыки. Ибо хотя чувство тебе и представляет cиe, но вера да утверждает тебя. Не по вкусу рассуждай о вещи, но от веры будь известен без coмнения, что ты сподобился тела и крови Христовых"[Тайноводственное поучение четвёртое, п. 1-6].
[§ 53] Следующая цитата: "Не по одному только настроению, состоящему в душевном расположении, будет пребывать в нас Христос, как говорит Он (Ин. 6:56), но и по причастию, конечно, природному. Как если кто, соединив один воск с другим и расплавив на огне, делает из обоих нечто единое, так через приобщение Тела Христова и Честной Крови Он Сам в нас, и мы, со своей стороны, в Нем соединяемся. Ведь иначе было бы невозможно, чтобы подвергшееся тлению стало способным к оживотворению, если бы оно не сочеталось телесно с Телом Того, кто есть жизнь по природе, то есть Единородного"[Толкование на Ев. Иоанна, кн. 10 гл. 2].
Здесь св. Кирилл не только выражает свою веру в реальность причащения Тела и Крови Христовых, но и объясняет богословский, онтологический смысл Евхаристии - природное, телесное соединение со Христом, что делает тело способным к воскресению.
[§ 54] Приведу последний отрывок из творений св. Кирилла относительно Таинства Причастия, наиболее важный и авторитетный, ибо он изначала был написан против ересиарха Нестория от имени всего александрийского Собора и впоследствии единодушно одобрен Третьим Вселенским Собором. Вот что писал св. Кирилл:
"возвещая смерть по плоти единородного Сына Божия, т.е. Иисуса Христа, и исповедуя воскресение Его и вознесение на небеса, мы совершаем в церквах безкровное жертвоприношение, и таким образом приступаем к благословенным тайнам и освящаемся, причащаясь святаго тела и честной крови Спасителя всех нас - Христа, и принимая не как обыкновенную плоть, - да не будет, - и не как плоть человека, освящённого и соединившегося со Словом по единству достоинства (как учил Несторий), но как воистину животворящее и собственное тело Самого Слова. Ибо Он (Христос), как Бог, будучи жизнью по естеству, когда стал едино с собственной плотию, то соделал её животворящею. И потому, хотя Он говорит нам: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, однако мы должны почитать её не за плоть человека, во всём подобного нам (каким бы образом плоть человека по природе своей могла быть животворящею?), но воистину за собственную плоть Того, Который соделался и назван сыном человеческим"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 395].
[§ 55] Св. Иоанн Златоуст (IV в.) говорил о Евхаристии: "Столь многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, сапоги! Вот ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть Его, а Он дает не только видеть Себя, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь… Итак берегись, чтобы и тебе не сделаться виновным против Тела и Крови Христовых. Они (распявшие Христа) умертвили всесвятое Тело; а ты принимаешь оное (т.е. "всесвятое Тело") нечистою душою после таких благодеяний. Ибо не довольно было для Него того, что Он сделался человеком…, но Он ещё сообщает Себя Самого нам, и не только верою, но и самим делом соделывает нас Своим Телом. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается сею жертвою! Сколь чище всех лучей солнечных должны быть - рука, раздробляющая сию плоть, уста, наполняемые духовным огнём, язык, обагряемый страшною кровию! Помысли, какой чести ты удостоин? Какою наслаждаешься трапезою? На что с трепетом взирают Ангелы и не смеют воззреть без страха, по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одной плона Божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но возвышаясь умом, должны верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира (Иоан. 1, 29), приносимый в жертву священниками, и, тью со Христом. "Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его" (Пс. 105, 2)? Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю, пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорождённых младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел сего. Он питает нас собственною Кровию и через сие соединяет нас с Собою"[Беседы на Евангелие от Матфея, беседа 82].
[§ 56] И в другом месте: "Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом… Так мы соединяемся друг с другом и со Христом. Ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же Телом"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., сс. 117-118].
[§ 57] А также: "Пусть никто не имеет внутри себя злых помыслов, но очистит ум; мы приступаем к чистой жертве - сделаем же душу свою святою, чтобы получить пользу от этой трапезы, потому что ты приступаешь к страшной и святой жертве…, предлежит закланный Христос". "Когда ты видишь Господа, закланного и предложенного, священника, предстоящего этой жертве и молящегося… то думаешь ли, что ты… стоишь на земле, а не переносишься тотчас на небеса?.. Сидящий горе с Отцом в этот час объемлется руками всех и даёт Себя осязать и воспринимать всем желающим"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 112].
[§ 58] А вот выдержки из молитв св. И. Златоуста, которые вошли в состав молитвослова в раздел "Последование ко Святому Причащению" и читаемые православными христианами во время приготовления ко Причастию: "Но да будет мне угль пресвятаго Твоего Тела и честной Твоей Крови, во освящение и просвещение, и здравие смиренной моей души и тела: молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи принять мне святое и пречистое Тело Твое и честную Кровь во исцеление души и тела и во очищение лукавых моих помышлений... Не достоин я, Владыко Господи, чтобы Ты вошёл под кров души моей: но поскольку хочешь как Человеколюбец жить во мне, дерзая приступаю (ко Причастию)".
Здесь св. И. Златоуст ясно понимает, что он будет вкушать не просто хлеб, не символ, а Самого Христа. В другой молитве ко причащению (произносимой и поныне священником непосредственно перед причащением) сей вселенский учитель говорит: "Верую, Господи, и исповедую, что Ты есть во истину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешных спасти, из которых я первый. Еще верую, что сие есть пречистое Тело Твое, и сие есть сама честная Кровь Твоя...".
[§ 59] Св. Василий Великий (IV в.) понимал причастие так же, как и св. И. Златоуст. Его молитва пред святым причастием вошла в тот же раздел молитвослова, и в ней есть такие слова: "...очисти меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня совершать святыню в страхе Твоем, … да святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому Телу Твоему и Крови и буду иметь Тебя во мне живущего и пребывающего… Знаю, Господи, что недостойно причащаюсь Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен есть…, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе сказавшему: ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем".
[§ 60] Св. Ефрем Сирин (IV в.): "Причащайся пречистого тела Владыки с полною верою, несомненно зная, что ты всецело вкушаешь самаго Агнца"; "Тело Господа новым способом соединяется с нашими телами, и чистейшая кровь Его вливается в наши жилы: весь Он вселяется во всех нас по благости Своей"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 400].
[§ 61] Св. Амвросий по причастию, конечно, природномуМедиоланский (IV в.): "Мы всякий раз, когда принимаем тайны, которые через таинство священной молитвы преобразуются (transfigurantur) в плоть и кровь, возвещаем смерть Господню".
А также: "Покажем, что сие не то, что природа образовала, но то, что благословение освятило, и что сила благословения более, нежели сила природы: ибо благословением и сама природа изменяется (mutatur)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 398].
А также: "Если и простому народу, то есть мирянам, без омовения одежд воспрещалось прежде (в Ветхом Завете) приступать к жертве своей, бывшей только прообразом высочайшей жертвы прообразуемой, то нам ли ныне, пастырям стада Христова, с нечистым сердцем и нечистым тел; так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду воскресенияом являться пред жертвенником Самого Господа, недостойно совершать на нём высочайшее Таинство истинной Жертвы, принесённой Иисусом Христом за грехи всего мира? Воздевать руки пред престолом Божиим и молиться за души, врученные нашему смотрению, не очистив и не отрезвив себя всецело?"[Цит. по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., сс. 113-114]. (О христианских жертвенниках и жертве будет сказано дальше, в § 79-84).
И ещё: "И это тело, которое мы совершаем, есть от Девы: зачем спрашиваешь здесь о порядке естества в теле Христовом, когда свыше естества сам Господь родился от Девы? Истинна была плоть Христа, которая распята, которая погребена; следовательно, воистину сие есть таинство той самой плоти"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 393].
[§ 62] Св. Григорий Нисский (IV в.): "По истине думаю и верую, что и ныне хлеб, освящаемый словом Бодиим, претворяется (![]() ) в тело Бога Слова"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 398].
) в тело Бога Слова"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 398].
[§ 63] Подобных цитат можно привести ещё множество. То, что Церковь от начала и во все времена веровала в реальность, а не символичность Причащения - очевидно, о чём совершено справедливо свидетельствовал Седьмой Вселенский Собор:
"никто из труб Духа, т.е. св. Апостолов и достославных отцев наших, безкровную жертву нашу, совершающуюся в воспоминание страдания Бога нашего и всего домостроительства Его, не называл образом тела Его. Ибо они не принимали от Господа так говорить и возвещать, а слышали Его благовествующего: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни; также: ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем; и еще: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.., а не сказал: приимите, ядите образ Тела Моего… Итак ясно, что ни Господь, ни Апостолы, ни Отцы бескровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли образом, но самим Телом и самой Кровию. И хотя прежде, нежели совершится освящение, некоторым из св. Отцов казалось благочестивым называть сие вместообразными; но по освящении они суть Тело и Кровь Христовы, и так веруются"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 395-396].
[§ 64] Итак, мы ясно могли увидеть, что Христос, Апостолы и вся древняя Церковь учили тому, что св. Дары есть истинное Тело и Кровь Христовы, а не их символы.
Теперь хочу сделать несколько существенных и имеющих важное отношение к Евхаристии замечаний.
[§ 65] 1) В связи с рассмотрением вышеприведенных библейских и исторических свидетельств, важно ответить на вопрос: почему протестанты всё же противятся учению Церкви о Евхаристии? Ответ прост: они отвергли это учение всё по той же причине, по которой они отвергают все вообще Таинства, о чём говорилось в предыдущих трёх главах. Причина эта - отвержение Церкви и Её необходимости для спасения человека. Главная ересь протестантизма, для утверждения которой и создал его дьявол, есть идея личного, а не соборного спасения, и нужна эта идея для того, чтобы оторвать человека от Единой Истинной и Спасительной Церкви, через которую Христос определил совершать спасение людей. Главный догмат протестантизма такой: человек спасается верой во Христа как Своего Спасителя (не зависимо от Церкви, не благодаря Ей, не через Неё). И под этот уже главный тезис подгоняется всё остальное, и отсекается всё, что ему не соответствует.
Учение же о реальности Причастия совершенно противоречит этому тезису, ибо, во-первых, оно утверждает необходимость для спасения не только одной "веры во Христа как личного Спасителя", но и Причастия; во-вторых, это учение устраняет идею личного спасения не зависимо от Церкви, ибо поскольку для спасения необходимо причастие, а причащаюсь я через священника, то моё спасение определённо зависит от Церкви и совершается при Её участии и посредстве. Но именно эту истину и не желает знать протестанты. Потому они и сделали причастие простым символом, вкушение которого не спасает и не соединяет протестанта со Христом (он ведь и так уже спасён через одну веру). Именно ложная идея личного спасения, не зависящего от Таинств Церкви, которая (идея) была совершенно чужда древней Церкви, и является главной причиной отвержения протестантами Таинства Причастия (и других Таинств).
[§ 66] Ко второстепенной причине отвержения протестантами реальности Причастия можно отнести тот факт, что реформаторы формировали свои взгляды на Западе, в эпоху "Возрождения", которая стала уделять большое значение рациональному (научному) объяснению мира и отвергать всякую мистику и чудеса. Именно в эту эпоху стал зарождаться атеизм и безверие, в результате чего явились такие атеистические философы как Вольтер, Дидро и Руссо. И когда в духе своей эпохи реформаторы стали переосмысливать Таинство Причастия, то они и решили, что никакого чуда и пресуществления здесь быть не может, и что хлеб и вино нужно считать просто символами Тела и Крови Христа.
[§ 67] Итак, учение о символическом причастии продиктовано отнюдь не истиной и не Священным Писанием, а 1) непобедимым желанием протестантизма утвердить догмат личного спасения без Церкви (и оправдать само своё существование в качестве Церкви), и 2) духом рационализма.
[§ 68] 2) Следует обратить внимание также на важную тенденцию в извращении сектами Таинства Причастия по мере удаления их от Церкви и отделения одних деноминаций от других. Так, 1) католики, отпав от единой Церкви, сохранили веру в пресуществление, но мирянам стали преподавать Тело Христово[У католиков, после их отпадения от Церкви в XI веке, в действительности нет Таинства Причастия, нет пресуществления, нет Тела Христа; их причастие только мнимое, но я говорю здесь не об этом, а о том, как веруют сами католики] только под одним видом хлеба. От католиков отошли 2) лютеране, которые хотя и стали причащать своих членов под обоими видами, хлеба и вина, но извратили саму суть учения о Причастии и стали признавать только частичное пресуществление, т.е., что Христос "соприсутствуют евхаристическому strongхлебу, находясь в нём, с ним и под его видом", как учил Лютер. От лютеран в свою очередь отошло 3) множество других течений протестантизма, которые ещё больше извратили учение о Евхаристии: они совсем отвергли учение Евангелия и древней Церкви о реальном причащении Тела и Крови Христа и стали учить о причащении символическом. Затем от протестантов (в частности - от субботников), отошли 4) последователи Рассела, именующие себя "свидетелями Иеговы", которые извратили учение о Таинстве Причастия до немыслимого безобразия: они даже символически не причащаются[По учению расселистов, участвовать в хлебопреломлении могут только 144000 избранных, которые родились до 1914 года. С течением времени расселиты несколько раз переносили указанный год, но и при этом "причащается" у них один из тысячи], а только проносят хлеб и вино мимо рта! Всё это отнюдь не случайность! Таинство Причастия есть верх Богословия и предел Богообщения, и, очевидно, чем ниже падает секта с этой вершины, тем сильнее она искажает и учение о Евхаристии. Об этой тенденции, в виду величайшей её важности, очевидности и неслучайности, я прошу своего читателя, особенно протестанта, задуматься!
[§ 69] 3) 1 Ин. 5:6 содержит важнейшую истину в отношении Таинств Крещения, Миропомазания и Причастия: "Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию" - этот стих уже приводился в 13-й главе, где я обращал внимание читателя на различие между "приходивший" и "пришедший". Приходивший это тот, кто пришёл и уже ушёл. Пришедший же это тот, кто пришёл и остался. Тот же глагол в той же форме использует ап. Иоанн и в 2 Ин. 7: "Христа, пришедшего во плоти". Так вот, Христос есть не приходивший, а пришедший - водою, кровию (и плотию) и Духом, ибо Он остался в этом мире в воде Крещения, в Духе Святом и Плоти и Крови Причастия. Потому эти три Таинства и являются важнейшими в Православии, ибо через них верующие соединяются со Христом. Итак, Христос пришёл в этот мир (и до сих пор остаётся) Плотью и Кровью. Плоть и Кровь Христа действительно пребывает в Его Церкви, по крайней мере, в двух видах: в Храмах на престолах в дарохранительницах, и в телах и жилах причащающихся в Евхаристии. Где же Плоть и Кровь Христова у протестантов? Как Христос пришёл и остался Плотью и Кровию Своею для них? Никак! А поскольку у протестантов нет Христа во плоти и крови, то они и не Церковь!
[§ 70] 4) В протестантском отношении к хлебопреломлению легко заметить явное противоречие. Сначала они решительно отвергают, что хлеб и вино Евхаристии становятся Телом и Кровью Христа, доказывая, что это лишь "простые символы". Затем, вкушая эти символы, они силятся оказать великое благоговение к ним: они осторожно принимают их, трепетно с молитвой вкушают их, стараясь, чтобы ни одна крошка хлеба не упала и ни одна капля вина не пролилась. Такое отношение, как точно замечает Димитрий Чуйков, граничит "с идолопоклонством, потому что… секты стараются благоговеть перед хлебом и вином своих "евхаристий"; они усердствуют почтить просто хлеб и просто вино как Плоть и Кровь Христовы, сами того не замечая, что богохульствуют, в некоторой схожести с теми, кто почитает творение вместо Творца"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 174].
И если вспомнить то, что протестанты не признают способность материи освящаться и освящать; что у них нет святых мест и святынь вообще, как и самого этого понятия; что они считают почтение материальных святынь идолопоклонством, в чём постоянно обвиняют Церковь (этой теме была посвящена 1-я глава), то вопрос: "почему и на каком основании они так благоговеют перед хлебом и вином, если это не Тело и Кровь Христа?" остаётся без ответа.
Теперь рассмотрим возражения протестантов против учения Церкви о Таинстве Евхаристии и, отвечая на них, заодно уясним некоторые важные подробности сего спасительнейшего догмата.
[§ 71] Возражение 1. Е. Пушков пишет: "…литургию с пресуществлением… придумали как чудодейственное спасающее средство, которое не соответствует евангельскому учению о спасении по вере (Рим. 1, 17), благодатью (Еф. 2, 8)"["Не смущайся", глава "О причастии"].
[§ 72] Учение о Причастии находится в полном соответствии с учением о вере, ибо Причастие спасает только при условии веры. Как вера приводит человека ко Крещению, которым он спасается (об этом говорилось в гл. 13), так вера приводит человека к Причастию, и только в этом случае оно спасает человека. Причастие является "чудодейственным спасающим средством" только для истинно верующих. Неверующих же оно не только не спасает, но губит и убивает (см. 1 Кор. 11:30). Не спасение, а великое осуждение примут те, кто приступал к Причастию без веры, рассуждения, благоговения и страха Божия!
[§ 73] В такой же полной мере учение о Причастии соответствует и учению о благодати. Само слово "Евхаристия", как уже было сказано, значит кроме прочего "благой дар", иначе - "благодать", ибо в этом Таинстве Господь даёт человеку вкушать Самого Себя и всем своим существом соединяться с Ним. Поэтому, спасение через Причастие это и есть в высшем смысле спасение по благодати, ибо Причастие есть наибольший дар Божьей благодати, которой человек и спасается!
[§ 74] Не православные, а протестанты не веруют Христу (Его словам: "сие есть Тело Мое") и учению Церкви (внушенное Ей Духом Святым) о Причастии, и не принимают спасительную Божью благодать, даруемую Им через Его Церковь в Таинстве Евхаристии: более того, высмеивают эту благодать, ругаются ей, и вместо причащения в Церкви совершают свои кощунственные хлебопреломления. Здесь парадокс: протестанты, так много говорящие о спасении по вере, погибают именно по своему неверию, в частности - в Таинство Причастия; так сильно настаивающие на спасении по благодати, погибают именно из-за отвержения благодати, в частности - спасительнейшей и величайшей благодати Причастия!
[§ 75] Возражение 2. Вечеря Господня это воспоминание о Христе, как сказал Сам Господь. Поэтому, совершая хлебопреломление, и нужно вспоминать о Христе и Его страданиях, а не придумывать странные идеи о пресуществлении.
[§ 76] Во-первых, православные совершенно не спорят с тем, что Евхаристия совершается в воспоминание Спасителя и Его страданий. Так, проскомидия[Проскомидия значит: приношение. Это первая часть литургии, когда приносится хлеб и вино и совершается, посредством молитв и различный священнодействий, подготовка к собственно литургии], с которой начинается литургия, начинается со слов: "В воспоминание Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", повторяемых трижды, и дальше вся проскомидия словами и символическими действиями изображает страдания Христа. И потом, на евхаристическом каноне (главной части литургии), в молитвах священника вспоминаются различные моменты жизни и страдания Христа. Например: "Благообразный Иосиф (Аримафейский), с древа сняв пречистое тело Твое, плащаницею чистой с благовониями обвив, в гробнице новой положил. Во гробе - плотью, в аде - душою, как Бог, в раю же с разбойником, и на престоле Ты был, Христос, со Отцем и Духом, всё наполняющий, Неописуемый".
Или: "С этими блаженными (ангельскими) Силами и мы, Владыка Человеколюбец, взываем и глаголем: Свят Ты и пресвят: Ты, и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой. Свят Ты и пресвят, и величественна Слава Твоя. Ты, Кто мир Твой так возлюбил, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он же, придя и весь замысел о нас исполнив, в ту ночь, в которую был предаваем, а вернее - Сам Себя предавал за жизнь мира, взяв хлеб в Свои святые, и пречистые, и непорочные руки, возблагодарив и благословив, освятив, преломив, дал святым Своим ученикам и апостолам, сказав: приимите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое во оставление грехов, аминь. Также и чашу после вечери, глаголя: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов, аминь. Воспоминая же эту спасительную заповедь и все, ради нас совершившееся: крест, гроб, воскресение на третий день, на небеса восхождение, по правую руку сидение, второе и славное пришествие вновь", и пр.
[§ 77] Во-вторых, литургия и совершаемое на неё Таинство Евхаристии является не в обычном только смысле является воспоминанием, но и в смысле самом высшем, Божественном. И вот что имеется под этим в виду: "На обычном языке людей, - пишет митр. Владимир, - "воспоминать" - значит делать в память кого-то или чего-то и, собственно, воспроизводить в памяти минувшее. Но не так на языке Священного Писания. "Воспоминать" здесь - не только субъективно, абстрактно, но и объективно, реально восстанавливать сущность того, что имело место в прошлом, или даже, можно сказать, воспоминать - здесь значит делать явным то, что существует уже само по себе, но не выявлено в действии, не обнаружено. Когда, например, в Сарепте Сидонской умер сын у вдовы, в доме которой остановился пророк Илия, то та объяснила смерть сына как наказание ей за грехи её в прошлом, которые восстановил пред Богом пророк своим посещением её дома: "Ты пришёл ко мне, - говорит она Илии, - напомнить грехи мои и умертвить сына моего" (3 Цар. 17:18). О ветхозаветных жертвах в послании к евреям говорится, что ими "каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи" (Евр. 10:3-4). О молитвах и милостынях благочестивого сотника Корнилия также говорится в книге Деяний апостольских, что они "пришли на память пред Богом" (Деян. 10:4). Очевидно, что и воспоминание евхаристическое нужно понимать в таком же смысле, то есть в смысле реального воспроизведения того, что уже совершено"[Блаженнейший митрополит Владимир (Сабодан), "Слова и речи", том 3, изд. Киев, 1997 г., сс. 189-190].
[§ 78] Другим словами это можно выразить так. Человек, воспоминая кого-то или что-то, не может реализовать, сделать полностью реальным своё воспоминание; т.е. он не может сделать своё воспоминание полностью тождественным воспоминаемому. Например, сын, которого вспоминает мать - реальнее, чем её воспоминание. У Бога же всё не так. Если Он что-либо вспоминает, то в силу Его совершенства воспоминание Его такое же реальное, как и то, о чём Он вспоминает. Потому, когда разбойник на кресте "сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!", то Господь ответил: "ныне же будешь со Мною в раю" (Лк. 23:42-43), ибо для Господа помнить человека это тоже самое, что иметь его перед собой в реальности. Потому на православной панихиде умершим постоянно произносят пожелание: "вечная память", понимая то, что если Господь будет вечно помнить человека в Своём Царстве, то это значит, что сам тот человек будет находится с Ним, ибо памятование Божие - тождественно реальности, о которой Он помнит. Вот поэтому, когда верные в Евхаристии творят воспоминание Христа, то это их воспоминание силою Божией в реальности становится Тем, о Ком они творят воспоминание, как пишет о том Димитрий Чуйков: "Приведенное Христово повеление (''сие творите в Моё воспоминание'') имеет и более глубокий смысл. Так как слова: "сие творите…" означают: "совершайте подобные Вечери, претворяя на них благословением Божиим хлеб и вино в Мои Плоть и Кровь", то отсюда должно разуметь, что таким образом обеспечивается совершенное достижение цели названного повеления, то есть - осуществление совершенного воспоминания Христа, а именно такого воспоминания, при котором само воспоминание, в известный момент, достигает абсолютного тождества по отношению к Воспоминаемому"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", сс. 172-173].
Хотя человек не Бог и его воспоминание не может стать, как у Бога, реальностью, но поскольку Евхаристия есть величайшее Таинство, совершаемое по воле Христа и Его силою; поскольку литургия в Церкви "Божественная", то такое воспоминание, свойственное только Богу, становится доступным и для человека! То есть, в Евхаристии верным дано так вспоминать Христа, что их воспоминание становится реальностью - Сам Христос, со Своим Телом и Кровью, приходит к верным и даёт им Себя в пищу. Вот поэтому Евхаристия и называется Таинством Таинств, ибо подобного никогда с людьми на земле (и с Ангелами на небе) и ни в каком другом Таинстве не происходит.
Таким образом, Евхаристия в Церкви и в обычном и сверхъестественном смысле совершается не иначе как в воспоминание Христа.
[§ 79] Возражение 3. П. Рогозин пишет: "Учение о пресуществлении, связанное с идеей приношения бескровной жертвы за грехи тех, кто участвует в причащении, полностью отрицает единократное искупление грехов, единократной жертвы Иисуса Христа"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"]. Подобное говорит и Е. Пушков: "Литургия, подразумевая ежедневное приношение Христа в жертву под видом хлеба и вина, в корне противоречит Священному Писанию: "Христос вошел не в рукотворенное святилище... не для того, чтобы многократно приносить Себя... иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею (Евр. 9, 24-26)"["Не смущайся", глава "О причастии"].
[§ 80] Когда Церковь совершает бескровную жертву, то это не значит, что Христос каждый раз вновь действительно страдает и умирает (потому, собственно, евхаристическая жертва и называется бескровной). Все эти бескровные жертвы есть продолжение единожды принесённой Христом жертвы, есть та же единая жертва, которая как бы приходит на протяжении всех веков в каждое собрание верных, совершающих её воспоминание и желающиemх сделаться её причастниками.
Иначе говоря: Христос однажды,. (О христианских жертвенниках и жертве будет сказано дальше, в § 79-84). примерно в 33-м году I-го века, в одном месте, около Иерусалима на горе Голгофе, умер и принёс Себя в жертву во искупление человека. Благодаря этой жертве и вкушению от неё, человек спасается, о чём прямо и ясно учил Христос (Ин. 6 гл.). Но как верующим, живущим в разные времена и в разных странах, вкусить от именно той самой жертвы и сделаться её причастниками? И не менее важный вопрос: как вообще можно причаститься этой жертвы, т.е. каким образом можно вкусить плоть Сына Человеческого и испить крови Его? Вот для того, чтобы это всё стало для человека возможным, Господь и устроил всё так, что, во-первых, преподаёт нам Себя, пренепорочного Агнца, под видом хлеба и вина, и, во-вторых, сделал возможным для верных посредством молитвы и совершения литургии призывать и переносить к себе на жертвенник ту же самую, единую, вечную, страшную и святую жертву.
Таким образом, бескровных жертв совершается множество, но при этом, жертва всегда одна, единожды принесенная, как говорил о том св. Иоанн Златоуст: "Христос не ограничил жертвы пределом времени"; "Первосвященник наш принёс жертву, очищающую нас; ту же жертву, которая была принесена, приносим и мы ныне. И эта жертва одна, а не многие… мы всегда Того же приносим; не ныне одну овцу, а завтра - другую, но всегда того же Агнца, следовательно, одна и жертва"; "Никто не должен приступать иначе к первой и иначе к последней (жертве). Одна в них сила, одно достоинство, одна благодать, одно и то же тело"[Цит. по: Блаженнейший митрополит Владимир Сабодан, "Слова и речи", том 3, изд. Киев, 1997 г., сс. 188-189].
[§ 81] Протестанты, несмотря на великую мудрость и глубину православного понимания жертвы Христа, несмотря так сказать на очевидность Божественного Логоса данной идей, всё же не хотят ничего об этом знать. Но тогда у меня есть к вам вопрос. Ап. Павел пишет: "Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии" (Евр. 13:11). Для православных эти слова предельно понятны. У них в алтаре действительно находится жертвенник, на котором совершается бескровная жертва. У вас, протестанты, где у вас есть жертвенник? Это тот стол, на котором вы совершаете своё хлебопреломление? Но какую жертву вы на нём приносите, и почему никто никогда не называет и не назовёт его жертвенником?/strong А что ап. Павел говорит здесь прежде всего прямо подтверждает тот факт, что у древнейших христиан, в местах их собраний (во-первых - в катакомбах) находят каменные жертвенники.
Кроме того, о христианских жертвенниках и принесении бескровной жертвы с самой древности постоянно упоминается у церковных писателей, например:
в литургии ап. Иакова: "приносим Тебе, Владыко, сию страшную и бескровную жертву";
в литургии "Апостольских Поста, ибо в этом Таинстве Господь даёт человеку вкушать Самого Себя и всем своим существом соединяться с Ним. Поэтому, спасение через Причастие это и есть в высшем смысле спасение по благодати, ибо новлений": "ниспошли на жертву сию Святаго Духа Твоего";
у св. Игнатия Богоносца: "одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение Крови Его, один жертвенник";
у св. Афинагора, христианского аполemогета II-го века: "Ему нужно приносить жертву бескровную и служение разумное"[Прошение о христианах, п. 13];
у св. Ипполита Римского: "непорочное Тело Свое и Кровь, которые на таинственной и Божественной трапезе ежедневно приносятся в жертву";
у св. Иоанна Златоуста: "души человеческие никогда не могли бы перенести огня этой жертвы", "мы приступаем к чистой жертве… ты приступаешь к страшной и святой жертве", "когда ты видишь Господа, закланного и предложенного, священника, предстоящего этой жертве и молящегося", "сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается сею жертвою";
в постановлениях I Вселенского Собора: "на священной трапезе лежит Агнец Божий… приносимый в жертву священниками";
у св. Амвросия: "нам ли ныне, пастырям стада Христова, с нечистым сердцем и нечистым телом являться пред жертвенником Самого Господа, недостойно совершать на нём высочайшее Таинство истинной Жертвы";
у св. Кирилла Иерусалимского: "мы совершаем в церквах безкровное жертвоприношение" и т.д. - эти цитаты приводились выше (§ 30-61).
Я ещё раз хочу спросить протестантов: о каких жертвенниках и жертвах говорят ап. Павел и вся древняя Церковь, и где и на чём у вас приносится бескровная жертва? Совершенно очевидно: нет у вас ни жертвенника, ни бескровной жертвы, посему вера ваша это не вера апостольская, не вера древней Церкви! [§ 82] Предсказание о принесении бескровной жертвы Церковь усматривает ещё у пророка Малахии 1:11: "Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф". В Толковой Библии (под ред. Лапухина) этот стих комментируется так: "Согласно с большинством отцов Церкви, мы видим здесь предуказание на утверждение истинного Богопочтения в Церкви Христовой и истинного Богослужения.
Кроме того, многие отцы и учители Церкви видели здесь пророчество об установлении таинства Евхаристии". В пример приведу одного из древних отцов, св. Иринея Лионского, который Мал. 1:11 напрямую связывал с Евхаристией: "Еще, давая наставление Своим ученикам приносить Богу начатки сотворенного Им, не потому, чтобы Он нуждался, но чтобы сами они не были бесплодны и неблагодарны, взял из сотворенного хлеб и благодарил и сказал: ''это есть тело Мое'' (Мф. 26.27). Подобно и чашу из окружающего нас творения Он исповедал Своею кровью и научил новому приношению Нового Завета, которое Церковь, приняв от Апостолов, во всем мире приносит Богу, дающему нам пищу, начатки Его даров в Новом Завете. Об этом один из 12 пророков Малахия так предсказал: ''нет у Меня благоволения к вам, говорит Господь всемогущий, я не приму жертвы от рук ваших. Ибо от востока солнца до запада имя Мое прославляется между народами, и во всяком месте фимиам и чистая жертва приносится имени Моему, потому что имя Мое велико между народами, говорит Господь всемогущий'', чрез это весьма ясно показывая, что прежний народ (иудейский) перестанет делать приношения Богу, но во всяком месте будет приноситься Ему жертва и притом чистая, и Его имя прославляется между народами"[Против ересей, книга 4, глава 17, п. 5]. Разумные умозаключения о пророчестве Малахии делает и митр. Макарий: "Здесь, очевидно, речь о жертве новой, чистой, Богоугодной, повсеместной. Какая же это жертва? Нельзя, без сомнения, разуметь под нею жертв иудейских, к которым ясно выражается здесь же не благоволemение Божие, и которые приносились только в определённом месте; ни тем более - жертв языческих, которые ни в каком смысле, по духу всего Писания, не могут быть названы чистыми и Богоугодными. Нельзя разуметь и жертвы духовной, о какой говорит Псалмопевец (Пс. 50, 19): потому что такого рода жертвы и прежде всегда приносили Богу люди добрые, благочестивые[Пс. 50:19: "Жертва Богу - дух сокрушенный". К таким жертвам относятся и другие духовные жертвы, например, "жертва хвалы" (Евр. 13:15). Но и не о ней (прежде всего) пророчествует Малахия, ибо и она приносилась и прежде ветхозаветными святыми. Точнее сказать, данное пророчество имеет в виду (во-вторых) и духовные жертвы христиан, как жертвы новые в том смысле, что в новозаветном качестве (в Духе Пятидесятницы, в Духе Церкви) эти жертвы не приносились Богу в Ветхом Завете, ибо Духа Святого, живущего в человеке и производящего в Нём хвалу, благодарение и всякое "хотение и действие по Своему благоволению" (Фил. 2:13) у ветхозаветного человека не было (об этом говорилось в предыдущей главе). Но и эти духовные жертвы, как было объяснено (§ 5), теснейшим образом, неразрывно связаны в Новом Завете с вкушением Плоти и Крови Христа, т.е. с жертвой евхаристической], - между тем в пророчестве предрекается о жертве новой, какой следовательно прежде не было, о жертве видимой или внешней, которая противопоставляется иудейским жертвам и имеет заменить их собою. Нельзя даже разуметь ту чистейшую Богоугодную жертву, которую принёс на кресте Господь Спаситель за грехи всего мира: потому что жертва сия принесена в одном месте, на Голгофе, - а Пророк предрекает о жертве чистой, которая будет приносится на всяком месте. Остаётся, вслед за св. Отцами, разуметь под этою жертвою собственно святейшую Евхаристию, как жертву, по-истине, новую (1 Кор. 11:25-26), жертву чистую и Богоугодную, которая приносится на всяком месте"["Православно-догматическое богословие", том. II, сс. 416-417].
[§ 83] Итак, на ком же исполняется пророчество Малахии, на протестантах или православных? Церковь с самой древности имела жертвенники, на которых во всяком месте приносила Богу чистую бескровную жертву (и фимиам). Протестанты такой жертвы не приносят (и фимиама тоже), и даже, как правило, не знают о ней, и с трудом даже понимают, о чём идет речь. Поэтому, не они являются Церковью, не о них пророчествовал Малахия, не их появления чаял Господь!
[§ 84] Итак, принесение бескровной жертвы ни коим образом не противоречит единократному принесению Христом Себя в жертву: напротив, бескровная жертва: 1) предсказана в Библии; 2) всегда совершалась древней Церковью и 3) тождественна жертве Христа и является лишь её продолжением и распространением во времени и пространстве.
[§ 85] Возражение 4. П. Рогозин говорит: "Чтобы убедиться в том, что хлеб и вино не пресуществляются, или не меняют своей сущности и остаются теми же, какими были и до молитвы священника, нет нужды в сложных химических анализах. Вкус хлеба и запах вина до молитвы о пресуществлении и после сохраняются"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"]. Ему вторит и Е. Пушков: "У каждого человека есть зрение, обоняние и вкус, и каждый может убедиться, что никакого пресуществления хлеба и вина после молитвы священника не происходит"["Не смущайся", глава "О причастии"].
[§ 86] Таинство Евхаристии подобно таинству воплощения: "великая благочестия тайна: Бог явился во плоти" (1 Тим. 3:16). Как Божество Христа было скрыто для глаз человеческих под Его плотью, так и Тело и Кровь Христа в Евхаристии сокрыты под видом хлеба и вина. Ведь вопросы, которые ставят о Таинстве Причастия П. Рогозин и Е. Пушков с такой же справедливостью можно задать и о тайне Боговоплощения, и сказать, что Христос никакой не Бог, ибо все чувства людей, видевших Его, ясно указывали на то, что перед ними человек, а не Бог, и что для убеждения в этом не было даже "нужды в сложных химических анализах". Почему протестанты так не говорят? Потому что в этом случае они полагаются на веру, а не на человеческие чувства, зная, что Бог силен творить великие чудеса, и легко мог скрыть Свою Божественность под видом человеческого тела. Поэтому, как видевшие Христа и уверовавшие в Него, хотя плотскими своими очами видели перед собой человека, но очами духовными прозревали в Нём Бога, так и истинные христиане, хотя плотскими очами видят перед собой хлеб и вино (в чём уверяют их и другие органы чувств), но очами духовными они зрят Христа, "ибо мы ходим верою, а не видением" (2 Кор. 5:7).
[§ 87] Интересна и другая параллель между тайной Боговоплощения и тайной Причастия. Во время Своей жизни Христос, в подтверждение Своей Божественности, однажды для троих избранных учеников в Преображении явил Свою истинную славу, да и то, отнюдь не во всей её силе, а постольку, поскольку они могли её воспринять[Как воспевает Церковь (в тропаре на Преображение): "Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показавший учеником Твоим славу Твою "якоже можаху…", т.е., настолько, насколько они могли её увидеть] и не умереть, "потому что человек н/emе может увидеть Меня и остаться в живых" (Исх. 33:20). Вот так и в подтверждение истинности пресуществления Господь несколько раз некоторым избранным являл истинный вид Своих Тела и Крови, хотя и не во всей силе, ибо человек не мог бы вынести всей славы сияния прославленного Тела Христа.
Один из таких случаев, ставших широко известным, произошел в городе Ланчано в Италии в VIII веке (когда западная Церковь была ещё в единстве со Вселенской Церковью) в Храме св. Лонгина[Лонгином звали сотника, пронзившего Христа копьём. По свидетельству Евангелия, он, "видя землетрясение и все бывшее", устрашился и сказал о Христе: "воистину Он был Сын Божий" (Мф. 27:54). По преданию, он стал христианином, окончил жизнь мученически и был причислен Церковью к лику святых]. Во время Литургии священник засомневался, что хлеб и вино действительно претворяются в Тело и Кровь Христа. И вот, разламывая хлеб, он увидел и почувствовал, что хлеб стал другим: хлеб чувственно изменился в Тело Христа. Об этом сразу же разнеслась весть, и эти Дары стали церковной святыней и предметом паломничества. Они до сих пор хранятся в том же Храме, который стал именоваться также "церковью Евхаристического чуда".
Спустя века учёным было позволено изучить эти Дары. Вот что нам известно об их исследовании: "Профессор медицинского факультета Сиенского университета Одоардо Линолди, крупный специалист в области анатомии, патологической гистологии, химии и клинической микроскопии, проводил со своими коллегами исследования в ноябре 1970 и в марте 1971 годов и пришел к следующим выводам. Святые дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют собой подлинные человеческие Плоть и Кров: ь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Возможно, фрагмент плоти содержит также левый желудочек - такой вывод позволяет сделать значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти. И Плоть, и Кровь относятся к единой группе крови: АБ. К ней же относится и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице. Кровь содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули: более всего удивительно то, что Плоть и Кровь двенадцать веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических агентов без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кроме того, Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови.
Руджеро Бертелли, профессор нормальной анатомии человека Сиенского университета, проводил исследования параллельно с Одоардо Линоли и получил такие же результаты. В ходе повторных экспериментов, проводившихся в 1981 году с применением более совершенной аппаратуры и с учетом новых достижений науки в области анатомии и патологии, эти результаты вновь были подтверждены... По свидетельствам современников чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько все пять вместе[Смысл этого в том, что в каждой малейшей частице Причастия находится не часть Христа, а весь Христос, во что твёрдо верует Церковь: "Хотя тело и кровь Господа раздробляются в таинстве Причащения и разделяются; но собственно это бывает только с видами хлеба и вина, в которых тело и кровь Христовы и видимы и осязаемы быть могут, а сами в себе они совершенно суть целы и нераздельны. Ибо Христос всегда один и неразделим: нераздельно соединены в Нем человеческая душа с телом; нераздельным и всегда целым остаётся и Его тело вместе с кровью, как тело живое, которое, "воскреснув из мертвых, уже не умирает" (Рим. 6:9), тело прославленное (1 Кор. 15:43), духовное (44), бессмертное. А потому мы веруем, что в каждой части - до малейшей частицы - предложенного хлеба и вина находится не какая либо часть тела и крови Господней, но тело Христово всегда целое и во всех частях единое, и в каждой части - до малейшей частицы - присутствует весь Христос по существу Своему, т.е. с душою и божеством, или совершенный Бог и совершенный человек… Эту веру свою Церковь вселенская издревле выражает в чинопоследованиях литургии, когда говорит: ''раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогда не съедаемый, но причащающихся освящающий''" (митр. Макарий, "Православно-догматическое богословие", том. II, сс. 400-401)]. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор"[Цит. по сайту: http://simvol-veri.ru/xp/lanchanskoe-chudo.html. О ланчанском чуде можно прочесть также на сайте: http://palomniki.su/countries/it/g13/lanchano/cerkov-evharisticheskogo-chuda.htm, и других].
Но подобные случаи редки, и свидетелями их становятся не многие (как и преобразился Христос всего лишь однажды, и видели это лишь три человека), ибо промыслом Божиим нам положено ходить верою, а не видением, да не утратим блаженства, как сказано: "блаженны невидевшие и уверовавшие" (Ин. 20:29). Но всё же, эти случаи даны Богом в помощь человеческому маловерию.
[§ 88] Кроме воплощения Христа, можно вспомнить и о других случаях, когда Господь (и Его Ангелы)[По православному толкованию, с которым согласны и большинство протестантов, один из трёх мужей, пришедших к Аврааму, был Христос, а другие два - Ангелы] являлись в человеческом виде (см., напр., Быт. 18:1-2; 19:1-5). Опять же, зрение и остальные органы чувств говорили Аврааму, Лоту и другим, кто их видел, что перед ними обычные люди, но на самом деле, это было не так. Также и Дух Святой явил Себя в виде голубя (Мф. 3:16). В этих случаях Бог являл Себя в различных образах прежде всего потому, чтобы не умертвить человека славой Своего истинного вида, ибо человек не может видеть Бога таким, каков Он есть на самом деле. Но при этом у протестантов не возникает никаких вопросов насчёт того, что органы чувств людей, которым являлся Господь, никак не подтверждали, а наоборот - разуверяли их в том, что перед ними Бог. Так почему же они не могут поверить, что как Бог мог явить Себя в виде голубя или человека (особенно в Боговоплощении), так Он может явить Себя и в виде хлеба и вина? Ведь в Причастии Христос под видом хлеба и вина ради немощи человека скрывает (как и в других случаях, которые были названы) от него истинную славу и сияние Своего прославленного Тела, о чём и говорил св. Иоанн Златоуст: "Или ты не знаешь, что души человеческие никогда не могли бы перенести огня этой жертвы, но все совершенно погибли бы, если бы не было великой помощи Божественной благодати".
[§ 89] Всё это, безусловно, понять совсем не трудно, ибо если бы протестантов на самом деле соблазняли вопросы, которые задают П. Рогозин и Е. Пушков, то они и в Боговоплощение и другие чудеса не верили бы. На самом деле, протестанты вовсе не потому отвергают реальность Причастия, что не способны понять, как это может Тело и Кровь Христа быть для органов чувств под видом хлеба и вина - этого не понимают и православные, этого и не нужно понимать и даже грешно желать постичь до конца своим плотским умом эту великую Божью Тайну. К Евхаристии нужно приходить с детской верой, трепетом и умилением пред непостижимостью и величием Божиим. Не понимают же (вернее - не желают понимать и не принимают) протестанты Таинство Причастия, во-первых, по духу противления, который нужно врачевать послушанием и смирением перед Истиной и единым учением Церкви. Во-вторых, по неразумию и неверию в то, что Бог и сегодня силен творить чудеса.
Нужно не забывать, что протестантизм со своим символическим толкованием Таинства Причастия явился в те века, когда набирал силу дух рационализма. Потому протестантизм и характеризуется верой в чудеса прошлые и большим недоверием (иногда полным отвержением) к чудесам настоящим (об этом говорилось в 1-й главе, раздел II). От этого протестанту нужно лечиться посредством избавления от нечистого духа протестантизма и принятия Духа Церкви. Нужно реально верить во всемогущество Божие, ведь "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 13:8). Именно о всемогуществе Бога вспоминали святые отцы (Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Кирилл Иерусалимский, Иоанн Дамаскин и др.)[См. "Православно-догматическое богословие", том. II, с. 399], когда хотели подтвердить незыблемость претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, указывая при этом, с идолопоклонством, потому что… секты стараются благоговеть перед хлебом и вином своих в частности, на такие великие дела Божии, как сотворение мира из ничего, таинство воплощения, претворение воды в вино и другие евангельские чудеса, а также на то, что в нас самих пища и питие, которые мы употребляем, прелагается (претворяется, изменяется) в наши тело и кровь.
[§ 90] Делать же свою неспособность понимать, как хлеб и вино может претворяться в Тело и Кровь Христовы причиной неверия, совершенно безумно. Мы даже в окружающем нас мире мы многого не понимаем, как хорошо сказал о том великий учённый во многих отраслях священник Павел Флоренский, что рационалистическая оболочка всех естественных наук есть только "тоненькая корочка над пучиной огненной лавы иррациональности"[С.И. Фудель "Об о. Павле Флоренском", изд. YMSA-PRESS, 1988, с. 15]. И к такому выводу приходят все настоящие учёные.
Ещё меньше мы постигаем Бога, Который несравненно выше нашего ума. Разве мы понимаем тайну Троицы - как единый Бог существует в трех Лицах? Расселисты, например, на основании неспособности человека объяснить Троицу, отвергли к своей погибели это учение. Вот так поступают и протестанты в отношении Таинства Евхаристии: не понимая, как Тело и Кровь Христа могут на вид и вкус быть хлебом и вином, они отвергли этот великий и спасительный догмат, оставив себя вне Христа, лишив себя причастия Ему. Вот из-за такой гордыни и надмения "плотским своим умом" (ср. Кол. 2:18) и уходят люди на вечные муки.
[§ 91] В связи с этим было очень неожиданно найти у П. Рогозина такое не типичное для протестантизма признание: "Не может быть сомнения, что и там, в горнице, Христос мог совершить ещё одно чудо. Он мог пресуществить вино и хлеб, предметы последнего ужина, в действительную плоть и кровь, сделать хлеб тождественным той плоти, в которой Он в данный момент находился…"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"] - вот так и нужно думать протестантам, эта мысль истинная! А дальнейшее прибавление П. Рогозина "однако мы не встречаем в Св. Писании никаких указаний о какой-либо перемене, происшедшей с хлебом и вином после сл/emов Его благодарственной молитвы" - уже от лукавого и духовной слепоты, ибо Библия достаточно ясно говорит о том, что верные причащаются не хлеба и вина, а Тела и Крови Христа (см. § 7-28).
[§ 92] В главе "Евхаристия" П. Рогозин делает ещё одно удивительное для протестанта заключение, сделанное, как и вышеприведенное, по всей видимости, под влиянием прочитанного из православной или католической литературы: "Каким образом происходит в душе человека это незримое приобщение "телу и крови Христовой", мы не знаем. Эта тайна будет открыта верующему только в вечности. Отрицать тайну духовного воссоединения души человеческой с Богом и не признавать благодатного воздействия Вечери Господней на духовную жизнь верующего, значит впасть в… крайность…". Вот именно! Здесь П. Рогозин очень близко приближается к православному пониманию Таинства Причастия. Мы не можем познать до конца[Церковь знает об этом Таинстве только то, что может знать, и что Бог Ей открыл], как Христос преподаёт нам Себя в виде хлеба и вина, как приобщает нас к Своему Телу, как делает нас Самим Собой ("и будут двое одна плоть"). Всё это - великая и удивительная тайна, но из-за того, что мы её не понимаем, мы не должны её отвергать!
[§ 93] Возражение 5. Е. Пушков пишет: "А. Кураев, начитавшись Максима Исповедника, ратует еще за одно пресуществление. "На евхаристической трапезе, - пишет он, - человек сам должен стать тем, что он ест. Вкушая Тело Христово, человек свое тело должен преобразить в Тело Христа"... С. Кобзарь идет еще дальше… он пишет: "Для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом"… Прямо страшно становится: уж так похоже это изречение на слова искусителя в Едемском саду: "Будете, как боги...""["Не смущайся", глава "О причастии"].
[§ 94] Во-первых, мысль о том, что в Причастии человек должен преобразоваться во Христа, св. Максим Исповедник (VI-VII вв.) озвучил не первый. Об этом с древности говорили святые. Например, св. Ириней, как мы видели выше, говорит, что плоть христиан "питается телом и кровью Господа и есть член Его? И св. Павел в послании к Ефесянам говорит: "потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его"". Здесь ясно выражена мысль, что причастники становятся членом Тела Христа, одно с Ним; иначе - они преобразуются во Христа. О том же, как мы видели, говорил и И. Златоуст: "Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым…". Эту же мысль мы находим и у блаж. Августина, который, объясняя смысл Причастия, говорит от лица Господа: "Я есть пища твоя, но вместо того, чтобы Мне преложиться в тебя, ты сам преобразуешься в Меня"[Цит. по: диакон Андрей Кураев, "Протестантам о Православии", изд. Киево-Печерской Лавры, 1997 г., с. 171], и т.п.
[§ 95] Во-вторых, мысль эта полностью отвечает сути Таинства Причастия, которая, как уже было сказано, заключается в том, что причастник всецело соединяется со Христом. И в Причастии не Христос в нас, а мы в Него преображаемся. Такое соединение со Христом и полное уподобление Ему и есть назначение и высшее счастье и достижение человека, о чём многообразно говорит Библия: "Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть" (1 Ин. 3:2); "…дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества…" (2 Пет. 1:4); "мы сделались причастниками Христу" (Евр. 3:14); "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви (Еф. 5:31,32); "Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа" (2 Кор. 3:18); "уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20); "доколе не изобразится в вас Христос" (Гал. 4:19).
Что значит стать подобным Богу, сделаться причастником Божеского естества, стать со Христом одной плотью и преобразиться в образ Христа? То и значит, что Бог по Своей неизреченной милости и великодушию пожелал сделать человека во всём подобным Себе, соединиться с ним до полного единства! Это - предел Божественной любви и верх всего Богословия. Эту евангельскую идею святые отцы назвали ![]() (феосис) - обожение[Об этом, как помнит мой читатель, уже упоминалось в главе 4]. Этим словом обозначается процесс Богоуподобления человека, его преобразования, преображения во Христа, без потери при этом своей личности. Идею обожения развивали святые отцы, закрепив её такими краткими (ставшими в Православии крылатыми) формулировками: "человек призван по благодати стать тем, кем Бог является по существу" и: "для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом". В. Лосский пишет об этом так: ""Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом", - трижды находим мы у святого Иринея. Это же изречение мы вновь видим у святого Афанасия Великого, и, в конце концов, оно становится общим для богословов всех эпох"["Догматическое Богословие", глава 14 "Воплощение". Цит. по сайту: http://psylib.org.ua/books/lossv02/txt14.htm].
(феосис) - обожение[Об этом, как помнит мой читатель, уже упоминалось в главе 4]. Этим словом обозначается процесс Богоуподобления человека, его преобразования, преображения во Христа, без потери при этом своей личности. Идею обожения развивали святые отцы, закрепив её такими краткими (ставшими в Православии крылатыми) формулировками: "человек призван по благодати стать тем, кем Бог является по существу" и: "для того Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом". В. Лосский пишет об этом так: ""Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом", - трижды находим мы у святого Иринея. Это же изречение мы вновь видим у святого Афанасия Великого, и, в конце концов, оно становится общим для богословов всех эпох"["Догматическое Богословие", глава 14 "Воплощение". Цит. по сайту: http://psylib.org.ua/books/lossv02/txt14.htm].
Об этом, не находя слов от восхищения милостью и великодушием Бога, писал, например, св. Григорий Нисский: "Этим-то столь великим Существом, что невозможно ни видеть Его, ни слышать, ни мыслию постигнуть, присвояется, в ничто между существами вменяемый, человек, - этот пепел, это сено, эта суета, он восприемлется в сына Богом всего. Что можно найти достойного к благодарению за эту милость? Где такое слово, такая мысль, такое движение мысли, чтобы ими воспрославить такое обилие милости? Человек выходит из пределов своего естества, делается из смертнаго безсмертным, из скорогибнущего - неизменно пребывающим, из однодневного - вечным, одним словом, из человека Богом".
Об обожении говорил и Григорий Богослов, утверждая, что цель жизни человека - "придти к Отцу и быть причастником Божественной, всеблаженной жизни, быть богом по усыновлению"[Цит. по: архиепископ Сергий Страгородский, "Православное учение о спасении", изд. "Просветитель", Москва, 1991 г., сс. 69, 103]. И вот это уподобление человека Христу, его обожение происходит прежде всего посредством достойного Причащения, без которого обожение не возможно. Вот об этом и говорили святые Ириней, Златоуст, один и другой Григорий, Августин, Максим Исповедник и многие другие.
[§ 96] Итак, обожение - главнейшая идея и цель Православия! Протестантизм же не проповедует об обожении, и если и знает о нём, можно сказать, только понаслышке. Тогда как православные в великом смирении, благоговении и умилении благодарят Бога за Его бесконечную милость, протестанты соблазняются - им "страшно становится", и страх этот не Божий, конечно же. То, что Е. Пушков (и с ним большинство протестантов) сопоставляет православное учение об обожении (которое, повторю, Православие теснейшим образом связывает с Причастием) со словами дьявола "будете, как боги" ясно показывает, что он знает только о искаженном, лживом, предложенном дьяволом первым людям "обожении": об уподоблении же Богу, предлагаемому Христом, он ничего не знает. Дьявольское "будете, как боги" протестанты знают, а "будем подобны Ему" ап. Иоанна и "Я сказал: вы боги" И. Христа (Ин. 10:34) и псалмопевца Давида (Пс. 82:6) - нет. Вот от этого протестантского невежества и не знания Библии должно становиться страшно, а не от истинного, святого, православного, библейского и святоотеческого учения об обожении человека.
[§ 97] Возражение 6. "Учение о пресуществлении и реальном, а не символическом вкушении Тела Христа - безумие и канибализм". Напомню, что именно каннибализмом назвали два протестантских пастора православную веру в пресуществление, когда я, уходя из баптизма, исповедал её перед ними.
[§ 98] Прежде всего, нужно вспомнить, что данное обвинение не ново. В каннибализме обвиняли самых древних христиан язычники, как свидетельствует о том С. Санников: "они обвиняли христиан в ритуальных убийствах своих детей и канибализме" (эта цитата уже приводилась и кратко обсуждалась во 2-й главе). Об этом упоминали и древние церковные писатели и апологеты, например, св. Иустин Мученик (см. § 39), св. Феофил Антиохийский (II в.), который в "письмах к Автолику" защищал христиан от обвинении в том, что они едят "плоть человеческую" (кн. 3, п. 4), и другие. Поэтому, крайне важен сам факт того, что протестанты повторяют древнюю языческую клевету на Церковь (хотя и с несколько другим оттенком смысла), что очень ясно показывает, к какому, духовно, лагерю они принадлежат!
Кроме того, факт языческих обвинений христиан в каннибализме говорит о том, что они веровали в Причастие не по протестантски, а по православному, ибо кто протестантов обвиняет в каннибализме? Никто! А обвиняют ли в этом православных? Да, в том числе и сами протестанты. Отсюда ясно видно, что православная, а не протестантская вера тождественна вере древней Церкви!
[§ 99] Если же ответить на данное возражение по существу, то кощунство данного обвинения очевидно. Каннибализм это 1) убийство человека и вкушение его 2) нечистого и 3) мёртвого тела и крови. Потому каннибализм запрещён. В Причастии же верные 1) не убивают Христа (Он однажды добровольно принёс Себя в жертву ради нашего спасения) и вкушают 2) пречистые и 3) не только живые, но и животворящие, духовные, прославленные, воскресшие Тело и Кровь Христа, вместе с Его душой, духом и Божеством… Впрочем, доказывать, что Причастие не есть каннибализм уже граничит с метанием бисера пред свиньями, ибо ставить такие вопросы могут только люди крайне грубые и духовно, и нравственно.
[§ 100] Возражение 7. Написано: "плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления" (1 Кор. 15:50). Поэтому, нужно думать о спасении души, а не тела.
[§ 101] На данный вопрос отчасти было уже отвечено выше: верные причащаются не тленной человеческой плоти и крови, а животворящей и духовной Плоти и Крови Богочеловека. Царствие же Божие наследует не только душа, но и тело человека, которое преобразится и прославится, как написано: Бог "уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его" (Фил. 3:21) и "мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" (Рим. 8:23). Христиане воскреснут не просто душами, но в новых, духовных телах ("оживит и ваши смертные тела" - Рим. 8:11), подобных Телу Христа после Его воскресения. А что Христос воскрес в Теле (и в этом же Теле вознёсся к Отцу в Царствие Небесное) ясно хотя бы из слов Христа: "Посмотрите на руки Мои и на ног Но подобные случаи редки, и свидетелями их становятся не многие (как и преобразился Христос всего лишь однажды, и видели это лишь три человека), ибо промыслом Божиим нам положено ходить верою, а не видением, да не утратим блаженства, как сказано: и Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня" (Лк. 24:39).
То есть, Христос и после Своего воскресения имел "плоть и кости", только тонкие, духовные, бессмертные прославленные. Смертные "плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия", а воскресшие и ставшие бессмертными духовные тела святых - могут и обязательно наследуют! Причащаться же преображённого и прославленного Тела и Крови Христовых и нужно для того, чтобы и наши тела преобразились, просла border=вились, воскресли и наследовали Царствие Божие со Христом, о чём Господь и учил и многократно повторял в Ин. 6 гл.
[§ 102] Возражение 8. П. Рогозин пишет: "…произнося слова: "Сие есть Тело Мое" Христос оставался всё ещё в теле, Он ведь не превратился после молитвы в два тела, из коих одним пользовался Сам, а другим насыщались ученики. Такая предпосылка абсурдна и кощунственна"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"]. За Рогозиным и здесь повторяет Е. Пушков: "На тайной вечере Христос говорил о хлебе: "Сие есть Тело Мое", а о вине: "Сие есть Кровь Моя" (Мф. 26:26-28). Но понятно, что здесь не могло быть никакого пресуществления, так как Христос еще не был распят. Он же был вместе с учениками и принимал участие в этой трапезе. Не мог же Он вкушать Сам Себя, и ученики не ели Его тело и не пили Его кровь, так как Он был еще с ними. Как только можно до такого додуматься?! Если бы вино становилось кровью, то как мог Христос заставить учеников пить кровь в нарушение Ветхого Завета и постановления будущего апостольского собора (Деян. 15:20,29)?"["Не смущайся", глава "О причастии"].
[§ 103] Обстоятельный ответ на этот вопрос даёт Димитрий Чуйков, которому я и предоставляю слово: "Сектанты… говорят: сказано же: "Плоть не пользует ни мало" - значит не о вкушении Своей Плоти и Крови говорил Христос.
[§ 104] Правда то, что Христос никогда не говорил по-сектантски и не думал так, как они думают. Он думал духовно и говорил духовно, то есть, в данном случае - о Духовном Своём Теле, воскресшем, прославленном и восшедшем на небеса. "Есть тело душевное (в котором все мы пребываем здесь на земле), есть тело и духовное" (1 Кор. XV,44). Духовного Тела Первенца из мёртвых Церковь и причащается, - Этого последнего Адама, Который есть Дух Животворящий (см. 1Кор. XV,45), но Дух имеющий Своё духовное Тело, так как Христос в Теле воссел одесную Бога (см. Мр. XVI,19), ибо в Теле и вознесся, как в Теле Он и являлся уже после Своего Вознесения, например, Апостолу Иоанну (см. Откр. I,12-18).
[§ 105] В Евхаристии мы причащаемся всего последнего Адама: и нетленной Плоти Его и Крови, и Животворящего Его Духа, "ибо тело без духа мертво" (Иак. II,26), а Церковь причащается не смерти, а жизни во Христе Иисусе, как наш Господь и заповедал (см. Ин. VI,51). Но неверующие сектанты могут сказать: какой же Плоти и Крови причащались Апостолы на последней Вечере, то есть, когда Христос был ещё в смертном теле?
Здесь нужно заметить, что Христовы слова: "Дух животворит; плоть не пользует ни мало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь" (Ин. VI,63) необходимо понимать в тесной связи с 1 Кор. XV,45: "…первый человек Адам стал душею живущею, а последний Адам есть дух животворящий". Разве трудно ответить на этот вопрос знающему Библию? Ведь написано: "Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки Тот же" (Евр. XIII,8) и: "Никто не восходил на небо, как только Сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах" (Ин. III,13). Так как сшедший с небес Сын Человеческий - Он же в одно и то же время и сущий на небесах, ибо непременно то и значит Ин. III,13, - (1 Тим. 3:16). Как Божество Христа было скрыто для глаз человеческих под Его плотью, так и Тело и Кровь Христа в Евхаристии сокрыты под видом хлеба и вина. Ведь вопросы, которые ставят о Таинстве Причастия П. Рогозин и Е. Пушков с такой же справедливостью можно задать и о тайне Боговоплощения, и сказать, что Христос никакой не Бог, ибо все чувства людей, видевших Его, ясно указывали на то, что перед ними человек, а не Бог, и что для убеждения в этом не было даже потому Христос, принявший бренную человеческую плоть приблизительно на тридцать три с половиной года Своей земной жизни, вместе с тем ни на миг не прекращал и небесного Своего пребывания в небесном же славном Своем Теле. Поэтому Христос мог причастить и причастил Апостолов Своих, еще до прославления Своего, не тем Своим телом, которое умерло на Кресте, а Тем, что воскресло, потому что наш неизменный Бог есть не смерть, а Воскресение и жизнь вечная (см. Ин. XI,25), или иначе - Дух присноживотворящий"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 177-179].
[§ 106] Что же касается запрета Ветхого и Нового Завета на употребление крови, то сказанное о каннибализме (§ 99) имеет отношение и к крови животных. Бог запрещает употреблять кровь животных (по причине того, что в ней их душа, а человеку не нужно приобщаться низменной души скотов), кровь мёртвую: животворящая же и святейшая Кровь Христова не имеет никакого отношения к крови животных… Нельзя и здесь не обратить внимание на то, что сама постановка таких вопросов, само сопоставление Причастия и запрета вкушать кровь животных показывает, насколько протестанты плотские, и какие только нелепости они не согласятся изобрести, лишь бы удовлетворить потребность своего духа противиться и поносить учение Церкви.
[§ 107] Возражение 9. П. Рогозин пишет: "Заметьте, что после того, как Христос вознёс к Отцу молитву благодарения (после которой, полагают, и произошло пресуществление), Он всё же продолжает называть вино - вином и хлеб - хлебом, говоря: "сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего (Мф. 26,29)"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"].
[§ 108] Для начала заметим, что Рогозин ошибается: Христос нигде не называл после благодарения "хлеб - хлебом". А что именно (и когда) Господь назвал "плодом виноградным", проясняет евангелист Лука, который описывает этот момент Вечери подробнее других синоптиков: "И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается" (Лк. 22:14-20).
То есть, согласно Луки, Христос 1) сначала благословил обычную ветхозаветную пасхальную трапезу, потом 2) сказал о том, что не будет пить от плода сего виноградного, и лишь затем 3) опять взял хлеб и чашу с вином (на что указывают также слова "после вечери") и вторично воздав благодарение, вновь дал вкушать их ученикам, назвав их уже Своим Телом и Кровью. Таким образом, Христос назвал вино "плодом виноградным" тогда, когда оно было ещё обычным вином ветхозаветной пасхальной трапезы, а после второго благодарения (когда и совершилось пресуществление), Он назвал вино уже Своей Кровью. И хотя это очень просто понять из Евангелия, протестанты не хотят этого знать, и продолжают вместе с Рогозиным повторять этот аргумент, рассчитывая на то, что не многие удосужатся сравнить Матфея и Марка с Лукой и разобрать суть дела.
[§ 109] Возражение 10. П. Рогозин утверждает, что "догмат пресуществления даров появился впервые в 1059 г."["Откуда всё это появилось?", раздел "Хронология"].
[§ 110] Конечно, П. Рогозин хочет сказать читателю, что вот, дескать, в какое позднее время в Церкви появился названный догмат, который по этой причине нельзя считать истинным. На самом деле, в указанное время появился не догмат, а слово "пресуществление". Догмат же существовал в Церкви из начала, в чём по вышеприведенным цитатам из документов древней Церкви можно было вполне убедиться. Только выражалась сия доктрина в других словах, именно таких: 1) "![]() " (мэтастихиосис) от
" (мэтастихиосис) от ![]() (мэта) - "перемена", и
(мэта) - "перемена", и ![]() (стихиа) - "первые и самые простые части чего-либо"; 2)
(стихиа) - "первые и самые простые части чего-либо"; 2) ![]() (мэтавалломай) - прелагать (менять, изменять, заменять)[Букв. "перебрасывать". Идея здесь та, что Господь в Таинстве Причастия перекладывает (мгновенно, потому и используется слово "перебрасывать") и заменяет хлеб и вино на Свои Тело и Кровь. Это слово использовал, например, св. Кирилл (см. §49)]; 3)
(мэтавалломай) - прелагать (менять, изменять, заменять)[Букв. "перебрасывать". Идея здесь та, что Господь в Таинстве Причастия перекладывает (мгновенно, потому и используется слово "перебрасывать") и заменяет хлеб и вино на Свои Тело и Кровь. Это слово использовал, например, св. Кирилл (см. §49)]; 3) ![]() (мэтапойео) - претворять (превращать, переделывать)[
(мэтапойео) - претворять (превращать, переделывать)[![]() (пойео) букв. "делать". Таким образом, мэтапойео букв. значит: переделывать, перетворять (творить заново). Это слово использует св. Григорий, § 6
(пойео) букв. "делать". Таким образом, мэтапойео букв. значит: переделывать, перетворять (творить заново). Это слово использует св. Григорий, § 6![]() (пойео) букв. "делать". Таким образом, мэтапойео букв. значит: переделывать, перетворять (творить заново). Это слово использует св. Григорий, § 6]; 4)
(пойео) букв. "делать". Таким образом, мэтапойео букв. значит: переделывать, перетворять (творить заново). Это слово использует св. Григорий, § 6]; 4) ![]() (гинетай) - быть, становится (см. § 46).
(гинетай) - быть, становится (см. § 46).
На этот счёт митр. Макарий делает справедливое замечание: "Слово: пресуществление, ![]() , transsubstantiatio, выражающее совершенно туже самую мысль (что слова: ''прелагаются, изменяются, преобразуются, претворяются''), начало входить в употребление на западе с половины XI века, а на востоке с XV, когда встречается оно у Геннадия, константинопольского патриарха... С того времени слово это, как правильно и весьма сильно выражающее мысль догмата, стало постоянно употребляться православною Церковию наравне со словом: преложение"["Православно-догматическое богословие", том. II, с. 397].
, transsubstantiatio, выражающее совершенно туже самую мысль (что слова: ''прелагаются, изменяются, преобразуются, претворяются''), начало входить в употребление на западе с половины XI века, а на востоке с XV, когда встречается оно у Геннадия, константинопольского патриарха... С того времени слово это, как правильно и весьма сильно выражающее мысль догмата, стало постоянно употребляться православною Церковию наравне со словом: преложение"["Православно-догматическое богословие", том. II, с. 397].
[§ 111] Причём, здесь важно учитывать существование различных языков. Как было сказано, греческие отцы издревле для выражения идеи пресуществления употребляли несколько слов, самым сильным из которых является, пожалуй, мэтастихиосис, которое обозначает не в общем смысле перемену сущности (пресуществление), но полную перемену, до последних самых малейших и простейших элементов вещества. Западная, латиноязычная, Церковь, пользовалась приимущественно словом transfigurantur преобразование и mutatur изменение (см. высказывания св. Амвросия, § 61), а в XI веке западные богословы древнее греческое слово "мэтастихиосис" не совсем буквально перевели на латинский как transsubstantiatio, что буквально значит "перемена сущности". Позже, Церковь греческая буквально перевела латинское слово transsubstantiatio как ![]() (метосиосис) - букв. "пресуществление", и стала использовать и его на ряду с метастихиосис и другими. Русская Церковь также перевела для себя латинское слово transsubstantiatio и греческое метосиосис как "пресуществление", и стала употреблять и его, о чём и говорит митр. Макарий.
(метосиосис) - букв. "пресуществление", и стала использовать и его на ряду с метастихиосис и другими. Русская Церковь также перевела для себя латинское слово transsubstantiatio и греческое метосиосис как "пресуществление", и стала употреблять и его, о чём и говорит митр. Макарий.
[§ 112] Поэтому, историческое развитие догматов и нахождение новых форм и слов его выражения всегда было присуще Церкви (присуще это в полной мере и протестантам в выражении своего учения). В том, что со временем догмат может обретать новые формы и слова для его выражения, причём сам смысл догмата при этом не нарушается - знают все богословы и могут без труда понять все разумные люди.
Таким образом, П. Рогозин толи не понимает, о чём он говорит, толи всё понимает, но сознательно говорит то, во что хочется верить протестантам, становясь тем самим учителем, который льстит слуху (ср. 2 Тим. 4:3), а протестантам мало какая ложь так приятна, как та, что Церковь "придумала" свои догматы лишь столетия спустя после своего появления. Отчего так и популярен П. Рогозин среди протестантов, что кроме прочего даёт в своей книге лживую хронологию с грубым искажением фактов (или с неправильным их толкованием, как в данном случае), многие из которых я привожу в настоящей книге.
[§ 113] Возражение 11. П. Рогозин говорит: "Восточная церковь учит, что "копие", употребляемое на "проскомидии" для пронзения хлеба и извлечения "частиц", напоминает собою то копьё, каким воин-язычник пронзил грудь Христа на кресте. Невольно напрашивается и такая аналогия: если хлеб - Христос, а копьё - оружие, которым Христос был пронзён, то кого же напоминает священник, "пронзающий" хлеб?"["Откуда всё это появилось?", глава "Евхаристия"].
[§ 114] Ирония П. Рогозина понятна: он хочет сказать, что православный священник в определённом смысле участвует в убиении Христа, уподобляется воину, пронзившему Христа. На самом деле, священник символизирует прежде всего не воина Лонгина, а Отца Небесного, ибо Христос есть "Агнец, закланный от создания мира" (Откр. 13:8). Кто же заклал Христа от создания мира? Отец принёс в жертву Своего Сына и заклал Его от вечности, а точнее - вся Троица, в том числе и Сам Христос. Он Сам Себя принёс в Жертву, о чём, как мы видели, говорится в православной литургии: "Сам Себя предавал за жизнь мира" (см. § 76). А также: "ибо Ты есть приносящий и приносимый", т.е., Христос и приносит (совершает) жертву, и приносится в жертву одновременно. Потому Он и есть "Жертва и Архиерей", то есть, Он Жертва и одновременно и Первосвященник, приносящий Жертву. Во времени же Бог заклал Христа руками сотника.
[§ 115] Высказанную истину подтверждает и другой факт: сначала Сам Христос "взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое" (1 Кор. 11:23-24), а только потом уже Его Тело стали "ломать" римские воины. Т.е., сначала Спаситель Сам решил принести Себя в жертву и отдать Своё Тело на убиение, и только тогда воины на самом деле исполнили эту волю Христа. Вот этот единый Божественный акт заклания и принесения Христом Себя в жертву и изображает священник на проскомидии Тот же акт, пародируя Церковь, изображают у себя и протестанты, когда преломляют хлеб в воспоминание ломимого Тела Христа, но Рогозин при этом не упрекает протестантских пасторов в том, что они уподобляются воинам, "ломавшим" Тело Христа.
[§ 116] Возражение 12. Православные разбавляют вино водой, хотя в Евангелии от этом ничего не говорится.
[§ 117] Прежде всего, нужно понимать, что Евангелие не описывает всех подробностей, как говорил ап. Иоанн: "если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг" (Ин. 21:25). Разбавлять же вино водою Церковь имеет обычай с самой древности, на что обращает внимание VI Вселенский Собор в 32-м своём правиле: "До сведения нашего дошло, что в Армянской стране совершающие бескровную жертву, приносят на святой трапезе едино вино, не растворяя онаго водою… (Св. Иоанн Златоуст) своей Церкви, над коею вверено было ему пастырское правление, передал присоединять к вину воду, когда надлежит совершать безкровную жертву, указуя на соединение крови и воды, из пречистаго ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога истекшее к оживотворению всего мира и ко искуплению от грехов. И во всех церквах, где сияли духовныя светила, сей Богопреданный чин сохраняется. И Иаков, Христа Бога нашего по плоти брат, коему первому вверен престол Иерусалимския Церкви, и Василий Кесарийския Церкви архиепископ, коего слава протекла по всей вселенной, письменно передав нам таинственное священнодействие, положили в Божественной литургии из воды и вина составлять святую чашу. И в Карфагене собравшиеся, преподобные отцы, сии точно слова изрекли: да не приносится во святом таинстве ничто более, только тело и кровь Господня, как и сам Господь передал, то есть хлеб и вино, водою растворенное[См. 46-е правило. Открылся Карфагенский Собор в 393 г.]. Если же кто, епископ, или пресвитер, творит, не по переданному от Апостолов чину, и воду с вином не соединяя, сим образом приносит пречистую жертву: да будет извержен, как несовершенно таинство возвещающий, и преданное нововведением повреждающий".
[§ 118] Итак, главная причина, по которой вода неприменно добавляется (и добавлялась Церковью с древности) к вину, есть та, что из ребра Христа истекла не только кровь, но и вода. Об этой важной подробности говорится и в ветхозаветном пророчестве о Евхаристии: "Премудрость (Христос)… растворила вино свое… и скудоумному она сказала:.. пейте вино мною растворенное" (Пр. 9:1-6)[Между этим толкованием и тем, что вода, истекшая из бока Христа, символизирует ещё и крещение, о чём было сказано во введении ко 2-й части книги, нет никакого противоречия, ибо Бог в Своё Слово вложил весьма глубокий и широкий смысл].
[§ 119] А то, что Христос на Тайной Вечере не разбавлял вино водой, нет никаких оснований утверждать. Мы знаем только, что иудеи, как правило, пили вино, разбавленное водой (на это, кстати, часто указывают протестанты, когда спорят с тем, что Библия позволяет употребление вина). [§ 120] Возражение 13. Православные причащают детей, хотя условием к причастию является рассуждение о Теле Господнем и воспоминанием о Нём, чего дети не в состоянии исполнить.
[§ 121] Данный вопрос находится в теснейшей связи с вопросом о детокрещении: отрицая крещение детей, протестанты естественно отрицают и возможность их причащения, ибо по единогласному мнению как православных, так и протестантов (и католиков) причащаться может только принявший крещение. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, протестантам для начала нужно признать, что по учению Евангелия и древней Церкви детокрещение возможно по вере родителей, к чему есть все библейские, богословские и исторические основания - этот вопрос был уже подробно разобран в 13-й главе. Возможность как крещения детей, так и их причащения, заключается в том, что дети живут и воспринимают благодать Божию по другим законам: от них не требуется осознанных понятий, как от взрослого, для того, чтобы принимать благодать Таинства. Христос есть жизнь (см. Ин. 14:6), и как живёт ребёнок обычной жизнью, воспринимая благодать Божию, разлитую в этом мире, бессознательно, так и жить Христом и воспринимать Его благодать он может таким же образом. Как принять и усвоить обычное лекарство ребёнок может бессознательно, по воле родителей, так и принять и усвоить лекарство бессмертия, Святое Причастие, он может бессознательно, по воле и вере родителей.
[§ 122] Кроме того, древняя Церковь причащала детей, что видно из "Постановлений Апостольских" (гл. 8, п. 13): "После этого пусть причащается епископ, потом пресвитеры, диаконы, иподиаконы, чтецы, певцы, аскеты, а между женщинами - диакониссы, девственницы, вдовицы, потом дети, а затем весь народ по порядку, со стыдливостью и благоговением, без шума". Кстати, подобным образом причащаются православные и поныне: сначала причащаются священнослужители и монахи, затем дети (как менее взрослых грешные и, посему, более достойные милости Божией) и после них уже мужчины и женщины.
[§ 123] Возражение 14. Некоторые протестанты, например, часть харизматов, с недавних пор отказались от учения о символическом причастии и стали учить тому, что хлеб и вино на вечери нельзя называть символами, а только так, как назвал их Христос - Телом и Кровью[Хотя при этом они не желают принимать православного изложения данного догмата и терминов, наподобие "преложение" или "пресуществление"]. С одним таким харизматическим пастором я беседовал в г. Запорожье, а потом узнал, что такая позиция является не его частным мнением, а целого харизматического направления. Поэтому, таковые протестанты, естественно, могут сказать: "зачем весь этот спор? мы, в общем, не возражаем против православного понимания Евхаристии". Итак, может быть православные могут прийти к согласию хотя бы с теми протестантами, кто признаёт реальность Причастия?
[§ 124] На это следует сказать, что хотя те протестанты, которые учат о реальном, а не символическом причастии, меньше грешат, в смысле - меньше удаляются от Истины и меньше искажают Библию, но от этого их "причастие" отнюдь не становится истинным. Ведь они продолжают оставаться безблагодатным, самозваным, рукотворным, сектантским обществом, которое находится вне Церкви. "Священство" их не имеет преемственности, не имеет власти и права священнодействовать (подробно об этом говорилось в 12-й главе), а потому хотя они и веруют, что хлеб и вино Евхаристии есть Тело и Кровь Христа, но у них нет и не может быть Таинства Причастия, ибо Таинства есть только в Церкви. У них никогда не происходит и не произойдет пресуществления в действительности; на своих хлебопреломлениях они никогда не причастятся Христа. Для этого им нужно вернуться домой - к матери Церкви.
[§ 125] Здесь важно сказать следующее: хотя уклонение харизматов - в пользу Православия, но это производит не Бог, а враг, для обольщения. Для чего же нужно диаволу, чтобы небольшая часть протестантов вопреки всему протестантизму верила в реальность Причастия, то есть, по сути, признавала Истину? Для достижения двух важных для него целей. Во-первых, для избежания "утечки кадров". То есть, дьявол знает, что протестантизм здесь проповедует ложь, которую Церковь и сама Библия, которую протестанты считают Словом Божиим, изобличают. Таким образом, дьявол понимает, что некоторые протестанты могут распознать его обман и докопаться до истины, и в итоге - разочароваться в протестантизме, перейти в Православие и спастись. И для того, чтобы этого не случилось, для удержания в своих рядах таковых людей и создаёт враг в среде протестантизма такие секты.
Итак, если дьявол видит, что какое-то его протестантское чадо "соблазняется" протестантским учением о символическом причастии и каким-то образом приходит к пониманию истины в данном вопросе, то он начинает направлять его поиск и мысли в сторону этих харизматов. И таковой человек, услышав, что есть такие протестанты, которые учат правильно, радуется и переходит к харизматам, в обольщении полагая, что нашёл истину и Церковь, которая её проповедует. На самом же деле, он остался во власти диавола, и перешёл не на сторону Истины, а просто из одного батальона (из одной группы войск) в другой. Вот каково коварство врага, за тысячелетия достигшего великого мастерства в обмане и обольщении! И в эту игру дьявол играет во многих случаях.
Так, например, в общем протестантизм отвергает елеопомазание (о котором будет речь в следующей главе), но поскольку всегда находятся те, которые не могут с таким лёгким сердцем отвергнуть заповедь Апостола (Иак. 5:14-15), то дьявол на этот случай держит у себя несколько протестантских конфессий, которые признают елеопомазание.
Другой пример - крест. Многие протестанты не признают креста и хулят его как мерзкое орудие казни (об этом обстоятельно говорилось в гл. 2). Через таковых дьявол являет себя, свою ненависть ко кресту, которым он был побеждён. Но так как не все протестанты способны так превратно понимать крест, то чтобы не терять по этой причине этих людей, дьявол держит у себя и таких протестантов, которые крест признают, используют и по-своему даже почитают.
Ещё один пример - чудеса. В основном протестанты не признают современных чудес, и считают, что чудеса закончились веком Апостолов (об этом говорилось в 1-й главе). Но не все протестанты могут согласиться принять этот обман, понимая, что для такового мнения нет в Библии оснований, и что "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 13:8). Поэтому, чтобы не потерять таковых людей, дьявол создал пятидесятников и харизматов, которые признают и ищут чудеса, и т.п.
[§ 126] Во-вторых, дьявол поступает так для отражения обличений Церкви. Когда в арсенале протестантизма есть столько различных направлений и учений, то становится труднее обличать их во лжи. Если Церковь говорит протестантам, что вы исказили Таинство Причастия, то они уже могут ответить, что у нас есть разные мнения на этот счёт, и некоторые из нас верят, как и вы. Скажет Церковь протестантам, что вы не по правде отвергаете елеопомазание, а протестанты в ответ: нет, не все мы отвергаем; многие из нас помнят об этом. Именно так и отвечает Е. Пушков: "Мы можем только посочувствовать Сергею, что он вырос в зарегистрированной общине ВСЕХБ, где атеисты через "Положение о религиозных культах" вытравили многие живые евангельские установления. Во многих церквах осталась одна форма служения без духовного содержания. В церквах же МСЦ ЕХБ молитвы об исцелении с елеопомазанием - слава Богу! - совершаются"["Не смущайся", глава: "О елеопомазании и браке"]. Вот и всё: факт есть, и напряжение вопроса уже ослаблено: пусть, думает искатель истины, в протестантизме и не все совершают елеопомазание, но хотя бы некоторые. Точно так обстоят дела и с чудесами, и с исповедью, и некоторыми другими вопросами (хотя и не со всеми).
[§ 127] Итак, с Церковью дьявол ведёт войну - идеологическую, словесную, духовную. Протестантизм - одна из его армий в этой войне. Способ набора добровольцев - обман и обольщение. Одно из средств борьбы, которое использует дьявол для 1) удержания воинов в своих рядах и 2) эффективного отражения нападений противника - вышеописанная хитрость. И тот факт, что небольшая часть протестантов верит в реальность причастия - один из частных проявлений этой хитрости. Но Церкви "не безызвестны его умыслы" (2 Кор. 2:11), которые Она и открывает миру, в частности протестантам, помогая им увидеть дьявольские козни и освободится от его власти.
[§ 128] Итак, Священное Писание и вся Церковь с древности проповедует о реальном, а не символическом причащении Христа в Таинстве Евхаристии. Такое причащение всецело соединяет человека со Христом (Ин. 6:56), дарует ему жизнь вечную и является залогом его воскресения (Ин. 6:54). Без действительного Причастия, которое совершается в Церкви законными епископами и священниками, нельзя спастись, как о том прямо сказал Сам Христос (Ин. 6:53). Посему, отвергнув учение о реальном причащение Тела и Крови Христа (создав при этом свои самозваные церкви) протестанты отвергли и реальность спасения своего.
Суть разногласия между православными и протестантами в данном вопросе заключается в следующем. Православная Церковь верит, что Господь даровал Своим Апостолам, а через них и их приемникам - епископам и пресвитерам, власть прощать грехи, что совершается, прежде всего[Во введении во второй части книги было замечено, что не только Исповедь, но все Таинства так, или иначе, установлены для прощения грехов], в Таинстве Исповеди. Протестанты же этого не признают, говоря, что прощать грехи не может никто, кроме Бога. Итак, имеют ли епископы и священники право отпускать и удерживать грехи, и каково богословское и практическое, в духовной жизни, значение Таинства Исповеди?
Прежде всего, нужно привести главное свидетельство Евангелия: "Иисус же сказал им (Апостолам) вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Ин. 20:21-23). И хотя слова эти совершенно понятны и прямы, но протестанты умудряются их не замечать (или искажать) и не придавать им никакого значения, считая при этом, что они основывают свою веру только на Библии.
Безусловно, параллельными местами данного отрывка являются Мф. 18:18, где Христос говорит Своим ученикам подобные слова: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" и Мф. 16:18-19, где Господь обращается к одному ап. Петру: "Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах".
Разумеется, что Апостолам была дана эта власть в отношении грехов человеческих, ибо только грехи, и ничто другое, духовно связывают человека, не давая ему войти в Царствие Божие. Тем более, что контекст Мф. 18:18 не оставляет сомнения в том, что речь идёт о покаянии и прощении грехов. Так, в Мф. 18:12-14 Христос рассказал притчу о потерянной и найденной овце, что является образом согрешения и возвращения человека к Богу, то есть его покаяния и прощения. Далее, в ст. 15-17[Ниже, в ответе на "возражение 4", об этих стихах будет сказано подробнее], буквально говорится о согрешении, обличении и покаянии (или не раскаянии) человека. И в этой связи Господь и дарует Апостолам власть связывать и разрешать, то есть, прощать или удерживать грехи людям.
И хотя места из Евангелия от Матфея, безусловно, говорят ни о чём ином, как о том, что Апостолам Христом дана власть прощать грехи, тем не менее, из-за того, что 1) в обоих случаях используется образный язык и 2) протестанты крайне предвзяты в данном вопросе и ищут любую зацепку, чтобы исказить смысл слов Христа и утверждать свою догматику, то проще всего говорить об Ин. 20:21-23, где Спаситель выразился ясно и буквально. Кроме совершенно понятных слов "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся", очень важен и их контекст. Христос даровал Апостолам власть прощать грехи сразу после того, как "дунул, и говорит им: примите Духа Святаго". То есть, Господь дал Апостолам (и их приемникам) особый (сугубый) дар Духа Святого, которого не имеют остальные верующие. И Дух Святой облёк Апостолов властью и силой прощать или удерживать грехи, и совершать все остальные Таинства и священнодействия. Об этом, как помнит мой читатель, довольно подробно говорилось в 12-й главе. И Церковь всегда ясно понимала, что священство отпускает грехи не само по себе, а Духом Святым, данным им в особом качестве, как писал о том св. Кирилл Александрийский: "Двумя способами, по моему мнению, отпущают или удерживают грехи люди, облечённые Духом"[Ниже эта цитата приводится полнее]. То есть, облечённые в особом, двойном смысле - не так, как все верующие, которые облекаются Духом только один раз, в Таинстве Миропомазания!
Второе весьма важное обстоятельство заключается в том, что Господь послал своих Апостолов в мир так же, как послал Его Отец: "Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас". То есть, всё, что делал Христос, когда был на земле, всю Свою миссию и власть Он передал Своим), начало входить в употребление на западе с половины XI века, а на востоке с XV, когда встречается оно у Геннадия, константинопольского патриарха... С того времени слово это, как правильно и весьма сильно выражающее мысль догмата, стало постоянно употребляться православною Церковию наравне со словом: преложение Апостолам. Об этом, анализируя 17-ю главу от Иоанна, замечательно говорит Дмитрий Чуйков: "Одной из главнейших мыслей этой главы является следующая: Преславный, Всемогущий, Премудрый и Любвеобильный Бог Иегова, даровал Сыну Своему славу (см. 22 ст.) и способность прославить Отца Своего (см. 1); власть (см. 2 ст.); вечную жизнь (см. 2 ст.), и способность наделять вечной жизнью других (2 ст.); познание истины (25 ст.), и способность передавать это познание другим (ст. 2,3,6); великое дело (4 ст.), и способность совершить его (4 ст.); человеков (6 ст.; см. также 2 ст.), Божественные слова (8 ст.), и способность передать их другим (ст. 8,14); совершенную радость, и способность наделять этой радостью других (13 ст.); великое посланничество, и способность посылать на великое дело других (18 ст.); способность посвящать Себя и других освящать истиною (19 ст.), Свою любовь (23,26 ст.), и способность наделять Божественной любовью других (26 ст.); и всё Свое Отец даровал Своему Сыну (см. 10 ст.). Всё же дарованное Богом Отцом Сыну, Бог Сын передал тем, которых Он дал Ему: славу (22 ст.), и способность прославить Омэтастихиосистца Небесного (ср. 2 Петр. I,3 и Ин. XV,7,8); власть (Ин. I,12; Мф. X,1; ср. Мк. XVI,17,18; Откр. II,26-28); вечную жизнь (Мф. XXVI,26; ср. Ин. VI,51), и способность наделять вечной жизнью других (Ин. XX,31; ср. 1 Ин. V,13); познание истины (Ин. XVII,6-8), и способность передавать это познание другим (Ин. XVII,20); великое дело, и способность совершить его (2 Тим. IV,7); человеков (Мк. I,17; Ин. XVII,20,21); Божественные слова (Ин. XVII,20), и способность передавать их другим (Ин. XVII,20); совершенную радость (см. Ин. XV,11), и способность наделять этой радостью других (см. 1 Ин. I,4); великое посланничество (Ин. XVII,18), и способность делать великими посланниками других (см. 2 Кор. VIII,18,19,22,23); способность посвящать себя (см. 1 Кор. XVI,15; 1 Тим. II,10; ср. с Ин. XVII,19 и 1 Кор. I,30), и других освящать истиною (см. 1 Кор. VII,14); Свою любовь, и способность наделять Божественной любовью других (см. 1 Ин. IV,9-12) и т.д. и т.п. Потому . То есть, Господь дал Апостолам (и их приемникам) особый (сугубый) дар Духа Святого, которого не имеют остальные верующие. И Дух Святой облёк Апостолов властью и силой прощать или удерживать грехи, и совершать все остальные Таинства и священнодействия. Об этом, как помнит мой читатель, довольно подробно говорилось в 12-й главе. И Церковь всегда ясно понимала, что священство отпускает грехи не само по себе, а Духом Святым, данным им в особом качестве, как писал о том св. Кирилл Александрийский: наш Господь и говорит: "Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего" (Ин. XV,15)"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 188-191].
Таким образом, всё, что Отец Небесный поручил совершить Сыну, то Сын, после Своего вознесения на небеса, поручил совершать и Своим Апостолам (в том числе, и прощать грехи), сделав их Своими сотрудниками. Апостолы/sup же через рукоположение передали свои полномочия своим приемникам, прежде всего епископам, а те своим, и т.д. И спорить с этим значит спорить с очевиднейшим, спорить с Евангелием, спорить со Христом.
Протестанты же, слепо преданные своей догматике и совершенно предубеждённые в том, что Христос никак не мог дать человеку власть прощать грехи, просто отказываются верить своим глазам, написанному чёрным по белому тексту Евангелия, и продолжают, вслед за фарисеями, спрашивать: "кто может прощать грехи, кроме одного Бога?" (Лк. 5:21). Христос, в ответ на этот вопрос, сказал, что "Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи", и вскоре передал эту власть, как мы видели, и Своим верным Апостолам. Кроме того, Иисус прямо сказал, что "верующий в Меня дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит" (Ин. 14:12), а также: "Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас" (Ин. 14:20). Так если Сам Христос прямо сказал, что верующие будут творить те дела, которые Он творит и даже большие, и что Он Сам живёт и действует в них, то как можно при этом утверждать, что Господь никому не дал власти прощать грехи? Всё, что делал Христос, делали и Его Апостолы. И к тому, что перечисляет Димитрий Чуйков в вышеприведенной цитате, можно добавить и то, что как Христос спасал людей и даровал им Духа Святого, так и Апостолы и епископы могут спасать и передавать Духа Святого (см. Деян. 8:18; Рим. 11:14; 1 Кор. 9:22; 1 Тим. 4:16). Так если Господь разделяет со Своими рабами, прежде всего священством, даже такие великиеИисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же дела, то не удивительно, что и в прощение грехов они принимают участие. Поэтому, ап. Павел и говорит, что "мы (т.е. прежде всего Апостолы и священнослужители Церкви) соработники у Бога" (1 Кор. 3:9).
О Таинстве Исповеди прообразовательно говорится и в Ветхом Завете: "И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню: и понесет козел на себе /emвсе беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню" (Лев. 16:20-22). Как священники Ветхого Завета перекладывали грехи народа на голову козла отпущения, так при Таинстве Исповеди (а также Крещения) священник Нового Завета перекладывает грехи людей на непорочного Агнца Христа, "Который берет на Себя грех мира" (Ин. 1:29). В 13-й главе было сказано о том, что когда Христос крестился, Он взял на Себя грех мира, а когда крестится верующий, то священник, погружая человека в воду, перекладывает его грехи на Христа. Подобное происходит и в Таинстве Исповеди (которое многие отцы Церкви по этой причине называли вторым крещением), когда священник, посредством возложения на голову кающегося епитрахили и правой руки (которой он крестообразно его благословляет), а также чтения разрешительной молитвы[Разрешительная молитва: "Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит тебе чадо (имя) все согрешения твои, и я, недостойный иерей, властию Его мне данной, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь"], перекладывает его грехи на Христа, Который на Кресте уничтожил грехи верующих в Него.
Итак, мы увидели главное в Таинстве Исповеди - что власть прощаДвумя способами, по моему мнению, отпущают или удерживают грехи ть и оставлять (разрешать и связывать) грехи дал Своим Апостолам (а через них - епископам и пресвитерам через рукоположение) Сам Христос. Этот факт указывает на первый и очевидный смысл этого Таинства - получать верующим прощение своих грехов! Но это Таинство имеет и второстепенные, если так можно сказать, богословские смыслы, или же, оно служит и другим важным целям в духовной жизни и спасении человека, и вот каким.
1) Священник является свидетелем исповеди человека. Во Вт. 19:15 сказано: "Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится (всякое) дело". Димитрий Чуйков так говорит об этом: "…Бог и исповедующий священник есть два свидетеля покаяния исповедующегося: один - Невидимый, другой - видимый. А при двух свидетелях, по закону Божию, состоится всякое дело (см. Втор. XIX,15), в нашем же случае - прощение или не прощение грешника"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 67]. И когда христианин предстанет на Суд Божий, то священник вместе со Христом засвидетельствует пред всей вселенной о его раскаянии. Вот насколько далеко простирается действие этого Таинства.
В связи с этим интересно будет познакомится со свидетельством С. Нилуса о своей исповеди у св. Иоанна Кронштадского: "Более получаса, стоя на коленях, я, припав к ногам желанного утешителя, говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и приносил покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на моем сердце. Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние. Впервые я всем существом своим постиг значение духовника, как свидетеля этого великого Таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божьей в корне зло гордости греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать язвы души пред одним Всевидящим и Невидимым Богом не так трудно для человеческой гордости: горделивое сознание не унижает в тайной исповеди перед Всемогущим того, что человеческое ничтожество называет своим "достоинством". Трудно обнаружить себя пред Богом при свидетеле… Впервые я воспринял всей душой сладость этого покаяния, впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно Сам Бог, устами пастыря, Им облагодатствованного, ниспослал мне свое прощение, когда мне сказал отец Иоанн: "у Бога милости много - Бог простит""[Сергий Нилус, "Великое в малом", глава: "О том, как православный был обращен в Православную Веру"].
2) Священник, произнося разрешительную молитву, ходатайствует пред Богом за кающегося, прося Бога вместе с ним об отпущении его грехов, как говорит о том Димитрий Чуйков: "…священник является ещё и предстоятелем, то есть защитником, заступником Церкви (см. 1 Фес. V,12)["Предстоятелей" - в греческом (проистамэнус), от глагола
(проистими) - стоять впереди, во главе, начальствовать, управлять, защищать, заступаться, ходатайствовать, посредничать. Прим. Д.Ч.], Самим Богом поставленным и уподобленным Христу на благо всей паствы. И как учит нас Библия: Господь, если и не ради грешника, то ради ходатаев Своих - Христа и рукоположенного Христом священника, - простит исповедавшегося (ср.: Быт. XX,7,17; Иов. XLII,7-9; 1 Ин. II,1)"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 67-68].
Протестанты говорят, что О елеопомазании и бракенам не нужны другие посредники, кроме Христа. Но по учению Евангелия не только Христос, как по причине невежества и не внимательного чтения Библии думают протестанты, но и христовы, тем более пастыри Церкви, имеет право ходатайствовать пред Богом - об этом уже говорилось в 4-й главе. К тому же, в свою бытность баптистом я хорошо помню, как многие мои единоверцы, когда кто-то каялся у кафедры и говорил "прости меня, Господи", хором, довольно громко, повторяли: "прости, Господи!" А что это есть, как не ходатайство? И если каждый христианин имеет право просить Бога о прощении грехов наших ближних, то тем более имеет право и даже обязан это делать священник, которому дана власть отпускать грехи, пасти стадо Христово и быть его заступником и предстоятелем пред Богом.
3) Священник помогает человеку исповедаться, т.е. выявить свои грехи. Ведь часто человек, по духовной неопытности, просто не знает, в чём он грешен. Задача исповедующего священника показать человеку на его возможные грехи, рассказать, что вообще является грехом, чтобы дать ему возможность осознать их, исповедать и победить. После этого священник даёт советы и рекомендации к тому, как нужно бороться с теми или иными грехами, а иногда, в случае серьёзных грехов, и епитимии, которые являются ничем иным, как именно средствами к победе над грехами и принесением достойных плодов покаяния.
Об этой стороне Таинства Исповеди также пишет Димитрий Чуйков: "В борьбе с грехом, оно ("наставление священника") ничем не заменимо, так как, благодаря ему, человек, открывший свою душу исповедующему, уже не остается сражаться один на один с великим и ужасным драконом (ср. Иак. V,16 и Откр. XII,9), в тягостной усталости своего уныния, досады, а не редко и отчаяния. Теперь уже, за кающегося заступается в лице священника вся Вселенская Церковь, с Её огромным опытом духовных побед"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., сс. 68-69].
Итак, наставления священника, особенно зрелого и опытного в духовной жизни, является важной составляющей Таинства Исповеди. Регулярная исповедь очень помогает человеку сознательно и серьёзно относится к своей духовной жизни, учит его контролировать, запоминать и оценивать свои поступки и мысли, т.е. - более успешно проходить путь освящения. Протестантизм, кстати, знает об идее душепопечительства (хотя это явление, как и многое другое, например, пост, имеет в протестантизме не основательный и произвольный характер). Так вот, общение духовника с исповедующимся является именно душепопечительством, когда пастыри Церкви действительно пасут, направляют и наставляют своих словесных овец, которые им вверены Богом. Иногда такие душепопечительские исповеди могут длиться довольно долго, что я лично наблюдал в одном монастыре, где почтенный безногий 80-тилетний старец-священник Кирилл по 20-40 минут беседовал и наставлял каждого исповедующегося.
4) Свидетельство человеку из уст священника о прощении его грехов. Когда человек согрешает пред Богом, то он может и должен просить у Него прощение за содеянное, но как ему быть уверенным, что Господь простил Его? - как пишет о том Димитрий Чуйков: "…хотя грешник и может искренне раскаяться в своей душе, но человек, согрешивший пред Богом и осознающий свою вину, никак не может простить сам себя, - потому что он согрешил перед Богом"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 66].
Для протестантов такого вопроса не существует из-за их крайне легкомысленного отношения ко греху. Они скажут, что мы всегда можем точно знать, что мы прощены, ибо имеем о том прямое обетование Божие: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Ин. 1:9).
Но, во-первых, здесь сказано "если исповедаем", но перед кем - одним только Богом или и перед людьми и священником, здесь не говорится. Исповедание (греч. - эксомологесис) же грехов чаще всего имеет и в Евангелии (см. Мф. 3:6; Деян. 19:18) и в древней Церкви (см. ниже) значение публичного исповедания. Поэтому, протестанты, у которых нет Таинства Исповеди, не могут видеть иного значения 1 Ин. 1:9, как только личное исповедание грехов пред Богом. Православные же понимают это место, прежде всего, так, что если мы исповедаем свои грехи в Таинстве Исповеди, пред Богом и его священником, то Бог, устами Своего священника, простит нам наши грехи. Вот так верующий и узнаёт, что его грехи прощены. И если бы протестанты признавали Исповедь, и знали, что она всегда, от начала, была в Церкви, то они бы не спорили со справедливостью такого понимания.
Во-вторых, Бог простит нам грехи, если мы в них раскаемся, ибо исповедь перед священником есть лишь вершина покаяния, совершаемого в душе человека лично пред Богом. Покаяние же это не только признание и исповедание своих грехов, но и 1) сокрушение в грехах, а также - 2) принесение плодов покаяния, как говорил о том Иоанн Креститель: "сотворите же достойные плоды покаяния" (Лк. 3:8), а вслед за ним св. Василий Великий: "Кающимся недостаточно ко спасению одно удаление от грехов, но потребны им и плоды, достойные покаяния"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 434].
Но как человек может достоверно знать, что он раскаялся должным образом, и что принёс достаточные плоды покаяния? Протестант в этом случае судит себя сам, и сам решает, что да, моё раскаяние искреннее, и я принёс достойные плоды покаяния. И он не замечает того, насколько в такой позиции много гордости, самонадеянности, обольщения и, опять же, легкомысленности. Для православного же человека, который относится к своему спасению и грехам с намного большей серьёзностью, это очень важный вопрос - истинно ли его сокрушение о грехах, и достаточно ли он явил плоды покаяния, и, в итоге, принял ли Бог его покаяние и простил ли? Поэтому, для согрешившего и кающегося очень важно услышать свидетельство о том, что он прощён от Самого Бога, из уст Его священника, а не просто от своей души[То есть, протестант уверен, что Бог его простил, потому, что ему об этом свидетельствует его душа; он чувствует уверенность в прощении. Но именно это чувство часто бывает обманчиво, тем более у протестантов, которые находятся в прелести и власти обманувшего их дьявола], которая может ошибаться. И свидетельство священника о прощении грехов как правило бывает для православного христианина большой радостью и облегчением, снимающем с души тяжесть вины и сомнений.
5) Благодатная сила для господства над грехом. Всякое священнодействие Церкви, прежде всего Таинства, как было сказано, за видимой своей стороной сообщают верующему особую невидимую и спасительную благодать Божию. Посему, Таинство Исповеди неприменно сообщает кающемуся не только благодать прощения грехов, но и благодать как силу и Божью помощь для победы над всяким грехом.
Кстати, здесь следует вспомнить то, о чём было сказано во введении ко 2-й части книги, что протестантизм, отрицая Таинства, тем не менеstrongе, будучи по природе антицерковью, призванной подражать истинной Церкви, имеет их подобия. Так вот, подобием Таинства Исповеди у протестантов, например, у баптистов, служит покаяние пред кафедрой, совершаемое, обычно, один раз в жизни. И хотя некоторые баптисты признают и личное покаяние пред Богом дома, тем не менее, они весьма тяготеют (и часто даже требуют) к тому, чтобы это покаяние совершилось непременно в собрании перед кафедрой. Так, когда лично я сообщил нашему пастору о том, что я покаялся и хочу принять крещение, то он потребовал от меня обязательно покаяться в собрании перед кафедрой, что я и сделал.
И это не частный случай: баптисты действительно считают такое "покаяние" намного лучшим, чем домашнее. Почему же? Именно потому, что они понимают, осознано или нет, необходимость и важность тех пяти составляющих публичной исповеди, о которых выше было сказано. То есть, они понимают, 1) что покаяние человека должно быть при свидетелях; 2) что очень важно и хорошо, чтобы человек не сам помолился Богу, но чтобы о нём помолился (походатайствовал) пастор и вся церковь, 3) чтобы пресвитер дал наставления покаявшемуся, 4) чтобы пресвитер, а также хор, поющий в этих случаях специальным псалом, засвидетельствовали покаявшемуся о том, что его грехи действительно прощены; 5) что такое публичное покаяние сильнее действует на душу человека, и даёт ему большую решимость и силу не грешить впредь!
К этому можно добавить и то, что баптистами осознаётся необходимость покаяться не дома, а на "святом месте", в доме молитвы, что важно и для православных. И это удивительно - теоретически отрицая Исповедь, проповедуя, что человек получает спасение и прощение грехов непосредственно от Христа, сам, без Церкви, на деле протестанты ощущают необходимость и вовсе не излишность участия в этом процессе церкви, прежде всего, пресвитера, хотя это и происходит у них однажды в жизни. Протестантов, на самом деле, очень жаль. Ум их обманут бесовскими лжемудрствованиями реформаторов, но душа их, которая по природе православная христианка, тянется к тому, что от Бога, что соответствует её духовным потребностям, что соответствует Божественному Логосу, по которому она сотворена. Об этом противоречии протестантского ума и души уже упоминалось, например, в 1-й главе, когда говорилось о том, как артёмовский пресвитер, будучи на Голгофе, душой хотел поцеловать камни на этой святой горе, но умом не мог этого сделать.
Теперь: почему протестанты признают только одно покаяние-исповедь[Хотя даже в этот один раз в жизни далеко не все протестанты объявляют и конкретно называют свои грехи; многие каются в общих словах: "прости меня, Господи, за все мои грехи"], а не исповедуются постоянно, как православные? Пожалуй, важнейшая тому внутренняя причина (кроме внешне-богословской, заключающейся в отвержении Таинства Исповеди как такового) заключается в глубокой прелести (обольщения) протестантов, в их убеждённости в своей святости и спасённости. То есть, даже если бы у протестантов и была возможность исповеди, то мало бы кто из них исповедовался, потому что протестанты искренне считают себя святыми, или признают за собой только какие ни будь незначительные согрешения. На самом же деле, если бы они только начали настоящую, а не свою "игрушечную" суррогатную духовную жизнь, они бы могли познать, какими на самом деле огромными страстями и грехами наполнена их душа.
Этого тезиса нельзя доказать протестантам математически, нельзя привести убедительные свидетельства. Это может душа сама осознать и самой себе признаться, если только по настоящему решиться жить духовной жизнью, попросит Бога показать ей саму себя[Будучи баптистом, я слышал от одного пастора о так называемой молитве пяти пальцев: "Господи, покажи мне каков Ты", и "Господи, покажи мне каков я". Молитва эта не имеет большого распространения среди протестантов, но в ней можно было бы усмотреть попытку познания своей греховности, если бы не было целого православного мира аскетики, богословской науки о самопознании, покаянии и освящении, по сравнению с которым эти протестантские попытки (особенно если учитывать, что в рамках протестантизма, пока человек не крещён, не имеет Духа Святого и находится в стане врагов Христа, Бог не может показать человеку его истинное состояние души и его греховность: это возможно, только если человек начнёт двигаться к Православию) являются детским лепетом и даже не первым классом, а какой-то ясельной группой детского сада], и начнёт вникать в православную духовность. Я могу только засвидетельствовать лично за себя, что самое сильное и яркое моё впечатление после обращения в Православие было ощущение себя великим грешником, в душе которого есть сочувствие ко всем грехам! От этого чувства приходило даже отчаяние. И это пережили и могут подтвердить все протестанты, обратившиеся в Православие. Этот опыт неизбежен, ибо для того, чтобы начать православный, истинный путь освящения, Бог для начала показывает человеку истинное убогое состояние его души, чтобы вывести человека из состояния прелести и самообольщения, и дать ему возможность понять, насколько он нуждается в Спасителе и благодати. И вот тогда, мой протестантский читатель, когда вы переживёте это на себе, вам, поверьте, станет намного понятнее то, почему и для чего настоящие православные не один раз, а регулярно исповедуются.
Теперь следует сказать об епитимиях - важной составляющей Таинства Исповеди.
Прежде всего, о чём нужно знать, особенно протестанту, что слово это греческое, новозаветное; его использует ап. Павел во 2 Кор. 2:6: "Для такого довольно сего наказания ( - епитимия) от многих…". Таким образом, епитимия это церковное наказание за грехи, но наказание отнюдь не как расплата и воздаяние за грехи, а как материнское вразумление, и как принесение плодов покаяния. Митр. Макарий пишет об этом так: "Епитимии, хотя, по существу своему, суть наказания, но по значению, наказания только исправительные, врачебные, отеческие (
), точно такие, о каких говорит Апостол: Господь, кого любит, того наказывает (
) (Евр. 12:6), и в другом месте: наказываемся от Господа, чтобы не быть осуждёнными с миром (1 Кор. 11:32). А отнюдь не наказания в собственном смысле (
), как учит римская Церковь, которые будто бы должен временно понести кающийся грешник, чтобы удовлетворить за грехи свои оскорблённой правде Божией"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 442].
Кстати, в данном своём труде в разделе "Значение епитимий" митр. Макарий подробнее говорит об этой существенной разнице между католическим и православным пониманием епитимий, а в следующем разделе говорит о "Несправедливости учения римской Церкви об индульгенциях". Поэтому, если протестант отождествляет православное учение о Таинстве Исповеди и епитимиях с католическим, где за деньги покупалось освобождение от наказаний за грехи, а епитимии включали в себя пытки и смертную казнь через сожжение, то это большая ошибка.
Теперь: по какому праву священники налагают на грешников епитимии? "Власть налагать епитимии - говорит митр. Макарий - на некоторых кающихся и как бы связывать их на время своим запрещениями Церковь получила от самого Господа вместе с тем, как получила от Него власть и отпущать грехи. Ибо Господь сказал св. Апостолам, а следовательно и их приемникам, не только: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе (Матф. 18, 18), - не только: кому простите грехи, тому простятся, но вместе: на ком оставите, на том останутся (Ин. 20, 23)"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 441]. Нужно отметить, что епитимии налагаются отнюдь не за все грехи - многие просто и сразу прощаются, но за грехи особо тяжкие, которые нуждаются в уврачевании и существенных плодах покаяния.
Смысл и причина епитимий отнюдь не в недостатке милосердия. Епитимии Церковь рассматривает, как было сказано, только как врачевание от грехов, как лекарство. Ведь Господь наказывает тех, кого любит, не потому, что у Него не хватает милосердия к ним, но наказывает Он их именно по любви, ради их пользы, исправления и совершенства. Также и врач назначает горькое лекарство не для наказания больного, но для его уврачевания (исцеления). И как лекарства назначаются не одни и те же, но разные, в зависимости от болезней, так и епитимии назначаются не всегда одинаковые, ибо суть их - помочь согрешившему исцелиться от конкретного греха. И епитимии Церковь понимает только в таком ключе.
Св. Григорий Нисский пишет, например: "Как в телесном врачевании цель врачебного искусства есть едина, возвращение здравия болящему, а образ врачевания различен: ибо по различию недугов к каждой болезни прилагается приличный способ лечения: так и в других болезнях (духовных), по множеству и разнообразию страстей, необходимым делается многообразное целебное попечение, которое соответственно недугу производит врачевание… Посему хотящий приложити приличное врачевство к недугующей части души, должен, во-первых, рассмотрети, в которой части произошла болезнь; потом к страждущей, по приличию, прилагати врачевство так, чтобы не было, по незнанию врачевательного способа, подаваемо врачевство единой части, когда болезнь находится в другой"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 445. Здесь же, сс. 444-445, митр. Макарий приводит и другие подобные высказывания святых Отцов и целых Соборов, которые понимают епитимии только как врачевание от греха].
Поэтому, если человек согрешил, например, воровством, или поражён страстью сребролюбия, то ему следует назначить совершение дел милосердия и оказание милости, чтобы человек через это мог принести достойные плоды покаяния. Так, Закхей, который обижал людей, тем и оправдался и получил похвалу от Спасителя, что решился сделать дела противоположные своему греху - раздать половину своего имения нищим, и воздать обиженным им вчетверо (см. Лк. 19:5-10). Или если женщина совершила аборт, то ей также назначаются епитимии, соответственные этому греху. И раз суть его в эгоизме и не милосердии, то и назначать нужно ей такие епитимии, которые помогли бы ей вернуться душой к любви и самопожертвованию. Священник может ей назначить, например, постоянно жертвовать со своих доходов какую-то часть бедной многодетной семье, помогая нянчить детей. Ведь как она не захотела когда-то по эгоизму тратиться на своего ребёнка, и была к нему крайне немилосердна, так теперь пусть покажет Богу своё раскаяние и особую милость к детям - это будет соответствующими плодами её покаяния.
Митр. Макарий пишет: "Епитимии, большей частью, состоят из каких либо благочестивых упражнений, которые прямо бывают направлены против известных страстей и пороков грешника, и поэтому непосредственно способствуют к искоренению их. Так, человеку невоздержному и сластолюбцу назначается епитимиею воздержание, пост; скупому или хищнику - раздаяние милостыни; рассеянному и гонящемуся за мирскими удовольствиями - частое хождение в церковь, чтение св. Писания, домашняя молитва и под. Очевидно, что чем более каждый из этих грешников будет с благим расположением выполнять назначенную епитимию, тем более он будет отвыкать от прежних своих слабостей и наклонностей, и приобретать противоположный навык"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 446].
О смысле и назначениях церковных епитимий очень хорошо и объёмно сказал патриарх константинопольский Иеремия: "отпущение грехов мы сопровождает епитимиями по многим уважительным причинам:
во-первых, для того, чтобы, чрез добровольное злострадание здесь, грешнику освободиться от невольного, тяжкого наказания там в другой жизни; ибо Господь ничем столько не умилостивляется, как страданием добровольным. Потому и св. Григорий говорит, что "за слёзы воздаётся человеколюбием".
Во-вторых - для того, чтобы истребить в грешнике те страшные вожделения плоти, которые порождают грех; ибо мы знаем, что противное врачуется противным.
В-третьих - для того, чтобы епитимия служила как бы узами или уздою для души, и не давала ей снова приниматься за теже порочные дела, от которых ещё только что очищается.
В-четвёртых, для того, чтобы приучить к трудам и терпению; ибо добродетель есть дело трудов.
В-пятых - для того, чтобы нам видеть и знать: совершенно ли кающийся возненавидел грех? Но того, кто собирается уже отходить от мира, мы от всего этого освобождаем, и отпущаем ему грехи, довольствуясь одною только искренностью его раскаяния и чистосердечием обращения"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 455].
Здесь нужно заметить, что за большие грехи Церковь обычно предусматривает отлучение от участия в причащении на некоторое время, ибо для принятия такой святыни человеку необходимо прежде очиститься от греха покаянием.
В протестантизме же, поскольку у него нет Таинства Исповеди, нет и очень важной для духовной жизни учения и практики епитимий. Есть только его отзвук, который можно усмотреть в том, что баптисты, например, если кто-либо из их членов серьёзно согрешил, ставят его на замечание или отлучают от церкви, а если он кается, то назначают ему испытательный срок, в который он не допускается к участию в хлебопреломлении. Это является у баптистов епитимией, хотя они и не пользуются этим словом. Но кроме того, что протестанты, по своему сектантскому обычаю всё усекать, оставили только небольшую часть из всего учения Церкви об епитимиях, в этом они противоречат себе. Ведь они считают, что только Бог может прощать или не прощать грехи. Почему же они тогда не прощают грехи своим братьям, когда они каются, и удаляют их от участия в хлебопреломлениях и членских собраниях, определяя им испытательный срок? Ведь это есть ничто иное, как епитимия, как наказание, как временное не прощение. Какое же они имеют на это право, если прощать и не прощать грехи может только Бог?
Теперь рассмотрим выдержки из документов древней Церкви, свидетельствующие о том, что Церковь изначала признавала за своим священством власть отпускать и удерживать грехи.
Пожалуй, самое первое уп/emоминание об исповеди находися в древнейшем церковном памятнике I-го века "Дидахе" (Учение двенадцати Апостолов), который даже многие протестанты признают авторитетным. Так вот, в главе 4 мы читаем: "В церкви исповедуй грехи свои", а также: "В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши наперёд прегрешения ваши, дабы чиста была жертва ваша" (14 гл.). Хотя здесь нет прямого указания на то, что нужно исповедоваться перед священником (или всей церковью), но это подразумевается, ибо, во-первых, если понимать по протестантски, что исповедоваться в грехах нужно перед Богом, а не перед человеком, то для чего нужно исповедоваться в церкви, а не дома?
Во-вторых, из Нового Завета мы знаем, что уверовавшие исповедовались в своих грехах не только перед Богом, но и перед церковью. Так, в Деян. 19:18 мы читаем: "Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои". Приходили эти люди, конечно же, в церковь, и открывали свои грехи перед собранием верных, и прежде всего, естественно, перед её священством - Апостолами, епископами, пресвитерами и диаконами. Также, ещё до рождения Церкви, когда проповедовал Иоанн Креститель, "Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои" (Мф. 3:5-6) - исповедовали, естественно, не одному Богу, но и Иоанну.
В-третьих, из истории Церкви мы достоверно знаем, что в первые века верующие исповедовались в своих грехах публично, причём не только перед священником, но перед всем собранием (хотя принимал исповедь прежде всего предстоятель).
Св. Климент Римский, ученик и ставленник Ап. Петра на римскую епископскую кафедру, в "Постановлениях Апостольских" записал то, что слышал от него. Так вот, в книге II, п. 15, 16, 38, 40-43, 48, даются наставления к тому, как епископу поступать с согрешающими, и какие наказания и на какой срок им давать: "А когда увидишь ты кого согрешившим, то, огорчившись, прикажи извергнуть его вон… Тогда ты прикажи ему войти, и, дознав, кается ли он и достоин ли быть совершенно принятым в Церковь, и, назначив ему пост, смотря по греху, на две, или на три, или на пять, или на семь седмиц (недель), так отпусти его, сказав ему, что прилично сказать наказующему в научение и убеждение согрешившего, чтобы пребывал дома, смиренномудрствуя и прося Бога оказать ему милость…" (п. 16), и прочее. Всё это ясно свидетельствует о том, что в Церкви изначала было понимание того, что священству дана от Бога власть призывать верующих к покаянию, принимать их исповедание и прощать или наказывать за грехи, то есть, давать епитимии.
Особо замечательно в этой книге наставление о почитании пастырей Церкви: "Если о родителях по плоти говорит божественное изречение: "чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет", и: "кто злословит отца или матерь, смертью да умрет"; то во сколько более относительно родителей духовных убеждает вас слово Божие, чтобы чтили и любили их, как благодетелей и предстоятелей пред Богом, которые возродили вас водою, исполнили вас Духом Святым, молоком напитали вас, словом, вскормили вас учением, утвердили вас вразумлениями, сподобили вас спасительного тела и драгоценной крови, разрешили вас от грехов, сделали причастниками святой и священной евхаристии и соделали вас общниками и сонаследниками обещания Божия? Благоговейте пред ними и чтите их всякою честию; ибо они получили от Бога власть жизни и смерти, власть судить и осуждать согрешивших на смерть огня вечного и разрешать и оживотворять обращающихся от грехов" (п. 33).
Итак, совершенно ясно, что древняя Церковь во главе с Апостолами вполне признавала власть своих пастырей отпускать и удерживать грехи.
Св. Климент в своё время написал также послание к коринфской церкви, по поводу случившихся там беспорядков. Так, в главе 51 он говорит: "Лучше исповедать грехи пред человеком, нежели ожесточать сердце", а также: "покоритесь пресвитерам, и примите вразумление к покаянию" (гл. 57). Но здесь же он утверждает, что "Господь ни в чем не имел нужды, и ничего ни от кого не требует, кроме исповедания Ему" (гл. 52).
Из сопоставления этих мест нужно сделать ясный вывод, что христиане от начала исповедовались перед Богом и пресвитером, что в Православии совершается до сих пор: человек исповедуется Господу перед священником, который является свидетелем исповеди, и который отпускает ему грехи не своей, а Христовой властью.
Св. Ириней Лионский († 202 г.) писал: "И одни из них (еретиков) тайно растлевают женщин слушающих у них это учение, как неоднократно многие женщины, обольщенные некоторыми из них, и потом обратившиеся в церковь Божию, исповедали вместе с прочими заблуждениями и это…". И далее: "Такими словами и действиями они и в наших Ронских странах обольстили многих женщин, будучи сожжены в совести своей. Некоторые из них одни въявь исповедуются в этом, а другие по стыду не решались на это, и втайне, некоторым образом отчаявшись в жизни Божией…"[Против ересей, книга 1, гл 6, п. 3; гл. 13, п. 7].
Здесь св. Ириней не уточняет того, исповедывались ли согрешившие перед священником или всей церковью, но ясно то, что в древности считалось необходимым исповедоваться не только перед Богом, но и перед церковью, прежде всего, естественно, перед священством. Кроме того, выражение "исповедали вместе с прочими заблуждениями и это" говорит о том, что грешник не просто признавал себя в общем смысле грешником, что делают и протестанты в молитвах, в том числе и прилюдных, но он конкретно объявлял и называл свои грехи.
Св. Ипполит Римский (II-III вв.) приводит молитву при посвящении епископа: "Отче, ведающий сердца, даруй сему рабу Твоему, избранному Тобою для епископства, пасти Твое святое стадо и безупречно соблюдать перед Тобою первенство священства служением Тебе днем и ночью, днем и ночью непрестанно умилостивлять Твое Лицо и приносить дары Твоей Святой Церкви и благодатью Духа, сподобившего первенства во священстве, иметь власть отпускать грехи по заповеди Твоей и жаловать жребии, согласно Твоему повелению, а также разрешать всякие узы по власти, данной Тобою апостолам, и угождать Тебе в кротости и чистоте сердца, принося Тебе благоухание [молитвы], с помощью Отрока Твоего Иисуса Христа, через Которого Тебе слава и сила и честь, Отцу и Сыну со Святым Духом, и ныне и во веки веков. Аминь"["Апостольское предание", гл. 3]. Св. Киприан († 258г.) пис[Димитрий Чуйков, ал: "Власть разрешать что-либо на земле так, чтобы это разрешалось и на небе, Господь дал прежде Петру…, а по Воскресении и всем апостолам, говоря: как послал Меня Отец… (Ин. 20:21-23). Отсюда понятно, что крестить и давать отпущение грехов могут в Церкви только предстоятели…, а вне Церкви ничто не может быть ни связано, ни разрешено, так как там нет никого, кто мог бы связать что-нибудь или разрешить…"[Письмо к Юбаяну].
И в другом месте: "И по вере более и по страху лучше те, которые не сделали никакого важного преступления, а только лишь помыслили о нем, исповедуют однако ж это с сокрушением и в простоте пред иереями Божиими, раскрывают совесть свою, полагают пред ними бремя души своей, ищут спасительного врачевства, хотя малым и неопасным ранам… Прошу вас, возлюбленнейшая братия, да исповедуем каждый свой грех, доколе согрешивший находится ещё в сей жизни, когда исповедь его может быть принята, когда удовлетворение и отпущение, совершаемое через священника, угодно пред Господом"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 427].
Выступая же против ереси Новата и Фелициссима, - которые учили, что тяжко согрешивших, отпадших от церкви во время гонений, нужно принимать в церковное общение сразу, без всякой исповеди, епитимии и испытательного срока, - св. мученик писал: "Грешники и в меньших грехах должны приносить покаяние в установленное время и по уставу благочиния совершать эксомологесис[Греч. - исповедание. Это слово используется, например, в Деян. 19:18 и Мф. 3:6, которые приводились выше] и через возложение руки епископа и клира получать право общения, а теперь в такое тяжкое время… их допускают к общению, возглашают в молитвах их имя, и без произнесения ими исповеди, без совершения эксомологесиса, без возложения на них руки епископа и клира преподаётся им евхаристия"[Письмо 9, к клиру, п. 2. Цит. по: А.Л. Катанский, "Догматическое учение о семи церковных таинствах", М. 2003, изд. "Паломник", с. 351].
И ещё: "Ибо если при меньших преступлениях, содеянных против Господа, совершается в определённое время покаяние и бывает при рассмотрении жизни кающегося эксомологесис и никто не может войти в общение прежде возложения на него руки епископа с клиром, то во сколько более при этих самых тяжких и крайних преступлениях надлежит всё делать осмотрительно и обдуманно согласно учения Господа"[Письмо 11, к народу, п. 2. Цит. по: А.Л. Катанский, "Догматическое учение о семи церковных таинствах", М. 2003, изд. "Паломник", с. 352].
Ещё одна цитата: "Несправедливо было бы… при отшествии из здешнего мира, отпускать их (падших, но кающихся и несущих церковную епитимию) ко Господу без общения и мира, когда Он Сам дозволил и дал закон, что связанное на земле будет связано и на небесах и что там только то может быть разрешено, что разрешено прежде здесь в церкви"[Письмо 11, к Корнилию, п. 1-2. Цит. по: А.Л. Катанский, "Догматическое учение о семи церковных таинствах", М. 2003, изд. "Паломник", с. 356].
Св. Киприан также писал, что падшие могут "исповедать свой грех пред всяким, какой случится, пресвитером, или, в крайнем случае, если не будет пресвитера, то даже пред диаконом, чтобы, по возложении на них руки в покаянии они отошли ко Господу с миром"[Письмо 12, к клиру, п. 1. Цит. по: А.Л. Катанский, "Догматическое учение о семи церковных таинствах", М. 2003, изд. "Паломник", с. 353].
Итак, св. Киприан ясно учит, что исповедание грехов должно совершаться пред "пресвитером" и "иереями Божиими", которые имеют власть отпускать и разрешать грехи, и что разрешение от грехов и допущение к церковному общению, прежде всего к участию в Евхаристии, происходит через возложение руки епископа или священника. Удивительно, но всё, описанное св. Киприаном, происходит доныне в Церкви, что очередной раз говорит о том, Православие, а не протестантизм, сохраняет "веру, однажды преданную святым" (Иуд. 3).
Кстати сказать: Исповедь, по учению св. Киприана и всей древней Церкви, имеет все признаки Таинства. Напомню, что Таинства есть священнодействия, установленные Господом, совершаемые священнослужителями Церкви, которые за видимой своей стороной сообщают верующему особую невидимую и спасительную благодать Божию. Так вот, Исповедь есть священнодействие, установленное Самим Христом и совершаемое священнослужителями Церкви, в котором за видимой своей стороной, т.е. возложением руки иерея и произнесением разрешительной молитвы, верующему сообщается невидимая и спасительная благодать - прощение грехов и сила для победы над ними.
Епископ Фирмилиан, современник и друг св. Киприана, в письме к нему писал: "Это значит, что власть отпускать грехи дарована апостолам.., а затем епископам, которые наследовали им по преемству посвящения"[Письмо к Киприану епископа Фирмилиана. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 87].
Тертуллиан в книге "О Покаянии" (гл. 12) говорит о необходимости пНесправедливо было бы… при отшествии из здешнего мира, отпускать их (падших, но кающихся и несущих церковную епитимию) ко Господу без общения и мира, когда Он Сам дозволил и дал закон, что убличной исповеди в грехах: "Если ты еще сомневаешься в целесообразности публичного покаяния, представь себе геенну, которую лично для тебя оно угасило, и чтобы ты не сомневался в необходимости лечения, вообрази тяжесть наказания (…) Итак, ты знаешь, что, кроме первого оплота против геенны, даваемого при Господнем крещении, у тебя имеется еще и второе средство - в виде публичного покаяния. Так почему же ты пренебрегаешь своим спасением? Что ты медлишь приступить к тому, что, как ты знаешь, принесет тебе исцеление? (…) грешник, зная данное Богом для его исцеления публичное покаяние, обходит его, хотя именно оно восстановило на царстве вавилонского царя!".
Здесь требуется дать объяснение насчёт публичной исповеди. Митр. Макарий пишет об этом так: "…хотя в древней Церкви существовал двоякий образ исповеди: всенародный, совершавшийся пред всею Церковию, и частный пред одним священником; но и при первом образе исповеди, которую слушали все Христиане, право отпущать или не отпущать грехи кающимся принадлежало только одним пастырям, как и при последнем. Следовательно в том и другом случае существо таинства покаяния оставалось неприкосновенным. С течением времени Церковь, по материнской снисходительности к своим чадам, отменила всенародный образ исповеди, нимало не изменив тем самого таинства"["Православно-догматическое богословие", том II, с. 434].
Почему публичная исповедь была отменена, и в чём здесь "материнская снисходительность" Церкви понять не трудно.
Во-первых, человеку бывает весьма трудно даже одному человеку, священнику, рассказать о своих грехах, тем более личного характера. А требование рассказывать о своих грехах всему собранию для многих стало слишком тяжким испытанием, особенно когда со временем во многих стала угасать вера и любовь, и грех стал умножаться.
Во-вторых, такой образ исповеди, всенародный, мог быть только тогда, когда Церковь не только пламенела любовью, но и постоянно находилась в гонениях и презрении, отчего к Ней почти не прилеплялись посторонние или маловерующие люди. Когда же, во времена свободы, в Церковь стали приходить разные, и духовные и малодуховные люди, то слушание чужих грехов стала для собрания служить больше соблазном, чем назиданием в вере.
В-третьих, информация, услышанная на таких исповедях, могла быть обращена во вред кающемуся, которого могли, например, посадить в тюрьму за кражу. Поэтому, такая исповедь со временем и была отменена. Но не нужно думать, что при этом Таинство Исповеди было повреждено. Нет, ибо существеннейшей его составляющей и в те времена была роль священника, ведь он, а не народ, имел власть отпускать грехи. Народ же принимал исповедь человека вместе со священником потому, что это для него, как и для самого исповедника, было полезно и назидательно, и укрепляло любовь и смирение между верующими. Но когда такая исповедь стала более вредной, чем полезной, Церковь отменила её, "нимало не изменив тем самого таинства".
Хотя можно заметить, что отменила Она это не навсегда и не принципиально. Ведь, например, когда явился в Церкви великий и необычайно духовно одарённый пастырь Иоанн Кронштадский, то он проводил всенародные исповеди. Ему удавалось своими молитвами и проповедями настолько сокрушить и смирить верующих, что они уже без стеснения прилюдно объявляли свои грехи. Также, когда перед Пришествием Христовым Церковь опять воспламениться Духом, о чём есть много пророчеств, то многие реалии жизни древней Церкви - обильные дары чудотворения, общение имуществ, всенародная исповедь и пр., по всей видимости, возвратятся.
Ориген (II-III вв.): "Тот, кто получил дуновение от Иисуса, как апостолы…, отпускают такие грехи, которые отпустил бы Бог"["О молитве", гл. 28. Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 90].
А также: "Есть ещё отпущение грехов, хотя тяжкое и трудное, через покаяние, когда грешник омывает слезами ложе своё (Пс. 6, 7), и бывают ему слёзы хлебом день и ночь (Пс. 41, 4), и когда он не стыдится открыть свой грех пред священником Господним и просит у него врачевства".
И ещё: "если согрешили мы, то должны говорить: я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления мои" (Пс. 31, 5). Если сделаем это и откроем свои грехи не только Богу, но и тем, кои могут врачевать язвы и грехи наши, то изгладит наши грехи говорящий: Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако (Ис. 44, 22)"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 435-436].
Св. Ефрем Сирин (IV в.): "без достоуважаемого священства не даётся отпущение грехов"["Слово о священстве". Цит по: В. Экземплярский, "Библейское и святоотеческое учение о сущности священства", изд. "Пролог" 2007 г., с. 137].
Св. Василий Великий (IV в.): "Исповедывать грехи необходимо пред теми, кому вверено домостроительство таинств Божиих". "Гораздо приличнее (для инокини) и безопаснее такая исповедь, которая бывает при старице пред пресвитером, способным предложить способ и исправления"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 427-428].
Св. Иоанн Златоуст (IV в.) говорил о священниках: "Обитают ещё на земле, а допущены распоряжаться небесным, получили такую власть, какой не дал Бог ни Ангелам, ни Архангелам. Ибо не Ангелам сказано: что свяжете на земле… Имеют власть вязать и начальствующие на земле, но только одни тела; а сия власть касается самой души и восходит до неба, ибо что священники определяют долу (внизу), то Бог утверждает горе (вверху), и Владыка согласуется с мнением Своих рабов".
И в другом месте: "Отец весь суд дал Сыну (Иоанн. 5, 22): теперь вижу, что Сын весь суд отдал священникам… Священники иудейские имели власть очищать тело от проказы, или лучше сказать, не очищать, а только свидетельствовать очищенных (Лев. гл. 14)...; но священники новаго завета получили власть не свидетелями быть очищенных, а очищать, притом не проказу тела, но скверну души"["О священстве", III, 4, 5, 6. Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 428-429].
А также: "…в собственных грехах не людей будем стыдиться, но убоимся, как должно, Бога, Который и ныне видит дела наши, и в будущем веке накажет не покаявшихся (…). Кто ныне опасается стыда от людей только, а не стыдится делать что-либо непотребное перед Всевидящим Богом, притом не хочет покаяться и исправиться, тот в будущий день суда не перед одним или двумя человеками, а ввиду всей вселенной будет выставлен на позор"[Беседы на Евангелие от Иоанна, беседа 34, п. 3].
Очевидно, что сей св. отец ясно понимает, что грешник должен исповедовать свои грехи не только перед Богом, но и при свидетеле-человеке[Упоминание о двух человеках при исповеди, возможно, указывает на то же самое, о чём говорил св. Василий в вышеприведенной цитате], т.е. священнике. Слова "кто ныне опасается стыда от людей… тот… ввиду всей вселенной будет выставлен на позор" выявляют веру св. Иоанна в то, что без такой исповеди, пред священником, грешник не получит отпущения грехов.
Вот что ещё говорил этот вселенский учитель о священнической власти прощать грехи в Исповеди: "Плотские родители никакой не могут оказать помощи детям своим, когда сии оскорбляют какого ни будь знаменитого и сильного человека; но священники примиряют духовных чад своих не с вельможами, не с царями, а с раздражённым Богом".
И ещё: "Согрешил ты? Войди в церковь, и загладь свой грех. Сколько бы ты ни падал на площади, - всякий раз встаёшь: так сколько раз ни согрешишь, - покайся во грехе, не отчаявайся; согрешишь в другой раз, в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанные блага. Ты в глубокой старости, и - согрешил? - войди (в церковь), покайся: здесь врачебница, а не судилище; здесь не истязуют, но дают прощение в грехах"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 438].
Св. Афанасий (IV в.): "Как человек, крещаемый от человека, т.е. священника, просвещается благодатию Духа Святого; так и исповедующий в покаянии грехи свои приемлет оставление их чрез священника благодатию Христа"["Против Новата". Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 427].
Св. Амвросий (IV в.): "Кто может отпущать грехи, кроме одного Бога, который также отпущает их через тех, кому дал власть отпущать?".
А также: "люди совершают только служение во отпущение грехов, но не показывают какой либо собственной власти. Ибо не в своё имя отпущают, а во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; они просят, Бог дарует; человеческое здесь послушание, а щедродательность принадлежит верховной власти"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 429].
Во времена св. Амвросия были еретики новациане, которые утверждали, что нельзя прощать и примирять с Церковью тех, кто во времена гонений отпал от Неё, хотя бы они горько раскаивались бы в содеянном и находились перед смертью (в этом новациане придерживались противоположной позиции последователям Новата, о котором выше упоминалось). Это обстоятельство дало повод св. Амвросию выразить учение Церкви о таинстве Исповеди.
Вот что он писал: "Но отдаем мы, говорят они (новациане), почтение Богу тем, что одному Ему предоставляем власть отпускать грехи. Однако, напротив, никто столько не оскорбляет Его, как хотящие уничтожить Его повеления и не исполнять порученной должности. Ибо сам Господь в Евангелии сказал: Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Итак, кто больше выказывает чести Богу - повинующийся ли Его заповедям или противящийся? Церковь в обоих случаях хранит послушание: ибо и оставляет грех, и отпускает. Ересь, напротив, в одном немилосердна, а в другом непослушна: хочет оставить то, чего не отпускает; не хочет отпустить того, что оставила, в чем и осуждает себя собственным своим судом. Ибо Господь равно дозволил как оставлять грехи, так и прощать: почему не имеющий власти простить не имеет и оставить. Так как, напротив, по слову Господню, имеющий власть оставить, имеет и простить, то новациане сами себя опровергают: ибо отрицая за собой власть прощения, должны также отрицать и власть оставления. Как может быть одно позволительно, а другое нет? Кому даны обе возможности, тому или обе позволительны, или обе непозволительны[Логика св. Амвросия очень мудра: если новациане считают, что они (и вообще кто бы то ни было) не имеют права простить грех, то какое же они имеют право оставить грех и не простить его, отказывая кающимся в церковном общении и причастии?]. Церкви дозволены обе, ереси же ни то, ни другое не позволено: ибо это право дано одним только священникам. Почему Церковь, имеющая истинных священников, справедливо присваивает себе это, ересь же, не имея священников Божиих, присвоить себе этого не может. Из этого явствует, что она, не имея священников, не должна присваивать себе и священнического права. И так они в бесстыдном своем упорстве принуждены со стыдом признаться. Надобно принять в рассуждение и то, что принявший Духа Святого, принял и власть оставлять и прощать грехи. Ибо написано: Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Почему не могущий прощать грехи не имеет Духа Святого; дар Духа Святого есть должность священническая, право же Духа Святого состоит в том, чтобы оставлять и прощать грехи…"[Амвросий Медиоланский, "О покаянии", кн. 1, гл. 2].
Св. Кирилл Александрийский (IV-V вв.): "Двумя способами, по моему мнению, отпущают или удерживают грехи люди, облечённые Духом: во-первых, когда одних допускают к крещению, оказывающихся достойными того по образу жизни и по испытании в вере, а некоторых, ещё не соделавшихся того достойными, не допускают и не приобщают Божественной благодати; во-вторых, когда в другой раз разрешают или не разрешают грехи, подвергая запрещениям согрешающих чад Церкви, и прощая кающихся"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 43].
Пациан, епископ испанский (IV в.): "Ты говоришь: один Бог может отпущать грехи? Справедливо. Но и то, что совершает Он чрез священников, есть Его же власть"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 429].
Св. Григорий Нисский (IV в.), который был епископом, убеждает грешника: "Пролей предо мной горькие и обильные слезы, да и я соединю мои слезы с твоими: в соучастника и общника твоей скорби прими священника, как отца… Священник столько сокрушается о грехах того, кого имеет по вере вместо сына, сколько скорбел Иаков, узрев одежду Иосифа... Посему на родившего тебя в Боге ты должен полагаться более, нежели на родивших тебя по телу. Смело показывай ему свои сокровенности; открывай ему тайны духа, как тайные раны врачу: он позаботится и о твоем здравии"[Homil. in eos. qui alios acerbius judicant, in Opp. V. II. р. 137 Morel].
Кроме учения вышеприведенных святых и писателей древней Церкви об Исповеди (хотя здесь приведены далеко не все свидетельства) можно указать и на то, что целые соборы, многие из которых состоялись в IV веке, в своих определениях даже не утверждают и не доказывают власть священства отпускать или удерживать грехи через назначение различных епитимий, а говорят об этом как о само собой разумеющемся.
Так, во 2-м правиле Лаодикийского собора (364 г.) сказано: "Впадающих в различные согрешения, и пребывающих в молитве, исповедании и покаянии, и от злых дел совершенно обращающихся после того, как по мере согрешения дано (разумеется, священниками)[Сравнить со 102-м правилом Шестого Вселенского Собора: "Приявшие от Бога власть разрешать и связывать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению и так употреблять приличное недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры в том и в другом, не утратить спасения недугующего"] им время покаяния, ради милосердия и благости Божией вводите[Это сказано, естественно, священноначалию Церкви, ибо все постановления Соборов обращены, прежде всего, к нему] в общение".
Также 2-е правило Анкирского собора (314 г.) гласит: "Подобно и диаконам идоложертвовавшим, но потом возобновившим подвиг веры, присвоенную им честь иметь, но прекратить им всякое священное служение, возношение хлеба и чаши, и провозглашения молений. Если же которые из епископов усмотрят в таковых некий труд, или смирение кротости, и восхотят нечто большее дать, или отнять: да будет сие в их власти". Правила 5 и 7 этого собора походят на 2-е, и ясно утверждают власть епископа отпускать или удерживать грехи младших клириков и мирян.
А теперь, в контексте вышеприведенных свидетельств, посмотрим, насколько лживо, безумно и просто смешно звучат уверения П. Рогозина в том, что "…христианская церковь не испытывала решительно никакой нужды в устной исповеди в течении 1200 лет…"["Откуда всё это появилось?", глава "Исповедь"], а также: "гласная исповедь перед священником стала обязательной в 1215-1551 гг."["Откуда всё это появилось?", "Хронология"]! С такой невежественности действительно можно было бы просто посмеяться, если бы не было так грустно от того, что этим рогозинским басням и клевете на Церковь многие протестанты верят!
Итак, рассмотрев данные свидетельства, мы можем сделать ясный вывод: Церковь всегда от самого начала признавала, что епископы и священники имеют от Бога власть принимать исповедь людей и прощать или удерживать их грехи, давая время на исправление и принесение достойных плодов покаяния.
Теперь рассмотрим возражения протестантов против Таинства Исповеди.
Возражение 1. "Прощать грехи может только Бог. Посягательства человека, даже если он епископ или пресвитер, на Божью власть является святотатством". Е Пушков пишет: "Такой власти Христос никому не давал… Во времена Христа всем, знающим закон, было известно, что грехи может прощать только Бог… не остается сомнения, что власть прощать грехи архиереи присвоили себе сами…"["Не смущайся", глава "О таинстве исповеди"].
Если человек присваивает себе то, что ему не принадлежит, то это посягательство, но если он пользуется тем, что его, что ему дано, то это не посягательство и не присвоение. Посягательство это когда пресвитеры протестантов, не получив от Бога власти, права и благодати священнодействовать, присваивают себе честь пресвитерства и дерзают совершать "священнодействия" - вот это действительно посягательство и великое святотатство. Но если законный священник пользуется властью, данной ему при Хиротонии самим Христом, то это никакое не посягательство. Иосиф, пользуясь всею властью фараона, не присваивал её, ибо он законно получил её от фараона (Быт. 41:38-44). Потому, власть Иосифа была властью фараона, ибо он сам, по свое воле, дал её Иосифу. Вот так и власть священников это Христова власть, которую Он Сам, добровольно, им дал, о чём и говорили в вышеприведенных цитатах св. Амвросий: "Кто может отпущать грехи, кроме одного Бога, который также отпущает их через тех, кому дал власть отпущать?" и епископ Пациан: "Ты говоришь: один Бог может отпущать грехи? Справедливо. Но и то, что совершает Он чрез священников, есть Его же власть".
Итак, священники, получив от Самого Христа по Его собственной воле власть прощать грехи, не посягают на неё, а законно пользуются ею, и не только не погрешают этим против Христа, но напротив - угождают Ему.
Возражение 2. "Нужно исповедоваться пред Богом, а не человеком".
Во-первых, когда человек исповедуется священнику, он исповедуется именно пред Богом - это главное правило Исповеди! Священник же есть свидетель Исповеди и служитель этого Таинства, который Божьей властью, от Его имени, отпускает человеку грехи, как писал о том св. Амвросий: "люди совершают только служение во отпущение грехов, но не показывают какой либо собственной власти".
Во-вторых, исповедоваться действительно нужно и дома, самому пред Богом, без священника. И Православная Церковь признаёт такую исповедь не просто на словах - она положительно заповедует так исповедоваться, что видно из того, что вечерние молитвы, которые она предлагает читать своим чадам, заканчиваются молитвой "исповедание грехов повседневное". Ведь исповедь перед священником есть только вершина покаяния человека, которое совершается в глубине его сердца, пред Богом.
Исповедь в этом смысле можно сравнить с венчанием молодых, что является вершиной тех отношений, которые начались задолго до акта венчания, но не были завершены, а только стремились к своему завершению. Таким образом, венчание 1) завершает и 2) узаконивает отношения мужчины и женщины. Так и покаяние. Оно начинается в душе ещё до Исповеди пред священником. Человек сначала осознаёт свой грех, осуждает его и сожалеет о нём, исповедуется в нём сам пред Богом, а потом исповедует его при священнике. Таким образом, каяться и исповедоваться непременно нужно и самому пред Богом, но это не отменяет Таинства Исповеди, которое 1) завершает и 2) в некотором смысле узаконивает пред Богом покаяние человека[Хотя бывает и так, что человек раскаивается только уже в ходе самого Таинства Исповеди и даже после него - такова сила этого Таинства], окончательно разрешая его от грехов.
Возражение 3. "Неужели Бог не прощает и не может Сам прощать человеку грехи, без священства"?
Безусловно, Бог может прощать человеку грехи и без священника, как пишет о том Димитрий Чуйков: "…Господь, наделивший Свое священство властью прощать грехи, конечно не лишился ее Сам, и посему Таинство Исповеди не лишает возможности каждого человека: принадлежит ли он к Церкви или нет, - в тайне своего сердца просить у Бога прощения и ждать Его милости"[Димитрий Чуйков, "Как отличить истинную Церковь от лжецерквей, изд. Артёмовск, 2008 г., с. 66].
Потому, о прощении грехов православные христиане молят Бога постоянно. Так, на всяком общем молебне произносится прошение: "Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении и оставлении грехов рабов Божиих, братии (и прихожан) святаго Храма сего", а также: "Еще молимся… простить им все согрешения вольные и невольные…", и пр. Подобные прошения повторяются и на молебнах "о болящих", "о путешествующих", "на всякое прошение", "в начале всякого доброго дела", и прочих. Прошения о прощении грехов есть во всех службах, а также в частных - утренних, вечерних и других - молитвах, в том числе и самых важнейших - молитве Господней "Отче наш", и молитве Иисусовоemй: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного". Поэтому, само наличие этих прошений в большом множестве во всех православных службах и молитвах говорит о том, что Церковь знает, что прощение грехов даруется не только на Таинстве Исповеди. Хотя эти частные и церковные просьбы о прощении грехов можно понимать так, что всё это является подготовкой, началом и серединой покаяния, а Таинство Исповеди - его вершиной. Также, в эт/emих молитвах о прощении грехов нет тех пяти важных составляющих, о которых мы говорили выше - 1) свидетеля покаяния; 2) Богом поставленного ходатая[Хотя на церковных службах и молебнах эти прошения произносит священник (или диакон), тем самим ходатайствуя о тех, кто молится с ним]; 3) наставления; 4) свидетельства о прощении грехов; 5) особой благодати для победы над грехом.
К этому нужно добавить, что кроме Таинства Исповеди и других Таинств, и кроме личных просьб к Богу, в Церкви есть и много других средств к прощению грехов. Так, например, в Иак. 5:19-20 сказано: "Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов" - то есть, если человек спасёт брата от пути погибели, то ради этого Господь покроет (простит) многие его (обратившего) грехи. Другой способ к прощению грехов - самому прощать обиды, как сказал Господь: "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный" (Мф. 6:14). Третий способ к прощению грехов - милость, как написано: "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Мф. 5:7). Т.е., если человек миловал, то и его Господь помилует, что включает в себя и прощение грехов. И многое другое, все добродетели христианина, как то: любовь, кротость, смирение и прочее, содействует прощению его грехов. Ведь если в других заповедях блаженства не говорится прямо о прощении грехов, а, например, что плачущие "утешатся", то под утешением нужно понимать и прощение грехов, ибо кто плачет "о себе", к чему призывал Христос (Лк. 23:28), и о своих грехах, тому его грехи будут прощены, и т.д.
Итак, хотя Господь может прощать и прощает грехи не только в Таинстве Исповеди, то этот факт никак не устраняет необходимости и предельной важности этого Таинства. Ведь Христос для того его и установил, что Он желает прощать грехи преимущественно в Таинстве Исповеди. Вообще, не нужно разделять одни средства к прощению грехов от других: лучше их объединять и мыслить так, что если человек плачет о своих грехах и кается в них; если милует братьев и прощает им обиды, то и Христос его помилует и простит в Таинстве Исповеди.
Протестанты же, будучи по духовной природе своей сектантами, постоянно хотят усечь и урезать часть истины: они постоянно являют свою неспособность к восприятию полноты истины, о чём неоднократно уже повторялось. Оттого и происходит у протестантов вопрос: "может ли Бог Сам прощать грехи?", на который они отвечают утвердительно, и сразу же делают вывод, что раз так, то можно обойтись и без Таинства Исповеди. То есть, вся их суть постоянно толкает их вместо восприятия полноты истины на её усечение.
Возражение 4. "Господь, говоря "кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" имел в виду прощение личных обид, а не прощение всех грехов", как пишет о том Е. Пушков: "Нужно обратить внимание, что в приведенном месте из Евангелия от Матфея Христос поясняет, как поступать с согрешившим "против тебя" братом. Это поучение, как и вышеприведенный текст из 20-й главы Иоанна, хорошо бы каждому применять лично к себе"["Не смущайся", глава "О таинстве исповеди"].
Нет, в Ин. 20:23 и Мф. 18:18 Христос говорил не о личных обидах, ясным подтверждением чему служит контекст Писания. О личных обидах Христос говорил совершенно другое: "если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6:14-15). Итак, если человек прощает согрешения ближних против себя (личные обиды), то и Бог ему (прощающему!) простит, а если он не простит, то и ему (не прощающему!) не простится. Здесь под судом находится сам прощающий или не прощающий. Но когда Христос дал власть Апостолам прощать и удерживать грехи, то здесь всё наоборот: под судом находится согрешающий, которому, если его простят, ему простится, а если не простят, то не простится. Или баптисты хотят сказать, что если кто не простит ближнему личную обиду, то и Бог ему (ближнему) не простит? Нет: Бог не ближнему не простит, а тому, кто не простил! Апостолы же, если кому по справедливости не простят грехи и наложат епитимию, как сделал это, например, ап. Павел (1 Кор. 5:1-5), не подвергаются за это Божьему не прощению. Поэтому, апостольское (священническое) прощение грехов это не то же, что прощение личных обид.
А то, что в Мф. 18:15 говорится о согрешении брата "против тебя" (лично), то здесь нужно прочесть весь текст: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе".
То есть, начинается всё с личной обиды или согрешения, но заканчивается тем, что этот согрешивший не слушает не только обиженного и нескольких свидетелей, но и всю церковь. И вот в этом случае такового церковь должна отвергнуть и считать его за мытаря и язычника, то есть, говоря церковным уже языком, отлучить от Церкви или от причастия, наложив на него епитимию - уже не только за согрешение против одного брата, а за упорство в не раскаянии и непослушание всей церкви. Но налагать епитимию имеют власть не все члены Церкви, а Её священство. Потому здесь Христос и говорит: "что вы свяжете на земле…", тем самым уверяя Апостолов в том, что их решение об отлучении согрешивших будет иметь свою силу не только на земле, но и на небе. То есть, Сам Бог согласится и одобрит их решение. Но власть отлучать от церковного общения имеют (и всегда в Церкви имели) епископы и священники, а отнюдь не все верующие.
Возражение 5. Во время моей учёбы в ДХУ преподаватель Нового Завета нам говорил, что выражение "кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" стоит в оригинале (Ин. 20:23) во времени так называемом "плю-квам-перфекте", и потому может якобы обозначать противоположное: "кому будет прощено на небесах, тому вы простите…".
За этими сложными языковыми манипуляциями, недоступными для оценки не знающим греческого языка, нет никакой правды, а одно лишь очередное и плохо прикрытое желание протестантов уйти от очевидного смысла слов Христа и исказить их. На самом деле, данное место имеет в греческом один простой и ясный смысл, который синодальный перевод передаёт совершенно правильно. И не только в синодальном: в других не православных русских переводах["Современный перевод", "перевод нового мира"], в латинском "вульгата", в еврейском (Франса Делича), церковно-славянском и известных мне английских переводах["King James Version", "New King James Version", "New International Version", "New American Standard Bible", "New Century Version"] передаётся только один смысл[В одном только произвольном и бездарнейшем переводе "слово жизни" это место звучит так: "Если вы будете прощать грехи другим, то они будут прощены и вам. И если вы не будете прощать, то и вам грехи не простятся". Но это не перевод греческого текста, а выражение того, как бы хотелось протестантам, чтобы звучало это место: таким способом особенно часто "переводят" неудобные места Библии расселисты]. И кроме того, восточные отцы Церкви, для которых греческий был родным языком, никогда не видели подобного смысла в данном выражении, и всегда понимали его только так, как сказано в синодальном переводе, что можно понять из вышеприведенных цитат.
Возражение 6. Е. Пушков, возражая против Исповеди, говорит о том, что в католичестве "гласная исповедь… была помощницей инквизиции в выискивании инакомыслящих", а на Руси, когда Православие при Петре I подпало "под полнейшую зависимость от мирской власти, было сжато такими циркулярами, при которых исповедь перед священником стала опасной и невозможной"["Не смущайся", глава "О таинстве исповеди"].
Насчёт католицизма с Е. Пушковым можно согласиться, но Православие не имеет к инквизиции католиков никакого отношения. Что же касается Православия при Петре I, то это правда, что он требовал от священников раскрытия тайны Исповеди, и посылал своих людей, /emкоторые ложно если согрешили мы, то должны говорить: я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: под полнейшую зависимость от мирской власти, было сжато такими циркулярами, при которых исповедь перед священником стала опасной и невозможной исповедовались в преступлениях против царя, чтобы узнать, донесёт ли священник об этом властям, или нет. И в это время Исповедь действительно стала опасной, как для священника, так и для исповедующихся, особенно в столице, тем более, если человек хотел исповедаться в преступлениях, караемых государством. Но какой же вывод делает из этого факт Е. Пушков? "Надо бы к ним прислушаться и С. Кобзарю, и непредвзятому читателю и сделать соответствующий вывод: исповедь в православии если и была когда-то таинством, то давно перестала им быть". К кому же призывает прислушаться Е. Пушков? В частности, к Н. Кедрову, которого он цитировал выше: "Когда Петр повелел указом, чтобы духовный отец открывал уголовному следователю грехи, сказанные на исповеди, духовенство должно было почувствовать, что отсель государственная власть становится между ним и народом, что она берет на себя исключительное руководство народною мыслию и старается разобщить ту связь духовных отношений, то взаимное доверие, какое было между паствой и пастырем". Но как из сказанного можно сделать вывод, что "исповедь в православии если и была когда-то таинством, то давно перестала им быть"? Сказанное Н. Кедровым (и другими православными авторами, которых приводит Пушков) описывает лишь одну из битв дьявола с Церковью, как Пётр I, которого многие православные справедливо считают одним из антихристов, боролся с Церковью, в частности с Таинством Исповеди. И сам Н. Кедров даёт правильные оценки происходившему, что "отсель государственная власть становится между ним (духовенством) и народом, что она… старается разобщить ту связь духовных отношений, то взаимное доверие, какое было между паствой и пастырем". Но дьявол всю историю различными путями старается разобщить паству с пастырями и посеять всевозможные нестроения в церковной среде; всю историю он вредит ей, и всю историю Церковь ведёт с ним войну: так что же, каждое нападение врага нужно считать поражением Церкви? Пушков же, по своему безумию, увидев одну из многих атак врага на Церковь, тут же спешит заявить, что Церковь битву проиграла и навсегда лишилась Таинства Исповеди. Да, силён же был Петр I, раз одним росчерком пера смог уничтожить Таинство Исповеди, установленное Христом для всей вселенской Церкви на все времена. Все силы ада не могут одолеть Церковь, а Пётр I смог. Вот так и показывают протестанты на весь мир и свою ненависть к Церкви, и своё безумие.
Возражение 7. Е. Пушков, говоря против Таинства Исповеди, пишет также: "У любого гражданского судьи есть Уголовный кодекс. Преступить закон он не может, но имеет право применить его к подсудимому или более строго, или найти смягчающую статью"["Не смущайся", глава "О таинстве исповеди"].
Не всякий (особенно не протестант) сразу сможет даже понять, что автор хочет этим сказать, но суть его аргумента такова: священники не имеют права прощать или не прощать по своему желанию, то есть, судить согрешившего по своему усмотрению, ведь Христос определил законы, по которым грешник прощается или не прощается.
Но в том всё и дело, что православные полностью согласны с тем, что священники должны судить и прощать или не прощать не произвольно, а по законам Церкви, по законам Евангелия, по законам Духа, и как у мирского судьи есть кодекс, так и у священства есть "Книга правил", называемая ещё "кормчей", где собраны правила Апостолов, а также Вселенских и Поместных Соборов, признанных каноническими, и правила святых отцов, которые часто говорят именно о том, как судить согрешивших, и какие епитимии за какие грехи нужно назначать. При этом, как и у мирского судьи, о чём замечает Пушков, у священника есть возможность применить эти правила "к подсудимому или более строго, или найти смягчающую статью". Поэтому, священники судят человека не произвольно, а руководствуясь правилами, всем вообще учением и преданием Церкви, здравым смыслом и, главное, Духом Святым, Который и поставил их на эту должность, и Который в них живёт и действует.
Протестанты на это возражают: а если священник не поступает по заповедям Христа и Церкви, и не слушает внушений Духа Святого?
Во-первых, для начала пусть протестанты найдут такого священника, который бы, например, человеку, исповедовавшемуся ему в лени, отлучил бы его от причастия на 10 лет, и назначил бы ему этот срок каждый день класть по 1000 поклонов. Такого произвола, как правило, не бывает в Церкви.
Во-вторых, если, теоретически, священник назначит человеку совершенно неадекватную епитимию, то он может сказать об этом епископу, и он снимет её, а священника призовёт к ответу.
В-третьих, поскольку "все мы много согрешаем" (Иак. 3:2), в том числе и священники, то погрешности возможны и при суждении священников о грехах человека, при назначении епитимии и при его наставлениях. Но это обстоятельство вовсе не устраняет Таинства Исповеди - его законность и силу. Это можно сравнить с проповедью. Протестанты верят, что Христос дал им заповедь проповедовать миру Евангелие (хотя на самом деле, Он заповедал это Церкви, а их никуда не посылал, как сказано: "Я не посылал пророков сих, а они сами побежали" (Иер. 23:21), но допустим, что это так).
Так вот вопрос: совершенно ли, и безгрешно ли проповедуют протестанты Евангелие? Все ли протестантские проповедники говорят слово Божие безошибочно, в должной силе Духа, с должной мудростью и солью? Не говоря даже о православной оценке этих проповедей[Мнение православных о протестантской проповеди, в общем, таково, что было бы во множество раз лучше, если бы протестанты вообще ничего не говорили и не распространяли свои ереси и яд своих учений], сами протестанты согласятся, что очень редко кто из них так проповедует. А если взять во внимание тот факт, что все протестанты постоянно друг друга, одна деноминация другую, обличают в ересях и уклонениях от истины, то получается, что протестанты (по их же мнению) проповедуют Евангелие со многими ошибками. Но делают ли из этого факта протестанты тот вывод, что их проповедь теперь не имеет уже силы, и что не нужно больше проповедовать? Нет, конечно, ибо они считают, что хотя они могут ошибаться в проповедях и учении; хотя их проповедь совсем не так сильна, как проповедь Апостолов, тем не менее, Бог и через немощи человеческие действует, и Его Слово оказывает своё действие.
Вот примерно так думают и православные о Таинстве Исповеди: несмотря на погрешности и немощи человеческие, Господь действует через Своих священников. И если человек приходит к священнику с верой, то он скажет ему то, что должно сказать. Ведь если "сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его" (Прит. 21:1), то тем более в Его руке сердце священника, которому дана особая благодать Духа, и через которого при совершении Таинств действует Бог особенно явно. Священник, когда к нему обращается человек с верой, через него у самого Бога ища ответа, часто может сказать очень точно и сверх своего ума. Т.е., просто Сам Бог своевременно даёт священнику нужную мысль. Поэтому, если человек искренно ищет прощения своих грехов и наста/emвления в Таинстве Исповеди, то ошибки не будет, и от священника он услышит то, что ему нужно услышать.
Итак, Библия даёт нам все основания верить, что священнослужители Церкви имеют от Христа власть отпускать и удерживать грехи. Это право всегда, от начала, как мы видели, признавала Церковь.
Протестантские же возражения против Таинства Исповеди, в чём мой читатель также без труда мог убедиться, никчемны и пусты, и обусловлены только нежеланием признавать очевидное и принимать истину.
А необходимость для протестантизма отвержения Исповеди заключается в важнейшей его аксиоме, о которой уже неоднократно говорилось в предыдущих главах (12-14) - в отвержении Церкви и Её необходимости для спасения! Повторю, что спасение протестантизм сделал личным, индивидуальным, а не соборным делом, поэтому вся свою догматику он подогнал под эту идею. В протестантизме ничего, что касается спасения человека, не может зависеть от Церкви и Её служителей. Потому протестанты и отвергли, прежде всего, учение о Таинствах, ибо именно они связывают спасение человека с Церковью. По этой причине было отвергнуто и Таинство Исповеди[Хотя Лютер и Меланхтон Исповедь считали третьим Таинством, после Крещения и Евхаристии], ибо если Бог прощает грехи через Своего священника, то моё спасение хоть как-то зависит от Церкви и Её священства, а это и нужно протестантам отвергать, чтобы у них была возможность создавать свои "церкви".
Вот и вся действительная причина отвержения протестантами Таинства Исповеди; вот потому они и вынуждены отрицать и извращать прямые слова Христа и закрывать глаза на ясное и единогласное учение древней Церкви об Исповеди и власти священства прощать грехи.
И если вы, мой уважаемый протестантский читатель, не хотите впредь противиться воле Христа; если хотите веровать так, как веровала древняя Церковь; если хотите спасения своей душе, то не оставайтесь больше в протестантизме, в этом диавольском плену душ, и возвращайтесь домой - в Православную Христовую Церковь.
В православно-протестантском противостоянии вопрос о елеопомазании или же соборовании[Елеопомазание называется соборованием потому что, как правило, совершается собором священников, как сказано "да призовёт пресвитеров Церкви"] находится на периферии - он никогда не привлекал к себе такого внимания, как вопросы крещения, детокрещения, Евхаристии, иконопочитания, поклонения и молитв святым, поклонения мощам и под.
Тем не менее, и здесь есть очевидное несогласие между сторонами, поскольку большинство протестантов не просто не признают Елеопомазания Таинством (в чём нет ничего особенного, поскольку они пять из семи таинств Церкви отвергают, да и оставшиеся два также, чаще всего, не считают strongи не называют таинствами, о чём говорилось во введение ко II части), но и не совершают какого бы то ни было помазания елеем в каком бы то ни было качестве[Показательно, что Алистер Мак-Грат, упомянув о соборовании и понимая, что многие протестанты ничего об этом не знают, вынужден в скобках объяснять, что это вообще такое: ""соборование" - это практика помазания тяжело больных освящённым оливковым маслом" ("Введение в христианское богословие", с. 436)]. Следовательно, моя задача показать библейские и исторические основания для совершения елеопомазания, и объяснить, почему оно считается Таинством.
Помазанию больных елеем, соединённым с молитвой, положительно заповедует Священное Писание: "Болен кто из вас? Пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему" (Иак. 5:14-15). В православном определении таинств (которое приводилось во введении), говорилось, что к ним относятся только те священнодействия, которые установлены Господом. И хотя совершать помазание елеем заповедует нам ап. Иаков, а не Христос, тем не менее, нет ни малейшего сомнения в Божественном происхождении этой заповеди, ибо Апостолы ничего не проповедовали и не устанавливали от себя, а только то, чему научились от Христа и Духа Святого (см. Мф. 28:20; Ин. 16:13; Гал. 1:11-12). И начали Апостолы совершать помазание маслом больных для исцеления ещё при жизни Христа, что видно из Мк. 6:12-13: "Они пошли и проповедывали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли".
Почему же протестанты не исполняют конкретную заповедь Апостола, которую он передал для всей Церкви, что подчёркивается ещё и тем, что послание его называется соборным, то есть для всех церквей? На это протестанты говорят либо 1) что данная заповедь носит характер не повеления, а совета, либо же 2) что ап. Иаков здесь просто призывал больных не отвергать медицинскую помощь и прибегать к лечению. О елее же он написал только потому, что мазать больного елеем было обычным средством лечения в то время. Нам же необходимо прибегать к современным средствам лечения, не обязательно к помазанию елеем.
Нелепость таких объяснений очевидна. Относительно первой точки зрения нужно сказать, что ап. Иаков выражает здесь не свой личный совет, а повеление: "пусть призовёт". Хотя верно то, что не всякий больной непременно обязан призывать к себе пресвитеров для помазания елеем, но здесь даётся такая возможность, и в Церкви всегда этой возможностью пользовались и пользуются многие больные. Большинство же протестантских деноминаций совершенно не практикует елеопомазания, и у них никогда ни один больной за столетия их существования не призывал к себе пресвитеров для помазания елеем.
То есть, если даже протестанты считают помазание елеем не заповедью, а советом и возможностью (как они понимают пост, что это дело лично каждого), то почему они никогда не елеопомазываются (как они, хотя и не часто, но всё же постятся)? Значит, протестанты не принимают данную заповедь ап. Иакова даже как совет, и совершенно игнорируют эти слова. Ясно, что не такого отношения к своим словам ожидал Апостол (и Сам Господь), когда писал эти слова.
Не менее неразумно и второе объяснение. Если суть данной заповеди в том, что в болезни необходимо не пренебрегать лечением, то для чего помазывать елеем нужно церковным пресвитерам - ведь это могут сделать и многие другие? Кроме того, здесь у ап. Иакова помазание елеем тесно связанно с молитвой веры и прощением грехов.
Таким образом, совершенно очевидно, что речь идёт не об обыкновенном лечении, а об особом церковном священнодействии, как пишет Димитрий Чуйков: "Помазание елеем, как известно, и в Новозаветные времена, и гораздо раньше, широко применялось в иудаизме для лечения самых различных заболеваний. Но при желании, не трудно понять, что Христос - не мирской целитель-учитель, и Апостолы Его - ученики особые; и для обычного целебного помазания елеем, конечно, нашлись бы в Иудее и другие; и от простого помазания не было бы столь громких исцелений. К тому же елей, сам по себе, не может исцелять от всех болезней; Апостолы же через елеопомазание исцеляли "всякую болезнь и всякую немощь" (Мф. X,1) - как и повелел им Христос…"["Как отличить истинную Церковь от лжецерквей", с. 46].
Важно, что и в данном вопросе, как и в других, мы находим подтверждения тому, что Церковь с древности совершала таинство Елеопомазания.
Ориген (II-III вв.) перечислив различные средства к прощению грехов - крещение, мученичество, пламенная любовь к Богу и пр., продолжает: "есть ещё седьмое, впрочем тяжкое и трудное, отпущение грехов чрез покаяние, когда грешник омывает слезами ложе свое (Пс. 6:7), и бывают ему слёзы хлебом день и ночь (Пс. 41:4), и когда он не стыдится исповедать свой грех пред священником Господним и просить у него врачевства…". И добавляет: "в сём исполняется и то, что сказал апостол Иаков: "болен кто из вас? Пусть позовет пресвитеров Церкви и да возложат на него руки[Заменив этими словами слова Апостола: "и пусть помолятся над ним", Ориген видимо указывает на один из обрядов, доселе соблюдаемых при елеопомазании, возложении рук священнических на болящего (см. чин Елеосвящения). Прим. митр. Макария], помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему"[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 467-468].
То, что Ориген об Исповеди и Елеопомазании говорит нераздельно, указывает на древнюю практику Церкви, соблюдаемую и поныне, соединять таинства Исповеди и Елеопомазания. Св. Иоанн Златоуст (IV в.) сравнивая плотских родителей с отцами духовными, то есть священниками, пишет: "эти не могут защитить своих детей и от телесной смерти, даже не всегда могут изгнать из тела их вторгнувшуюся болезнь: те, напротив, часто спасали болезненные души, долженствовавшие погибнуть, то подвергая их кроткому наказанию, то удерживая при самом начале от падения, не только учением и наставлением, но и помощью молитв. Ибо они имеют власть отпущать грехи не только тогда, когда возрождают нас (т.е. в крещении), но и после, как сказано: "Болен кто из вас? Пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему""[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, с. 468].
Св. Кирилл Иерусалимский (IV в.): "Когда у тебя подвергнется болезни какая либо часть тела, и если ты веришь в сии слова: Господь Саваоф и другие, усвояемые Божественным Писанием Богу, как свойственные Его природе: тогда ты произноси эти слова, воссылая за себя молитвы. Ты поступишь гораздо лучше, нежели они (т.е. обращающиеся к волхвованию): ибо будешь воздавать славу не духам нечистым, но Богу. При этом напоминаю тебе ещё слова Божественного Писания: "Болен кто из вас? Пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне…""[Цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 468-469]. Важно заметить, что св. Кирилл не устанавливает, а только напоминает о возможности призвать в болезни пресвитеров для совершения елеопомазания, что говорит о том, что это таинство было известно и совершалось в Церкви и раньше.
Относит же Церковь Елеопомазание к Таинствам потому, что оно имеет все признаки Таинства, ибо оно
1) установлено Господом;
2) совершается священнослужителями Церкви и
3) "за видимой своей стороной (то есть, посредством помазания елеем с молитвой) сообщают верующему особую невидимую и спасительную благодать Божию", то есть, благодать исцеления и прощения грехов;
4) является важным священнодействием.
Всегда ли при Елеопомазании происходит исцеление? Нет, ибо если бы человек всегда получал в сём Таинстве исцеление, то он бы вообще не умирал, а промысел Божий заключается не в этом. Кроме того, Церковь хорошо знает, что Господь многих спасает именно скорбями и болезнями. Многие люди, пока они здоровы, склонны забывать Бога, строить суетные планы на жизнь и не думать о вечности. Но как только у них случится болезнь, так сразу им мир становится далёк, и они обращаются к Богу, к вере, к молитве, и в итоге спасаются. Поэтому, таковым людям, ради их же спасения, Бог и не подаёт в Елеопомазании исцеления, хотя часто даруется значительное облегчение, о чём свидетельствуют многие, испытавшие это на себе. Иногда же для исцеления есть воля Божия, но для этого у больного или священников не достаёт веры, ибо исцеление в этом таинстве происходит не без "молитвы веры". Но бывают и случаи полных, чудесных исцелений.
Поскольку баптисты почти не верят в современные чудеса, то когда я стал православным, меня очень интересовал вопрос, неужели при Елеопомазании действительно происходят исцеления? Я расспрашивал об этом многих священников и прихожан, и они мне засвидетельствовали о наличии многих случаев таковых исцелений. Став же священником, я и сам неоднократно был свидетелем значительных облегчений болезней участников Елеопомазания.
Итак, несомненно, что помазание елеем больных повелел совершать Сам Господь, что и исполняет Церковь с самой древности и поныне.
Посему, баптисты и другие протестанты, не совершающие елеопомазания, явно противоречат Библии, отвергая Божественную заповедь, в чём обличают даже их собратия, например, некоторые харизматы и отделённые баптисты, практикующие помазание елеем[Об истинной причине такого разногласия в среде протестантов говорилось в предыдущей главе (§ 125-127)].
Вопрос брака, как и елеопомазания, в православно-протестантском диспуте отнюдь не имеет такой остроты, как другие вопросы. Тем не менее, и здесь есть что сказать.
Протестанты не согласны с православными прежде всего в том, что брак нужно считать Таинством. Один баптистский пастор говорил мне, что брак у них не считается таинством, так как он не имеет прямой связи со Христом, как крещение и хлебопреломление. На самом же деле, брак имеет самую прямую связь с Господом, ибо он есть прообраз брака Жениха Христа и Невесты Церкви: "наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя" (Откр. 19:7). В Еф. 5:31-32 христианский брак напрямую связывается с браком Христа и Церкви, причём брак буквально называется тайной (таинством), по греч. ![]() - мистирион: "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви". Посему, своей брачной жизнью христианские муж и жена должны пророчествовать и самим делом проповедовать об отношениях Христа и Церкви: как Христос любит Церковь, так муж должен любить жену (Еф. 5:25); как Церковь повинуется Христу, так жена должна повиноваться мужу (Еф. 5:24). Вот эти святейшие отношения муж и жена и призваны явить Церкви, ангелам и миру. И поскольку задача эта весьма сложная и человеку не посильная, то для этого в Таинстве Брака и подаётся брачующимся особая благодать.
- мистирион: "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви". Посему, своей брачной жизнью христианские муж и жена должны пророчествовать и самим делом проповедовать об отношениях Христа и Церкви: как Христос любит Церковь, так муж должен любить жену (Еф. 5:25); как Церковь повинуется Христу, так жена должна повиноваться мужу (Еф. 5:24). Вот эти святейшие отношения муж и жена и призваны явить Церкви, ангелам и миру. И поскольку задача эта весьма сложная и человеку не посильная, то для этого в Таинстве Брака и подаётся брачующимся особая благодать.
Таинством называли брак не только ап. Павел, но и церковные писатели - Тертуллиан, св. Иоанн Златоуст и блаж. Августин. Так, первый пишет: "Диавол, стараясь извратить истину, подражает в языческих мистериях самим даже божественным таинствам: он и крестит некоторых, как своих последователей, обещая им очищение грехов через купель, и запечатлевает потом на челе воинов своих, и торжественно совершает приношение хлеба…, и даже поставляет верховного жреца при браке". Очевидно, что поставляя брак на ряду с Крещением, Миропомазанием и Евхаристией, Тертуллиан относит брак к "божественным таинствам". Второй, имея в виду срамные песни и пляски, бывающие при некоторых браках, говорит: "Зачем бесчестишь всенародно честное таинство брака?". Третий утверждал: "В Церкви предлагается не только союз брачный, но и таинство", а также: "В нашем (христианском) браке более имеет силы святость таинства, нежели плодородие матери"[Все цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 482-483].
Кроме того, христианский брак считается таинством, поскольку он относится к нему по самому определению, ибо он:
1) является весьма важным священнодействием;
2) совершается священнослужителями Церкви - епископами и пресвитерами;
3) имеет внешнюю, видимую сторону, посредством которой приступающим к таинству сообщается особая невидимая, освящающая и благословляющая, благодать Божия. К видимой стороне Таинства относится: возложение на главы жениха и невесты венцов, одевание обручальных колец, троекратное хождение вокруг аналоя с иконой (что символизирует, как и кольца, вечность и нерасторжимость брачного союза), троекратное поочерёдное испитие брачующимися одной чаши вина, что указывает на то, что теперь супруги будут делить между собой одну долю на двоих, как радость, так и горе - и другие священнодействия;
4) установлен Богом. Господь освятил брак ещё при сотворении мира (Быт. 1:27-28; 2:22-24), и затем неоднократно подтверждал святость брака (Быт. 9:1,7; Лев. 20:10; Втор. 7:14; 22:22; 28:11; Мф. 19:4-6). Но до рождения Церкви брак, хотя и освященный Богом, естественно, не мог быть ещё emцерковным Таинством, и не имел той святости и того высокого назначения, каковое он получил в Церкви - только здесь муж и жена стали венчаться во образ Христа и Церкви. И хотя в Евангелии нет прямого предписания освящать брак, тем не менее, протестанты, в общем, не будут спорить с тем, что Церковь всегда особым образом благословляла своих чад, вступающих в брак.
Здесь можно привести высказывание св. Игнатия Богоносца: "подобает женящимся и выходящим замуж, чтобы союз их совершался по благословению епископа, - да будет брак о Господе, а не по вожделению"[Послание к Поликарпу, гл. 5]. Напомню, что св. Игнатий был учеником Иоанна Богослова, от которого он и научился вере. Поэтому, нет сомнения, что благословлять брак повелел Апостолам Сам Господь.
О священническом благословении брака говорят также: св. Амвросий: "…брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим…".
Св. Василий Великий: "сие иго (брачное общение) возложенное с благословением, да будет единением для вас".
Св. Григорий Богослов: "…ты чист и по вступлении в брак. Я на себя беру ответственность; я (епископ) сочетатель, я невестоводитель".
Св. Иоанн Златоуст утверждает, что для заключения брака нужно "позвать священников, и через молитвы и благословения заключить союз супружества, чтобы умножалась любовь жениха и сохранялось целомудрие невесты.., чтобы они, соединяемые благодатью Божьей, провождали жизнь приятную".
Собор карфагенский (398 г.): "Жених и невеста… должны быть благословляемы от священника"[Все цит. по: "Православно-догматическое богословие", том II, сс. 481-482].
Итак, посредством таинства Брака вступающим в супружество передаётся особая Божья благодать и благословение. И протестанты с этим, по сути, согласны, хотя и не считают брак Таинством.
Но в связи с этим возникает вопрос: если посредством молитвы пастыря Церкви подаётся особое Божье благословение, которое никто, кроме Церкви, даровать не может (в это веруют протестанты), то почему протестанты не благословляют тех, кто к ним приходит из мира, кто заключил брак без церковного благословения? Ведь если их члены заключат брак без церковного благословения, то их отлучат - так высоко протестанты ценят благословение брака церковью. Но если оно так важно, то почему же они, повторю, не благословляют супругов, пришедших к ним из мира? Разве им не нужно благословение церкви? Здесь у протестантов явное недомыслие. Православная же Церковь, если супруги поженились без венчания, но потом воцерковляются и начинают приступать к Таинствам Исповеди и Причастия, непimg src=ременно венчает их, даже если они прожили в браке и 30 лет.
Здесь хочу прояснить одну важную деталь (больше для православных) в отношении к невенчанным бракам. Убеждая супругов повенчаться, православные часто говорят, что "невенчанный брак как блуд". Эта формулировка истинна, если её правильно понимать, что венчанный брак своей святостью так возвышается над браком невенчанным, как возвышается обычный человеческий брак над блудом. И так действительно можно говорить супруг) возложенное с благословением, да будет единением для васам для побуждения их повенчаться скорейшим образом. Но, к сожалению, некоторые по неразумию делают из этого выражения слишком далеко идущие выводы, что невенчанный брак действительно, на самом деле является тем же, что блуд. А из этого делается следующий вывод, что жену в таком браке можно (или даже нужно) оставить, как оставляют блудницу, и жениться на другой. Это совершенно неверно, и является большим искажением мысли, вложенной в выражение "невенчанный брак как блуд". То, что и невенчанный брак есть истинный и законный брак пред Богом не трудно понять из Священного Писания.
Во-первых, до явления в мире Церкви и таинства Брака брак существовал, и Бог благословил его. Люди, не только иудеи, но и язычники женились, и если человек брал себе жену по обычаю своего народа и честно жил с ней, храня ей верность, то это было совсем не то же самое, что общение с блудницами.
Во-вторых, в Писании часто говорится о прелюбодеянии, например: "кто женится на разведенной, тот прелюбодействует" (Мф. 5:32). Прелюбодеяние это не блуд. Блуд это вступление в половые связи лиц, не связанных браком. Прелюбодеяние же есть ничто иное, как супружеская измена. Запрещалось же прелюбодеяние и в Ветхом Завете, и в Новом ещё до установления таинства Брака. Посему, если вне Церкви есть прелюбодеяние, то вне Церкви есть и брак.
И наконец, в-третьих, ап. Павел пишет: "если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее" (1 Кор. 7:12). Поскольку жена неверующая, то она и не крещена, и с нею верующий, естественно, не венчался. Тем не менее, Апостол повелевает не оставлять её и жить с нею, чего он никак не мог бы сказать, если бы считал невенчанный брак блудом в абсолютном смысле, ибо как он мог призывать жить в блуде? Из сего очевидно, что и невенчанный брак есть брак, а не блуд, но в Таинстве Церкви обычный брак получает особое Божье предназначение, смысл и благословение, и освящается во образ Христа и Церкви.
Итак, Брак по праву считается Таинством, и невенчанные браки хотя и не нужно считать блудом, то их непременно нужно освящать церковным благословением, и почему протестанты, считающие себя Церковью, этого не делают - не понятно.
Мы подошли в определённом смысле к самому главному вопросу православно-протестантской полемики – авторитета веры. Кто определяет истину, чему, какому слову и каким книгам мы должны доверять – действительно основополагающий вопрос. К сожалению, даже в таком важнейшем вопросе протестанты принципиально расходятся с православными. Первые признают авторитетом только Писание[Впрочем, только на словах, о чём будет ещё сказано], вторые – Писание и Предание. К тому же, в протестантской Библии 66, а в православной – 77 книг. Кто же прав, и какой состав Библии правильный – ответу на эти вопросы и посвящается настоящая часть книги.
[§ 1] Библия, как для православных, так и для протестантов является главной книгой, Священным Писанием, Богодухновенным и непогрешимым Словом Божиим. Но дело в том, что Библия состоит из многих книг (само слово "библия" буквально значит "книги"): православная включает в себя 77 книг, а протестантская - 66. Потому, в основательной православно-протестантской полемике нельзя не коснуться вопроса о библейском каноне.
[§ 2] Речь идет, главным образом, об 11-ти книгах Ветхого Завета:
1) вторая книга Ездры;
2) Товита;
3) Иудифи;
4) Премудрости Соломона;
5) Премудрости Иисуса, сына Сираха;
6) Послание Иеремии;
7) Варуха;
8-10) три книги Маккавейские;
11) третья книга Ездры[Кроме этих книг, православная Библия отличается от протестантской ещё несколькими разделами: 1) в книге Даниила 14, а не 12 глав, и 2) в 3-й главе не 23, а 91 стих; 3) в начале книги Есфири есть вступление; 4) в конце 2 Пар. находится молитва царя Манасии; 5) в Псалтири не 150, а 151 псалом, о победе Давида над Голиафом. Кроме того, в православной Библии в скобках добавлены некоторые слова из Септуагинты, которых нет в еврейском тексте. ^
2. Из статьи еп. Нафанаила "О святой Библии"].
Итак, вопрос нашего исследования очевиден: какой же канон истинный, и какой состав должна иметь Библия?
[§ 3] Поскольку все спорные книги и места относятся к Ветхому Завету, то для ответа на этот вопрос нужно решить другой вопрос: какой канон был у доновозаветных евреев, и какие книги они признавали своим Священным Писанием? Важнейшим свидетельством о каноне Ветхозаветной Церкви является Септуагинта. История появления её такова. Египетский царь Птоломей Филадельф решил собрать в библиотеке Александрии, столице своего государства, все книги, существовавшие тогда во всем мире. В то время (284-274 гг. до Р.Х.) Иудея была в подчинении у Египта, и царь приказал иудеям прислать ему их писания, с переводом на греческий язык. "Иудейские первосвященники - говорит еп. Нафанаил - отнеслись, конечно, под воздействием Духа Святого, к этой задаче с чрезвычайной серьезностью и сознанием ответственности.
Несмотря на то, что к этому времени фактически весь еврейский народ сосредоточился в одном колене иудином и иудеи смело могли бы взять на себя одних выполнение пожелания египетского царя, однако, вполне справедливо и свято желая, чтобы в таком деле приняла бы участие вся Ветхозаветная Церковь, весь Богоизбранный Израиль, духовные вожди еврейского народа установили пост и усиленную молитву во всем народе и призвали все 12 колен Израилевых избрать по 6 человек толковников, т.е. переводчиков от каждого колена, чтобы они совместным трудом перевели Священное Писание на греческий язык - язык всех племен и народов тогдашнего времени.
[§ 4] Этот перевод, явившийся, таким образом, плодом соборного подвига всей Ветхозаветной Церкви, получил название Септуагинты, т.е. Семидесяти, и сделался для православных христиан самым авторитетным изложением Священного Писания Ветхого Завета"[Из статьи еп. Нафанаила "О святой Библии"].
[§ 5] Итак, Септуагинта - свидетельство того, какие книги считали древние евреи Св. Писанием[Хотя различные кодексы (версии) Септуагинты несколько разняться между собой (в ранних, например, нет Маккавейских книг, а в некоторых кодексах к книге Псалтирь добавлены несколько псалмов и од Соломона), но все они включают большинство "неканонических" книг, и нет ни одного кодекса Септуагинты с протестантским ветхозаветным каноном]. И все ссылки на Ветхий Завет, которые делает Христос и Апостолы в Евангелии, цитируются исключительно по Септуагинте, потому её авторитет бесспорный. Но ведь в ней находятся все те книги и отрывки (кроме 3-й Ездры)[Изначально, в Септуагинте не было и Маккавейских книг, поскольку события, описанные в этих книгах, произошли намного позже перевода LXX. Но когда маккавейские книги были написаны, то ещё древними евреями они были включены в Септуагинту], которые отвергают протестанты!
[§ 6] Но ещё более важное значение для решения вопроса о каноне имеет, безусловно, то, какие книги считала каноническими древняя Церковь? Вера Церкви в отношении библейского канона, как ветхозаветного, так и новозаветного, была выражена главным образом:
1) 85-м апостольским правилом;
2) 60-м правилом святого Лаодикийского Собора;
3) 33-м правилом святого Карфагенского Собора и
4) в 39-м праздничном послании св. Афанасия.
Ни в одном из этих списков не приводится полностью весь библейский канон (ни православный, ни протестантский), но в них, вместе взятых, перечисляются все книги православного, ветхо-и-новозаветного, канона (кроме 3-й Ездры, о которой будет сказано отдельно, в § 316, 365-368). Кроме вышеуказанных правил и православных библейских изданий, где в Библию включены 77 книг, каноничность непризнанных протестантами книг подтверждается в Православии и тем, что за Богослужением эти книги читаются на ряду с прочими библейскими книгами, причём Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова, из Ветхого Завета читаются наиболее часто, после Псалтири.
[§ 7] Но протестанты, в определении ветхозаветного канона, не держаться ни Септуагинты, ни мнения древней Церкви. Какого же канона они держатся? Иамнийского канона, установленного иудейскими вождями, собравшимися в Палестине в городе Иамнии уже после разрушения Иерусалима, около 90-го года по Р.Х. На этом соборе наиболее значимыми фигурами были рабби Акиба и Гамалиил Младший. Они и установили список в 39 книг, искусственно сведённый в 22 книги, по числу букв еврейского алфавита (при этом в одну книгу были соединены: Судьи и Руфь; 1 и 2 книги Царств; 3 и 4 Царств; две Паралипоменон; Ездры и Неемии; книги Иеремии - пророчества и плач; 12 малых пророков). Этот канон был принят всеми иудеями и введен во все синагоги, и в соответствии с этим списком книги Ветхого Завета называются каноническими или неканоническими. Протестанты же полностью приняли постановление данного собора.
[§ 8] Но рассудим здраво: как можно с полным доверием принимать решение иудеев, отвергших и распявших Христа и активно боровшихся с Его последователям, уже полностью потерявших благодать - которым Сам Христос сказал: "се, оставляется ваш дом пуст" (Лк. 13:35), а ап. Павел писал о них, что они ожесточились (Рим. 11:7), ослепли и оглохли (11:8), пали (11:12) и были отвергнуты Богом (11:15) - а с каноном благодатной Ветхозаветной Церковью (Септуагинтой) и каноном, установленным Святой Церковью, не считаются. Разумно ли это?
[§ 9] Важно также заметить, что Новозаветный канон протестанты приняли исключительно из церковного Предания - здесь они полностью поверили Церкви. Церковь же на Соборах и в лице своих пастырей неоднократно приводила различные списки книг, которые нужно считать каноническими - эти списки немного разнились между собой - и наконец, св. Афанасий Великий в своём 39-м праздничном послании, которое включено Церковью в книгу правил, перечисляет все 27 книг Нового Завета, которые окончательно были утверждены как канонические. Этот список книг в том же составе приводит вскоре и Карфагенский Собор в 33-м правиле.
Повторю: этот канон, установленный Церковью, протестанты полностью признают. Потому разумно было бы, если и о каноне Ветхого Завета протестанты справлялись бы у Церкви. Но нет - здесь они самовольно презрели предание Церкви (как ветхозаветной, так и новозаветной), и приняли вместо этого предание оставленных Богом иудеев.
[§ 10] Теперь хочу дать ответ на аргументы протестантов против "неканонических" книг. Джош Мак-Дауэлл в своей широко известной в протестантских кругах книге "Неоспоримые свидетельства", в 3-й главе "Канон", ссылаясь на Гейслера и Нике, приводит десять таких аргументов.
[§ 11] 1) "Иудейский философ Филон Александрийский (20 г. до Р.Х. - 40 г. от Р.Х.) обильно цитировал Ветхий Завет и даже признавал его деление на три части, но никогда не ссылался на апокрифы, как на Боговдохновенные книги".
[§ 12] Данный аргумент не может быть принят во внимание, ибо если в творениях Филона не встречается ссылок на какие-то книги Библии, то это ещё не значит, что он их отвергал. Например, если изучать творения какого-нибудь из отцов Церкви, особенно того, кто написал не очень много, то можно выявить целый ряд библейских книг, на которые он не ссылается, но это не значит, что он их не признавал - просто у него не было повода и случая привести цитату из той или иной книги. А в случае с Филоном нужно и учитывать то, что в сознании иудея наиболее важной частью Священного Писания была и есть Тора (Пятикнижие Моисея). И именно на неё ссылается Филон в подавляющем большинстве случае, и сами темы его сочинений в основном вращаются вокруг событий и лиц, описанных в Пятикнижии, особенно в Бытии.
Другие библейские книги он цитирует редко, и после Пятикнижия для него, конечно, были более авторитетны древние книги, написанные во время израильского Царства, а не после разрушения Храма в пленении. Кроме того нужно понимать, что Филон писал на греческом языке для греческого мира (он часто цитирует греческих философов), для которого чем древнее была религия и книга, тем она была авторитетнее. Потому Филон мог сознательно ссылаться лишь на древнейшие книги Священного Писания.
[§ 13] 2) "Иудейский историк Иосиф Флавий (30-100 г. от Р.Х.) недвусмысленно исключает апокрифы, насчитывая всего 22 книги в Ветхом Завете. Он также ни разу не цитировал эти книги в качестве Священного Писания".
[§ 14] Иосиф Флавий не был христианином, и он, естественно, следовал решению иамнийского собора. Его слова "…у нас… есть только двадцать две книги…" встречаются в последнем его творении (против Апиона, 1/8), которое он написал уже после "Иудейских древностей" незадолго до своей смерти, то есть во второй половине 90-х годов. Иамнийский же собор состоялся около 90-го года - по крайней мере, Джош Мак-Дауэлл и большинство протестантов придерживается этой даты (см. § 312). А мнение иудеев, не принявших Христа, для Церкви не авторитетно.
[§ 15] 3) "Ни Иисус, ни авторы Нового Завета ни разу не цитируют апокрифов, хотя сотни раз употребляют цитаты и делают ссылки практически почти на все канонические книги Ветхого Завета".
[§ 16] Это - полная ложь: в Новом Завете во многих местах цитируются или пересказываются близко к тексту многие выражения и отрывки из "неканонических" книг[В православной Библии на эти книги проставлены параллельные ссылки, причём, далеко не все, и в общем, их не меньше, чем в остальных книгах Ветхого Завета]. Но перед тем, как рассмотреть эти места, важно заметить, что в Новом Завете Ветхий Завет почти никогда не цитируется так, как цитируются тексты в современных книгах, то есть точно и дословно, и множество ветхозаветных "цитат" приводятся в Евангелии весьма приблизительно, даже в тех случаях, когда цитату предваряет слово "написано".
Например, в Ин. 15:25 Христос говорит: "Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно". А как написано это место в Пс. 68:5, которое указано как параллельное место? "Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать". То есть, говоря "написано" Христос приводит цитату далеко не буквально.
Другой пример: Апостол Павел говорит: "Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9). В параллельном же месте мы читаем: "Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него" (Ис. 64:4).
Итак, Христос и Апостолы часто цитирует Ветхий Завет очень свободно, передавая только суть и даже придавая тексту новый смысл. И таких далеко не буквальных цитат в Новом Завете множество, в чём можно легко убедиться, если взять Библию и сравнивать параллельные места (см., например, Мф. 11:10 и Мал. 3:1; Мф. 21:13 и Ис. 56:7; Мф. 26:31 и Зах. 13:7; 1Кор. 1:31 и Иер. 9:24, и т.д.)[Этот факт, кстати, даёт повод иудею Вадиму Черному, яростному противнику христианства как такового, в своей книге "Иисус, не знавший Христа" говорить об "искаженности цитат" (ветхозаветных) авторами Нового Завета (глава "возникновение христианства")]. Таким образом, перед знакомством и оценкой соответствия нижеприводимых мест из "неканонических" книг Новому Завету очень важно иметь в виду данную особенность.
[§ 17] Итак, привожу ряд важных отрывков, в порядке библейских книг, не только для опровержения протестантской лжи, высказанной Мак-Дауэллом, но и для того, чтобы мой читатель, прежде всего протестант, мог хотя бы отчасти увидеть Божественное достоинство этих книг, их соответствие Новому Завету (доказывать соответствие "неканонических" книг остальной части Ветхого Завета нет никакой необходимости из-за полной очевидности этого факта), и их пророческую силу (хотя о ней ещё будет отдельно сказано, в § 344-350).
[§ 18] 2 Езд. 1:50-51: "Бог отцов их посылал вестников Своих призывать их к обращению, так как щадил Он их и жилище Свое; но они смеялись над вестниками Его: в тот самый день, в который Господь говорил, они насмехались над пророками Его".
[§ 19] Мф. 5:12: "…так гнали и пророков, бывших прежде вас"; Лк. 16:14: "…и они смеялись над Ним" (ср. Лк. 20:9-16, притчу о виноградарях).
[§ 20] 2 Езд. 4:38: "а истина пребывает и остается сильною в век, и живет и владычествует в век века".
[§ 21] 2 Ин. 2: "…истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек"; 1 Пет. 1:25: "…слово Господне пребывает вовек".
[§ 22] Тов. 4:15: "Что ненавистно тебе самому, того не делай никому".
[§ 23] Лк 6:31: "И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" (ср. Мф. 7:12).
[§ 24] Тов. 4:15: "Вина до опьянения не пей…".
[§ 25] Еф. 5:18: "И не упивайтесь вином…".
[§ 26] Тов. 13:16-17: "ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда и из дорогих камней; стены твои, башни и укрепления - из чистого золота, и площади Иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из Офира".
[§ 27] Откр. 21:18-21: "Стена его (Иерусалима) построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист".
(Заметим: в Ветхом Завете больше нет подобного пророчества, и Товит, как и всякий другой иудей, при всей его любви к Иерусалиму, не мог бы ожидать, что он будет построен из чистого золота и драгоценных камней. Поэтому, его слова - истинное, Богодухновенное пророчество, которое подтвердил впоследствии и тайнозритель ап. Иоанн).
[§ 28] Тов. 12:15: "Я - Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго"
. [§ 29] Откр. 8:2: "И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом…" (ср. 8:6; 15:1,6,8; 17:1; 21:9); Откр. 8:4: "И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога"; Лк. 1:19: "…я Гавриил, предстоящий пред Богом";
[§ 30] Тов. 13:11: "Многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами Царю Небесному".
[§ 31] Мф. 2:11: "и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну"; Откр. 21:24: "Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою".
[§ 32] Тов. 14:4: "Иерусалим будет пустынею, и дом Божий в нем будет сожжен и до времени останется пуст".
[§ 33] Лк. 19:41: "придут на тебя (Иерусалим) дни, когда враги твои… разорят тебя, и… не оставят в тебе камня на камне"; и Мф. 23:38: "Се, оставляется вам дом ваш пуст".
[§ 34] Тов. 4:7,16: "…Ни от какого нищего не отвращай лица твоего… Давай… нагим от одежд твоих; от всего, в чем у тебя избыток…" (ср. Сир. 4:4: "…не отвращай лица твоего от нищего").
[§ 35] Лк. 14:13: "Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых" и Лк. 3:11: "у кого две одежды, тот дай неимущему".
[§ 36] Тов. 4:14: "Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тотчас…" (ср. Лев. 19:13).
[§ 37] Иак. 5:4: "Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа".
[§ 38] Иудифь 8:14: "потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его: как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум Его, и поймете мысль Его?" (ср. Пс 63:7).
[§ 39] 1 Кор 2:11: "Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия"; Рим 11:34: "Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?".
[§ 40] Иудифь 16:14: "…нет никого, кто противостал бы гласу Твоему".
[§ 41] Рим. 9:19: "Ибо кто противостанет воле Его?".
[§ 42] Иудифь 16:13: "Воспою Господу моему песнь новую".
[§ 43] Откр. 5:9: "И поют новую песнь…".
[§ 44] Иудифь 16:17: "…Господь Вседержитель отмстит им в день суда, пошлет огонь и червей на их тела, - и они будут чувствовать боль и плакать вечно".
[§ 45] Мк. 9:44,46,48: "где червь их не умирает и огонь не угасает"; Мф. 8:12: "…там будет плач и скрежет зубов" (ср. Мф. 13:42; 13:50; 22:13; 24:51; 25:30); 2 Фес. 1:9: "…которые подвергнутся наказанию, вечной погибели…".
[§ 46] Прем. 3:7: "Во время воздаяния им они (праведники) воссияют…".
[§ 47] Мф. 13:43: "тогда праведники воссияют…".
[§ 48] Прем. 2:2: "дыхание в ноздрях наших - дым… жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман".
[§ 49] Иак. 4:14: "ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий".
[§ 50] Прем. 2:6: "Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью".
[§ 51] 1 Кор. 15:32: "Станем есть и пить, ибо завтра умрем!".
[§ 52] Прем. 3:8: "(Праведные) будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки" (ср. Сир. 4:16: "послушный ей (премудрости) будет судить народы…".
[§ 53] 1 Кор 6:2: "Разве не знаете, что святые будут судить мир?"; Откр. 20:4: "И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить".
[§ 54] Прем. 1:6: "Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его".
[§ 55] 1 Кор. 4:5: "Господь…осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения…"; Евр. 4:12: "…слово Божие["Словом Божиим" является прежде всего Сам Христос Господь: "Слово было Бог" (Ин. 1:1)]…судит помышления и намерения сердечные".
[§ 56] Прем. 1:13: "Бог… не радуется погибели живущих".
[§ 57] 2 Пет. 3:9: "...не желая, чтобы кто погиб…".
[§ 58] Прем. 2:12: "Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона…"
[§ 59] Мф. 12:14: "Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его"; Ин. 7:19: "Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону".
[§ 60] Прем. 2:13: "объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа".
[§ 61] Ин. 10:15: "Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца"; Мф. 11:27: "…Отца не знает никто, кроме Сына…"; Мф. 27:43: "…Ибо Он сказал: Я Божий Сын".
[§ 62] Прем. 2:14: "он пред нами - обличение помыслов наших".
[§ 63] Ин. 8:9: "Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних…"; Ин 7:7: "…Я свидетельствую о нем (мире), что дела его злы".
[§ 64] Прем. 2:15: "Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его".
[§ 65] Мф. 7:29: "ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи".
[§ 66] Прем. 2:16: "он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших как от нечистот…".
[§ 67] Лк. 11:44: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы - как гробы скрытые…"; Мф. 23:16,23: "Горе вам, вожди слепые… Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры…"; Мф. 23:3: "…по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают";
[§ 68] Прем. 2:16: "…ублажает кончину праведных…".
[§ 69] Откр. 14:13: "…блаженны мертвые, умирающие в Господе"; 20:6: "Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом"; Мф. 10:39: "…потерявший душу свою ради Меня сбережет ее".
[§ 70] Прем. 2:16: "…и тщеславно называет отцом своим Бога".
[§ 71] Ин. 5:18: "…Он… Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу".
[§ 72] Прем. 2:17: "Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его".
[§ 73] Мф. 27:40: "…Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста".
[§ 74] Прем. 2:18: "ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов".
[§ 75] Мф. 27:43,49: "уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. …а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его".
[§ 76] Прем. 2:19: "Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его".
[§ 77] Лк. 18:31-32: "…вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его"; 1 Пет. 2:23: "Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал…".
[§ 78] Прем. 2:20: "осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет".
[§ 79] Мк. 8:31: "И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть".
[§ 80] Прем. 2:21: "Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их".
[§ 81] 2 Кор. 4:4: "для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы".
[§ 82] Прем. 5:17-20: "Он возьмет всеоружие - ревность Свою…облечется в броню - в правду, и возложит на Себя шлем - нелицеприятный суд; возьмет непобедимый щит - святость; строгий гнев Он изострит, как меч…".
[§ 83] Еф. 6:11-17: "Облекитесь во всеоружие Божие… приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие". (Явно, что ап. Павел вооружал христианин по подобию воинствующего Бога, и при написании этих строк он непременно имел в виду Прем. 5:17-20, ибо нигде больше в Библии не говорится о "всеоружии").
[§ 84] Прем. 9:15: "…эта земная храмина…".
[§ 85] 2 Пет. 1:13: "…в этой телесной храмине…".
[§ 86] Прем. 10:21: "премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев" (ср. Пс. 8:3).
[§ 87] Мат. 21:16: "Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?".
[§ 88] Прем. 12:12: "Ибо… кто противостанет суду Твоему?...".
[§ 89] Рим 9:19: "Ибо кто противостанет воле Его?".
[§ 90] Прем. 13:6: "Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его".
[§ 91] Деян. 17:27: "дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас".
[§ 92] Прем. 13:7-8: "потому что, обращаясь к делам Его, они исследывают и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны".
[§ 93] Рим. 1:19-20: "Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны".
[§ 94] Прем. 14:22-31: "Потом не довольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром. Совершая или детоубийственные жертвы, или скрытные тайны, или заимствованные от чужих обычаев неистовые пиршества, они не берегут ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством убивает, или прелюбодейством обижает. Всеми же без различия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, расхищение имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство. Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина, и конец всякого зла, ибо они или, веселясь, неистовствуют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нарушают клятву. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся. Но за то и другое придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных".
[§ 95] Рим. 1:21-32. "Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют". (Данный отрывок явно состоит из тех же трёх частей, что и Прем. 14:22-31:
1) нечестивые не познали Бога;
2) в результате этого они уклонились во всевозможные грехи и преступления;
3) за это их ожидает суд и возмездие).
[§ 96] Прем. 15:3: "Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою - корень бессмертия".
[§ 97] Ин 17:3: "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога".
[§ 98] Прем. 17:1: "Велики и непостижимы суды Твои…".
[§ 99] Рим. 11:33: "Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!".
[§ 100] Прем. 17:17: "…были связаны одними неразрешимыми узами тьмы".
[§ 101] 2 Петр. 2:4: "…связав узами адского мрака".
[§ 102] Прем. 17:15-16: "сошло с небес от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин. Оно несло острый меч - неизменное Твое повеление и, став, наполнило все смертью...".
[§ 103] Откр. 20:4: "И увидел я престолы и сидящих на них…"; Откр. 19:11-21: "И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем… Имя Ему: Слово Божие. (…). Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. … остальные убиты мечём Сидящего на коне…".
[§ 104] Сир. 1:1: "Всякая премудрость - от Господа…".
[§ 105] Иак: 1:5: "Если же Итак, Брак по праву считается Таинством, и невенчанные браки хотя и не нужно считать блудом, то их непременно нужно освящать церковным благословением, и почему протестанты, считающие себя Церковью, этого не делают - не понятно. у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему"
. [§ 106] Сир. 1:4: "Прежде всего произошла Премудрость…(т.е. Христос - ср. Притч. 9:1-6)".
[§ 107] Кол. 1:15: "Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари".
[§ 108] Сир. 1:6: "Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство ее?".
[§ 109] Рим. 11:34: "Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?".
[§ 110] Сир. 1:7: "Один есть премудрый… Господь".
[§ 111] 1 Тим. 1:17: "единому премудрому Богу…" (ср. Рим. 16:27; Иуд. 25).
[§ 112] Сир. 1:7: "…весьма страшный, сидящий на престоле Своем, Господь".
[§ 113] Откр. 20:11: "И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места"; 6:16: "и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца".
[§ 114] Сир. 1:10: "…и особенно наделил ею (премудростью) любящих Его".
[§ 115] Еф. 1:17: "…Отец славы, дал вам Духа премудрости…".
[§ 116] Сир. 1:18: "…Бога, Который распространяет славу любящих Его".
[§ 117] Рим. 8:30: "…кого оправдал, тех и прославил"; Деян. 5:13: "…народ прославлял их" (ср. 1 Цар. 2:30: "Я прославлю прославляющих Меня" и (Пс. 148:14: "Господь возвысил рог народа Своего, славу всех святых Своих...".
[§ 118] Сир. 1:22: "…самое движение гнева есть падение для человека".
[§ 119] Мф. 5:22: "…всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду"; Иак 1:20: "ибо гнев человека не творит правды Божией".
[§ 120] Сир. 1:28: "…не приступай к Нему с раздвоенным сердцем".
[§ 121] Иак. 4:8: "Приблизьтесь к Богу… исправьте сердца, двоедушные".
[§ 122] Сир. 1:30: "Не возноси себя, чтобы не упасть…".
[§ 123] Лк. 18:14: "…ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет…".
[§ 124] Сир. 2:1: "Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению".
[§ 125] Мф. 4:1: "Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола" (как раз перед началом Своего служения).
[§ 126] Сир. 2:5: "ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, - в горниле уничижения" (ср. Прем. 3:6: "Он испытал их как золото в горниле…" и 3 Езд. 16:74: "Тогда настанет испытание избранным Моим, как золото испытывается огнем").
[§ 127] 1 Пет. 1:7: "дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота…" (ср. Дан. 12:10: "Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении…").
[§ 128] Сир. 2:8: "Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не погибнет награда ваша" (ср. ст. 6: "Веруй Ему…").
[§ 129] Ин. 12:36: "Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света"; Деян. 16:31: "…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой" (ср. Евр. 11:6). (Заметим: в Ветхом Завете нигде больше не встречается призыва "веруй" и "веруйте").
[§ 130] Сир. 2:10: "…кто верил Господу - и был постыжен?..".
[§ 131] Рим. 9:33: "…всякий, верующий в Него, не постыдится".
[§ 132] Сир. 2:12: "Горе… грешнику, ходящему по двум стезям!".
[§ 133] Иак. 1:8: "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих"; Мф. 6:24: "Никто не может служить двум господам…".
[§ 134] Сир. 2:15: "…любящие Его сохранят пути Его".
[§ 135] Ин. 14:15: "Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди".
[§ 136] Сир. 3:1: "Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись".
[§ 137] 1 Ин. 2:1: "Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали".
[§ 138] Сир. 3:6: "Уважающий отца будет долгоденствовать…".
[§ 139] Еф. 6:2-3: "Почитай отца твоего и мать… и будешь долголетен на земле".
[§ 140] Сир. 3:18: "Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа" (ср. Прит. 3:34).
[§ 141] Иак. 4:6: "…посему и сказано: Бог гордым противится, а смemиренным дает благодать"; Лк: 1:30,48,49,52: "И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога… призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный… и вознес смиренных".
[§ 142] Сир. 3:23: "При многих занятиях твоих, о лишнем не заботься…".
[§ 143] Мф. 6:34: "Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы".
[§ 144] Сир. 3:24: "ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их".
[§ 145] Рим. 12:16: "…не мечтайте о себе" (ср. Еккл. 7:29: "…Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы".
[§ 146] Сир. 3:26-27: "упорное сердце напоследок потерпит зло: упорное сердце будет обременено скорбями…".
[§ 147] Рим. 2:5: "Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева…".
[§ 148] Сир. 3:30: "…милостыня очистит грехи".
[§ 149] Мф. 5:7: "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (ср. Дан. 4:27: "…искупи грехи… милосердием к бедным...").
[§ 150] Сир. 4:7: "…пред высшим наклоняй твою голову".
[§ 151] Рим. 13:7: "Итак отдавайте всякому должное: кому… честь, честь".
[§ 152] Сир. 4:23: "Наблюдай время…".
[§ 153] Рим. 13:11: "Так поступайте, зная время...".
[§ 154] Сир. 4:23: "…храни себя от зла".
[§ 155] 1 Фес. 5:22: "Удерживайтесь от всякого рода зла".
[§ 156] Сир. 4:30: "Не стыдись исповедывать грехи твои…".
[§ 157] 1 Ин 1:9: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши…".
[§ 158] Сир. 4:32: "Подвизайся за истину до смерти…".
[§ 159] Откр. 2:10: "Будь верен до смерти…"; 12:11: "Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти".
[§ 160] Сир. 4:33; 5:13: "Не будь скор языком твоим… Будь скор к слушанию".
[§ 161] Иак. 1:19: "…всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова…".
[§ 162] Сир. 4:35: "Да не будет рука твоя распростертою к принятию и сжатою при отдании".
[§ 163] Деян 20:35: "…блаженнее давать, нежели принимать".
[§ 164] Сир. 5:1,10: "Не полагайся на имущества твои и не говори: "станет на жизнь мою"… Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения".
[§ 165] Лк. 12:15-19: "смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения… и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?".
[§ 166] Сир. 5:12: "Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово".
[§ 167] Иак. 1:8: "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих"; Мф. 5:37: "Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет...".
[§ 168] (В книге Сираха настолько много параллелей с Новым (и Ветхим) Заветом, что я ограничился рассмотрением лишь пяти глав - десятой части этой книни)[Из оставшихся глав хотелось указать на Сир. 28:2: "Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои" (ср. Мф. 6:14: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный")].
[§ 169] Посл. Иер. 5: "…скажите в уме: Тебе должно поклоняться, Владыко!".
[§ 170] Мф 4:10: "…написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи".
[§ 171] Посл. Иер. 6: "Ибо Ангел Мой с вами, и он защитник душ ваших" (ср. Дан. 12:1: "И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего…"; ср. также Пс. 33:8; Пс. 90:11).
[§ 172] Лк. 4:10: "Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя".
[§ 173] Вар. 3:23: "…пути премудрости не познали и не заметили стезей ее".
[§ 174] 1 Кор 1:21: "мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией".
[§ 175] Вар. 3:27: "Но не их (сильных) избрал Бог, и не им открыл пути премудрости".
[§ 176] 1 Кор 1:27: "но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное".
[§ 177] Вар. 3:29: "Кто взошел на небо, и взял ее (премудрость), и снес с облаков?".
[§ 178] Рим. 10:6: "кто взойдет на небо? то есть Христа свести".
[§ 179] Вар. 4:7: "ибо раздражили Сотворившего вас, принося жертвы бесам, а не Богу".
[§ 180] 1 Кор. 10:20: "…язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу".
[§ 181] Вар. 5:7: "Бог определил, чтобы всякая высокая гора и вечные холмы понизились, а долины наполнились…".
[§ 182] Лк. 3:5: "всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими".
[§ 183] 1 Мак. 2:52: "Авраам не в искушении ли найден был верным? и это вменилось ему в праведность".
[§ 184] Гал. 3:6: "Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность" (ср. Рим. 4:17-22).
[§ 185] 1 Мак. 7:37: "Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя Твое и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего" (ср. Ис. 56:7).
[§ 186] Мф. 21:13: "написано, - дом Мой домом молитвы наречется…".
[§ 187] 3 Езд. 1:24: "Что сделаю тебе, Иаков? Не хотел ты повиноваться, Иуда. Переселюсь к другим народам и дам им имя Мое, чтобы соблюдали законы Мои".
[§ 188] Рим. 16:26: "но которая (тайна) ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере".
[§ 189] 3 Езд. 1:26: "…ноги ваши быстры на совершение человекоубийства".
[§ 190] Рим. 3:15: "Ноги их быстры на пролитие крови".
[§ 191] 3 Езд. 1:30: "Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои".
[§ 192] Мф. 23:37: "…сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья…"
[§ 193] 3 Езд. 1:33: "Так говорит Господь Вседержитель: дом ваш пуст".
[§ 194] Мф 23:38: "Се, оставляется вам дом ваш пуст".
[§ 195] 3 Езд. 1:37: "Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев Меня очами плотскими, но духом веруя тому, что Я сказал, торжествуют с весельем".
[§ 196] Ин. 20:29: "…блаженны невидевшие и уверовавшие".
[§ 197] 3 Езд. 2:13: "Уже готово для вас царство: бодрствуйте".
[§ 198] Мк. 13:37: "А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте". (Нужно заметить, что 3 Езд. 2:13 - единственное место в Ветхом Завете, где встречается новозаветный призыв "бодрствуйте" (см., напр., Мф. 24:42; 25:13; 26:41; Мк. 13:33,35; Деян. 20:31; 1 Пет. 4:7; 5:8; 1 Кор. 16:13).
[§ 199] 3 Езд. 2:16: "И воскрешу мертвых от мест их и из гробов выведу их…".
[§ 200] Лк. 20:37: "…мертвые воскреснут…"; Ин. 5:25: "…мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут".
[§ 201] 3 Езд. 2:39: "которые, переселившись от тени века сего, получили от Господа светлые одежды. Приими число твое, Сион, и заключи твоих, одетых в белые одеяния, которые исполнили закон Господень".
[§ 202] Кол. 2:17: "это есть тень будущего"; Откр. 3:4: "…и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны"; 3:5: "Побеждающий облечется в белые одежды…"; 6:11: "И даны были каждому из них одежды белые".
[§ 203] 3 Езд. 3:21: "С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него происшедшие".
[§ 204] Рим. 5:12: "Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили".
[§ 205] 3 Езд. 4:30,32: "…настанет молотьба! Когда будут пожаты бесчисленные колосья его, какое огромное понадобится для сего гумно!" (ср. ст. 39 "житницы праведных").
[§ 206] Мф. 13:30: "оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою".
[§ 207] 3 Езд. 4:35-37: "Не о том же ли вопрошали души праведных в затворах своих, говоря: "доколе таким образом будем мы надеяться? И когда плод нашего возмездия? На это отвечал мне Иеремиил Архангел: "когда исполнится число семян в вас, ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера".
[§ 208] Откр. 6:9-11: "…я увидел под жертвенником души убиенных… И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число".
[§ 209] 3 Езд. 5:1: "…настанут дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены…".
[§ 210] 1 Фес. 4:17: "потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем…".
[§ 211] 3 Езд. 5:1: "…настанут дни, в которые… вселенная оскудеет верою".
[§ 212] Лк. 18:8: "…Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?".
[§ 213] 3 Езд. 5:4: "…после третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце…".
[§ 214] Откр. 8:10: "Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику".
[§ 215] 3 Езд. 5:8: "…часто будет посылаем с неба огонь…".
[§ 216] Откр. 13:13: "…и огонь низводит с неба на землю…"; Откр. 20:9: "И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их".
[§ 217] 3 Езд. 5:9: "Сладкие воды сделаются солеными…".
[§ 218] Откр. 16:4: "Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь" (кровь - солена).
[§ 219] 3 Езд. 5:9: "…все друзья ополчатся друг против друга…"; 6:24: "И будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как враги…".
[§ 220] Лк. 12:53: "отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей".
[§ 221] 3 Езд. 5:2,10: "и умножится неправда, которую теперь ты видишь и о которой издавна слышал. …и умножится на земле неправда и невоздержание".
[§ 222] 2 Тим. 3:1-5: "…в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся". (Ездра сообщает в общем об умножении в последнее время неправды; ап. Павел говорит о том же, только подробнее раскрывает суть неправды).
[§ 223] 3 Езд. 5:23: "…о, Владыко Господи! Ты из всех лесов на земле и из всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу".
[§ 224] Ин. 15:1: "Я есмь истинная виноградная лоза…"; Мф. 26:29: "Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего". (Что Господь избрал для Себя из всех деревьев виноградную лозу - очевидно: именно ей Он уподобляет Себя; именно её плод - вино - обещает пить с учениками в Царстве Небесном; именно от плода виноградного причащаются верные, без чего нет спасения).
[§ 225] 3 Езд. 5:24: "Ты из всего круга земного избрал Себе одну пещеру…".
[§ 226] Лк. 2:7: "и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице". (Протестанты не спорят с тем, что Христос родился в хлеву, т.е. пещере для скота. Таким образом, пророчество Ездры исполнилось. Можно сказать также, что Христос избрал одну пещеру для Своего рождения, и одну пещеру для Своей смерти: "На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб (гробы иудеев были пещерами - ср. Ин. 11:38) новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса…" (Ин. 19:41-42)).
[§ 227] 3 Езд. 6:17: "…и вот голос говорящий, и шум его, как шум вод многих".
[§ 228] Откр. 1:15: "…и голос Его, как шум вод многих".
[§ 229] 3 Езд. 6:26: "И увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего…".
[§ 230] 1 Кор 15:51: "Говорю вам тайну: не все мы умрем…".
[§ 231] 3 Езд. 7:12,14: "И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда. Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить, что уготовано".
[§ 232] Мф 7:13-14: "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их".
[§ 233] 3 Езд. 7:25: "…пустым пустое, а полным полное".
[§ 234] Мф. 13:12: "ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет".
[§ 235] 3 Езд. 7:26: "Вот, придет время… и явится невеста…".
[§ 236] Откр. 21:2: "И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста…"; Откр. 19:7: "…наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя".
[§ 237] 3 Езд. 7:32: "И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души" (ср. Дан 12:2).
[§ 238] Откр. 20:13: "Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим".
[§ 239] 3 Езд. 7:(36): "И откроется озеро мучения… видна будет печь геенны…".
[§ 240] Откр. 19:20: "оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою".
[§ 241] 3 Езд. 7:(39-42): "Этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни звёзд… ни ночи, ни предрассветных сумерок, ни блеска, ни ясности, ни света, кроме одного лишь сияния светлости Всевышнего, вследствие чего все могут видеть то, что пред ними".
[§ 242] Мф. 24:29: "И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются" (ср. Зах. 14:6-7: "И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет").
[§ 243] 3 Езд. 7:(46); 8:35: "…найдется ли кто из живущих, чтобы не грешил…"; "Поистине, нет никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво, и из исповедающих Тебя нет никого, кто не согрешил бы".
[§ 244] Рим. 3:12,23: "все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. …потому что все согрешили…".
[§ 245] 3 Езд. 7:(51,60): "…праведных не много, но мало, тогда как нечестивых множество… Я рад буду немногим спасшимся…".
[§ 246] Лк. 12:32: "Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство"; Мф. 7:13: "…широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими".
[§ 247] 3 Езд. 7:(89): "…они с трудностями служили Всевышнему и каждый час подвергались опасностям...".
[§ 248] 1 Кор 15:30: "…мы ежечасно подвергаемся бедствиям…".
[§ 249] 3 Езд. 7:(92): "…они (праведные и спасённые) с великим трудом вели борьбу, с целью преодолеть помышление злое…".
[§ 250] Евр. 12:4: "Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха"; Евр. 10:32: "…выдержали великий подвиг страданий"; 1 Ин. 2:14: "…вы победили лукавого"; 1 Фес. 2:9: "Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение…".
[§ 251] 3 Езд. 7:(93): "…(праведные) созерцают смятение, в каком блуждают души нечестивых, и наказание, предстоящее им".
[§ 252] Откр 14:10: "(поклоняющийся зверю) будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем".
[§ 253] 3 Езд. 7:(96): "…они ликуют по поводу того, что покинули ныне тленное и получат будущее наследие; они видят кроме того ту тесноту, полную тягостей, от которой они освободились, и начинают чувствовать простор, блаженные и бессмертные".
[§ 254] 1 Кор. 15:53: "Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие"; Рим. 8:18: "Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас".
[§ 255] 3 Езд. 7:45,58: "Тогда никто не возможет… погубить победившего… если победит, получить то, о чем Я говорю".
[§ 256] Откр. 21:7: "Побеждающий наследует все…". (Новый Завет неоднократно говорит о необходимости духовно бороться и побеждать, и обещает всё только победившему["…побеждающему дам вкушать от древа жизни…" (Откр. 2:7); "…побеждающий не потерпит вреда от второй смерти" (2:11); "…побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" (2:17); "Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его" (3:5); "Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое" (3:12); "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (3:21); "Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти" (12:11)]: в Ветхом же Завете только в 3 Ездры так ясно говорится о победителе в духовной брани, и воздаянии за победу).
[§ 257] 3 Езд. 7:(97),55: "…лицо их засияет подобно солнцу и они уподобятся по блеску звёздам… Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание…".
[§ 258] Мф. 13:43: "тогда праведники воссияют, как солнце…" (ср. Дан. 12:3: "И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды…".
[§ 259] 3 Езд. 7:(98): "…они спешат увидеть лицо Того, Кому они служили при жизни…".
[§ 260] Откр. 22:4: "И узрят лице Его…"; 1 Ин. 3:2: "…увидим Его, как Он есть".
[§ 261] 3 Езд. 8:3: "Многие сотворены, но немногие спасутся".
[§ 262] Мф. 20:16: "…много званых, а мало избранных"; Мф. 7:14: "…немногие находят их (врата и путь в жизнь вечную)".
[§ 263] 3 Езд. 8:52; 10:54; 13:36: "ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни… построен город…"; "...начинал показываться город Всевышнего"; "И Сион придет и покажется всем приготовленный и устроенный…".
[§ 264] Откр. 22:2: "Среди улицы его… древо жизни…"; Откр. 21:2: "И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба…".
[§ 265] 3 Езд. 8:59-60: "Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто предуготовил им жизнь".
[§ 266] 2 Пет. 3:9: "…не желая, чтобы кто погиб…"; Рим. 1:21: "…не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили…".
[§ 267] 3 Езд. 11:32: "Эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были"; 5:6: "Тогда будет царствовать тот (антихрист), которого живущие на земле не ожидают…".
[§ 268] Откр. 13:2: "…дал ему (антихристу) дракон силу свою и престол свой и великую власть", "…и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем" (Откр. 13:7); "Он (лжепророк)… заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю…" (13:12).
[§ 269] 3 Езд. 11:37; 12:31-32: "И видел я: вот, как бы лев, выбежавший из леса и рыкающий, испустил человеческий голос к орлу… Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим к орлу и обличающим его в неправдах его всеми словами его, которые ты слышал, это - Помазанник, сохраненный Всевышним к концу против них и нечестий их, Который обличит их и представит пред ними притеснения их".
[§ 270] Откр. 5:5: "…вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил…". (В Ветхом Завете Христос нигде больше прямо не называется львом; потому указанные места - единственные, параллельные Откр. 5:5).
[§ 271] 3 Езд. 13:3-11: "Я смотрел, и вот, вышел крепкий муж с воинством небесным… и куда ни выходил голос из уст его, загорались все, которые слышали голос его... И после этого видел я: вот, собралось множество людей, которым не было числа, от четырех ветров небесных, чтобы преодолеть этого мужа…" (ср. ст. 34: "И соберется в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая идти и победить Его"). Он же… испускал из уст своих как бы дуновение огня… и сжег всех…".
[§ 272] Откр. 19:14,19: "И воинства небесные следовали за Ним… И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. …а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его" (ср. Зах 14:12: "И вот какое будет поражение, которым п.оразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него").
[§ 273] 3 Езд. 2:42: "Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа".
[§ 274] Откр. 7:9: "После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих".
[§ 275] 3 Езд. 13:12: "После сего я видел того мужа сходящим с горы и призывающим к себе другое множество, мирное".
[§ 276] Мф. 25:34: "Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира".
[§ 277] 3 Езд. 13:25-26: "…ты видел мужа, восходящего из средины моря (т.е. человечества), это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое…".
[§ 278] Откр. 5:9: "…Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу…"; 1 Пет. 2:24: "Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились".
[§ 279] 3 Езд. 13:31: "И будут предпринимать войны одни против других, город против города, одно место против другого, народ против народа, царство против царства"; 15:15: "…и восстанет народ на народ для войны, и мечи в руках их".
[§ 280] Мф 24:6-7: "Также услышите о войнах и о военных слухах… ибо восстанет народ на народ, и царство на царство…".
[§ 281] 3 Езд. 13:32: "Когда это будет и явятся знамения, которые Я показал тебе прежде, тогда откроется Сын Мой, Которого ты видел, как мужа восходящего".
[§ 282] Мф. 24:30: "тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою".
[§ 283] 3 Езд. 13:52: "…никто не может на земле видеть Сына Моего… разве только во время дня Его".
[§ 284] Мф. 13:17: "…многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели…"; Ин. 16:10: "…Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня".
[§ 285] 3 Езд. 15:4: "ибо всякий неверующий в неверии своем умрет".
[§ 286] Ин. 3:36: "…не верующий в Сына не увидит жизни"; Ин. 3:18: "…неверующий уже осужден…".
[§ 287] 3 Езд. 15:9: "Отмщу им, говорит Господь, и возьму от них к Себе всякую кровь неповинную".
[§ 288] Откр. 19:2: "Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее".
[§ 289] 3 Езд. 15:13,40-44: "Восплачут земледельцы… от страшной звезды. …и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее; и прольют на всякое место, высокое и возвышенное, страшную звезду… и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат его; соберутся к нему и окружат его; прольют звезду и ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого неба[Данное пророчество описывают взрыв ядерной бомбы: её действительно можно назвать звездой (и иначе древний пророк, которому Бог показал в видении взрыв этой бомбы, и не мог её назвать), ибо она падает с неба, сжигает всё вокруг и излучает свет, сильнее солнечного; при этом "пыль и дым" действительно поднимается "до неба", и покрывает всю землю]…".
[§ 290] Откр. 18:2,8-9: "…пал, пал Вавилон… За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем… И восплачут и возрыдают о ней цари земные… когда увидят дым от пожара ее".
[§ 291] 3 Езд. 15:46,52-53: "И ты, Асия, соучастница в надежде Вавилона и в славе его: горе тебе, бедная, за то, что уподоблялась ему и украшала дочерей твоих в блудодеянии, чтобы они нравились и славились у любовников твоих, которые желали всегда блудодействовать с тобою. Стал ли бы Я так ненавидеть тебя, говорит Господь, если бы ты не убивала избранных Моих во всякое время, поднимая руки на поражение их и глумясь над смертью их, когда ты была в опьянении?".
[§ 292] Откр. 17:1-2,5-6: "И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. …и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых...".
[§ 293] 3 Езд. 16:18: "Начнутся болезни, - и многие восстенают; начнется голод, - и многие будут гибнуть; начнутся войны, - и начальствующими овладеет страх; начнутся бедствия, - и все вострепещут".
[§ 294] Мф. 24:8: "всё же это - начало болезней"; Откр. 6:8: "…и дана ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом…"; Лк. 21:26: "люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную".
[§ 295] 3 Езд. 16:20-21: "Вот, голод и язва, и скорбь и теснота посланы как бичи для исправления: но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих и о бичах не всегда будут помнить".
[§ 296] Откр. 16:11: "и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих"; 9:20: "Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих...".
[§ 297] 3 Езд. 16:22: "…и подумают, что настал мир; но тогда-то и постигнут землю бедствия - меч, голод и великое смятение".
[§ 298] 1 Фес. 5:3: "Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба…".
[§ 299] 3 Езд. 16:23: "От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча".
[§ 300] Откр. 6:8: "…и дана ему (всаднику по имени "смерть") власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом…"; Откр. 6:4: "И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч".
[§ 301] 3 Езд. 16:39-40: "Как у беременной женщины, когда в девятый месяц настанет ей пора родить сына, часа за два или за три до рождения, боли охватывают чрево ее и, при выходе младенца из чрева, не замедлят ни на одну минуту: так не замедлят прийти на землю бедствия, и люди того времени восстенают; боли охватят их".
[§ 302] 1 Фес. 5:3: "…внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут".
[§ 303] 3 Езд. 16:42-43: "Продающий пусть будет, как собирающийся в бегство, и покупающий - как готовящийся на погибель; торгующий - как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом - как не надеющийся жить в нем".
[§ 304] 1 Кор 7:29-31: "…имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего".
[§ 305] 3 Езд. 16:53: "ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами".
[§ 306] Евр. 10:37: "ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит".
[§ 307] 3 Езд. 16:64: "Он знает намерение ваше и что помышляете вы в сердцах ваших…".
[§ 308] Ин. 2:25: "и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке".
[§ 309] 3 Езд. 16:75: "Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь: вот перед вами дни скорби, и от них Я избавлю вас".
[§ 310] Откр. 3:10: "И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения[Под "скорбью" у Ездры и "годиной искушения" в Откровении имеется в виду "великая скорбь" (Откр. 2:22)], которая придет на всю вселенную...".
[§ 311] Итак, как видим, соответствие приведенных мест "неканонических" книг Новому Завету, и их пророческая сила и верность очевидны!
[§ 312] 4) Следующий аргумент протестантов против "неканонических" книг таков: "Апокрифов не признавали еврейские книжники Иавнеи (90 г. от Р.Х.)".
[§ 313] Да, не признавали, но, как уже было сказано, решение иудеев, которые отвергли Христа и сами были отвергнуты Богом, не может быть для нас авторитетом. Впрочем, для объективности хорошо знать, чем руководствовались евреи при утверждении канона[Нужно заметить, что у евреев понятия "канон" отсутствует. Все книги они разделяют на святые и посторонние]. Главным образом, безусловно, они руководствовались еврейским языком: книги, которые были у них на еврейском, или которые были и на еврейском и на греческом, но о которых они точно знали, что оригинально они были написаны на еврейском, они включили в канон, остальные нет.
Таким образом, нужно полагать, что иудеи на соборе в Иамнии "неканонические" книги либо не имели на еврейском, либо имели не полностью, либо сомневались в том, что оригинально они были написаны на еврейском (а некоторые "неканонические" книги действительно были написаны не на еврейском, а на греческом языке). И хотя такай критерий полностью соответствует иудаизму, которое признаёт святость только еврейского языка - современные иудеи, например, говорят о невозможности удовлетворительного перевода торы на другие языки, что полноценно её можно изучать только на иврите, что "Септуагинта изобилует искажениями"[Вадим Черный, "Иисус, не знавший Христа", глава "Проблема текстов"], и что этот перевод вообще отрицательное явление, вызывающее "траур"[http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q3453.htm] - то для христиан, которые получили Новый Завет на греческом, и которым уже открыто, что Господь принимает все народы и на всех языках проповедуется Евангелие, такой критерий не может быть признаком истинности.
[§ 314] Другой критерий, который определённо учитывали иудеи при утверждении канона, еврейский алфавит: поскольку он состоит из 22-х букв, то и количество книг они, как известно, свели к 22-м книгам. "Не поместившиеся" же книги они оставили вне канона.
[§ 315] Также, очень весомым аргументом для иудеев могло быть время написания книг: книги маккавейские, например, были написаны во II веке до Р.Х., и могли быть отвергнуты иудеями только из-за своей "молодости".
[§ 316] Причиной не ведения 3 Ездры в еврейский канон послужило, главным образом, должно быть, то, что евреи считали её книгой тайной, которую нельзя открывать для всех. Об открытых и тайных книгах ясно говорится в самой 3 Ездры (см. ниже, § 323). Но для Своей Церкви, имеющей уже больше мудрости и благодати, чем древний Израиль, Господь расширил канон, и позволил ввести в него одну из действительно ранее тайных книг - 3 Ездры. Другие же "неканонические" книги, которые есть в Септуагинте, и для Израиля, и для язычников не были тайными, и иамнийские евреи не ввели их в свой канон по своей глупости и ревности не по разуму, несмотря даже на то, что древние евреи, сделавшие указанный перевод, считали эти книги частью Священного Писания.
[§ 317] Вообще, чем руководствовались иудеи при составлении канона на своём соборе в Иамнии доподлинно не известно и об этом можно только догадываться. Но как бы там ни было, важно то, что канон, составленный безблагодатными иудеями, не может быть для Церкви мерилом истины.
[§ 318] 5) "Ни один собор христианской церкви за первые четыре века после Рождества Христова не признавал Боговдохновенности апокрифов".
[§ 319] Данный аргумент - фактическая ложь. Лаодикийский Собор состоялся в IV веке, в 364 году, и к Ветхому Завету он причисляет книги Варуха и Послание Иеремии.
[§ 320] Кроме того, в 85-м Апостольском правиле к канону причисляются три книги Маккавейские и книга Сираха, а эти правила для Церкви имеют не меньший авторитет, чем Соборы, и помещаются в книге правил в самом начале. Также и св. Афанасий, живший в IV веке, в своём 39 послании (где впервые перечисляет полностью канон Нового Завета, который в таком виде приняли и протестанты) к канону причисляет книги Варуха и послание Иеремии. Остальные "неканонические" книги упоминает Карфагенский Собор, состоявшийся в 419 г. Но почему нужно не брать его во внимание лишь потому, что он состоялся в начале V века? Почему нужно думать, что канон Церковь должна была определить не позднее конца IV века, и что в V веке истинных Соборов уже не могло быть?
[§ 321] 6) "Против апокрифов выступали многие из отцов ранней церкви, например, Ориген, Кирилл Иерусалимский, Афанасий".
[§ 322] Здесь пора сказать о том, что Джош Мак-Дауэлл и все вообще протестанты путают "некононические" книги с апокрифами, в то время как апокрифами называются другие книги, такие как книга Еноха, Юбилеев, евангелия от Петра, от Никодима, от евреев, от Иакова (детства Иисуса); откровение Седраха, Варуха, Петра, Павла и многие другие, которых никогда не было в Септуагинте и которые Церковь никогда даже не пыталась ввести в библейский канон, которые ни на каком Соборе и ни в каком списке библейских книг никогда не упоминаются, ибо "апокрифы" значит "утаённые"[Джош Мак-Дауэл это признаёт, говоря: "Слово "апокрифический" происходит от греческого, и означает "спрятанный, скрытый"], и они по самой своей сути не могут быть в списке книг, предназначенном для всех, как Библия. Протестанты же совершенно не разделяют "неканонические" книги от апокрифов, и одни и другие книги называют просто "апокрифы".
[§ 323] Об утаённых книгах (апокрифах в истинном смысле) ясно говорится в 3 Езд. 12:37-38; 14:26,44-48: "Все это, виденное тобою, напиши в книге и положи в сокровенном месте; и научи этому мудрых из народа твоего, которых сердца признаешь способными принять и хранить сии тайны. (…) И когда ты совершишь это, то иное объяви, а иное тайно передай мудрым. (…) Написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги. И когда исполнилось сорок дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные и недостойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа; потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Так я и сделал".
Таким образом, одни ветхозаветные книги предназначались для всех - и достойных, и недостойных, а другие - только для мудрых. Со времен Ездры были написаны и другие тайные книги, в том числе и христианские. Поэтому, как в ветхозаветной Церкви было открытое учение для всех, и учение тайное лишь для мудрых, для верных и достаточно посвящённых, так это остаётся и в новозаветной Церкви. Именно о тайном учении Христос говорит: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями" (Мф. 7:6). О том же говорил и ап. Павел: "Мудрость же мы проповедуем между совершенными" (1 Кор. 2:6).
[§ 324] О тайном учении и необходимости сохранять его от взоров недостойных многократно говорит в своих посланиях и св. Дионисий Ареопагит: "даровало нам тайное предание наших боговдохновенных руководителей (Апостолов)"; "ограждая его ("божественное предание") от насмешек и глумления непосвященных"; "следуя священнейшему правилу не говорить и не показывать непосвященным ничего божественного"[О Божественных именах, гл. 1/4,8]; "Смотри, однако же, чтобы никто из непосвященных об этом не услышал"[Мистическое Богословие, гл. 2]; "Смотри же, как бы священнейшей святыни не вынести из ограды Церкви; поступай осторожно и тому, что касается сокровенного Бога, воздавай честь мысленным и незримым углублением, сохраняя это недоступным и неприкосновенным для непосвященных, а одним освященным сообщая святыню достойно святыни - вместе со священным просвещением"[О церковной иерархии, гл. 1/1].
О том же пишет и св. Василий Великий: "Из сохраненных в Церкви догматов и проповеданий, некоторыя мы имеем от письменного наставления, а некоторые прияли от апостольского Предания, по преемству в тайне… Благословляем также и воду крещения и елей помазания, ещё же и самого крещаемаго, по какому писанию? Не по преданию ли, умалчиваемому и тайному?.. Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведыванию молчании, быв здраво научены молчанием охранять святыню таинства? Ибо какое было бы приличие, писанием оглашать учение о том, на что непосвященным в таинство и воззрение не позволительно?.. Сия есть причина предания без писаний, дабы к многократно изучаемому познанию догматов не утратили многие благоговения, по привычке… Род же умолчания есть и неясность, которую употребляет Писание, неудобосозерцаемым творя разум догматов, ради пользы читающих..."[Книга правил, 91-е правило св. Василия].
[§ 325] Итак, можно видеть, что Церковь использует три способа сохранения тайны учения от непосвящённых:
1) неписанное предание (у различных преданий есть различная степень утаённости);
2) таинственность и неудобопонятность самих библейских текстов, которые нечестивые не разумеет, а любящим Бога открывается их смысл (об этом и говорит св. Василий: "род же умолчания есть и неясность, которую употребляет Писание"; о том же пишет и ап. Пётр, говоря, что в посланиях ап. Павла "есть нечто неудобовразумительное" (2 Пет. 3:16)) - по этой причине и возникает столько споров о том, чему на самом деле учит Библия;
3) тайные, апокрифические книги. И среди этих книг, безусловно, есть и ложные апокрифы, ибо невозможно представить, чтобы дьявол, вредящий Церкви везде и во всём, не попытался бы повредить эти книги и не "пристроить" к ним и свои. Именно этим и занимались в первые века церковной жизни так называемые гностики и прочие еретики. Зная, что у Церкви есть тайные книги, они писали свои ложные и еретические сочинения, и пытались выдать их за истинные апокрифы, за тайное учение Апостолов.
И нужно осознать, что гностического соблазна и всей этой тяжёлой с ними борьбы не могло бы быть, если бы в Церкви действительно не было бы никаких истинных апокрифов, если бы верные ничего не знали, как протестанты, ни о каком тайном учении[Кстати, тот факт, что в различных религиях и культах есть открытое учение для всех, и есть учение для посвященных, является лишь дьявольским подражанием Церкви]. Вот с этими лжеапокрифами и боролась Церковь, в частности те мужи, которых называет Джош Мак-Дауэлл. С истинными же апокрифами Церковь не боролась и не борется[Это понятно хотя бы из того обстоятельства, что многие факты рождения и жизни Пресвятой Богородицы (что родителей Её звали Иоаким и Анна; что у них долго не было детей и как слёзно они вымолили его у Бога; что Мария девочкой была отдана на воспитание в Храм; что первосвященники обручили Её вдовцу старцу Иосифу, у которого уже были взрослые дети, с обязательством соблюдать Её девство; что родила Она Христа в 16 лет; что во время рождения Христа остановилось время; что Мария, родив, осталась Девою, и пр.) Церковь знает из апокрифических книг (главным образом из протоевангелия от Иакова), и такой великий церковный праздник как Успение Богородицы также основан на апокрифе]: Она лишь сохраняет их втайне (или полу тайне), и отнюдь не предписывает всем их читать, поскольку многие в Церкви не являются достаточно зрелыми для вкушения этой твёрдой пищи.
[§ 326] Итак, борьба отцов и учителей Церкви с лжеапокрифами еретиков не имеет никакого отношения к "неканоническим" книгам и даже к истинным апокрифам. Св. Афанасий, упомянутый Джош Мак-Дауэллом, никогда не боролся с "неканоническими"; напротив, и некоторые из них он даже причисляет к библейскому канону.
[§ 327] 7) "Иероним (340-420 от Р.Х.), знаменитый ученый и переводчик Вульгаты, отвергал апокрифы как часть канона. Об этом он спорил с Августином, находившимся по ту сторону Средиземного моря. Вначале он даже отказался переводить их на латынь, но впоследствии дал торопливые переводы некоторых из них. После его смерти, буквально "через его труп", апокрифические книги были перенесены в Вульгату из старой латинской Библии".
[§ 328] Никто не говорит о том, что вопрос о каноне Церковь сразу и единогласно решила, как только была написана последняя книга Нового Завета. Напротив, о каноне, как ветхозаветном, так и новозаветном, были разномыслия (по слову Апостола: "Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные" (1 Кор. 11:19)) и разные Соборы и Отцы составляли разные списки книг. Блаж. Иероним, как известно, долгое время жил в Палестине, изучая еврейский язык и работая над переводом Библии на латынь, и поскольку евреи следовали иамнийскому канону, то и он, что естественно, склонялся к следованию ему.
Но, во-первых, мнение блаж. Иеронима не есть ещё мнение всей Церкви - сам факт его спора с блаж. Августином как раз и говорит о том, что его позиция не была общецерковной, и почему нужно считать, что прав был блаж. Иероним, а не блаж. Августин?; во-вторых, блаж. Иероним всё же сделал переводы некоторых "неканонических" книг. Значит и он сам не был настроен решительно против этих книг, и церковные власти отнюдь не разделяли его мнение о каноне, если повелели ему перевести эти книги и внесли их в латинскую Библию (Вульгату).
[§ 329] 8) "В период Реформации апокрифические книги отвергались многими римско-католическими богословами".
[§ 330] Во-первых, нужно помнить, что "неканонические" книги входили (и входят) в Вульгату, а значит - являлись для католиков частью Священного Писания: если бы не так, их бы просто не было в их Библии. Брожения в умах католических богословов по поводу "неканонических" книг начались как раз под влиянием Реформации. Но вскоре эти разномыслия в католической среде закончились утверждением на Тридентском Соборе в 1546 году этих книг как канонических[Они были названы "девтероканоническими" (второканоническими), но "вторыми" не по их значимости, а только по времени принятии в канон].
Во-вторых, для решения вопроса о каноне очень мало значит, что думали о нём латиняне в XVI веке, ведь они уже давно находились в духовном отступлении, что единогласно признают как православные, так и протестанты (хотя по разному видят, в чём оно выражается).
[§ 331] 9) "Принадлежность апокрифов к канону отрицалась Лютером и его реформаторами".
[§ 332] Что думал Лютер и реформаторы о каноне имеет ещё меньшее значение для вопроса о каноне, чем мнение католиков. Лютер, например, вместе с "неканоническими" книгами отвергал и послание Иакова. Так что же протестанты не считаются в данном вопросе с мнением своего основателя? (Причём, нужно отметить, что Лютер не исключил из Библии "неканонические" книги, кроме 3 Ездры, и в своем переводе Библии на немецкий язык в 1534 г. выделил их в особый раздел, помещавшийся между Ветхим и Новым Заветом).
[§ 333] 10) "Римско-католическая церковь признала апокрифические книги, принадлежащими к канону, лишь в 1546 году от Р.Х. в Тридентском Соборе, имевшем контрреформационный характер. Этот шаг имел явную полемическую окраску".
[§ 334] Нет, у западной Церкви с древности, от блаж. Иеронима Библия включала "неканонические" книги, хотя эти книги имели у них несколько неопределенный статус. А на своём Соборе они лишь подтвердили свою веру. Так всегда поступала и Церковь: на своих Соборах Она только подтверждала и официально и авторитетно заявляла о своей вере (особенно о тех её положениях, которые прежде не были чётко сформулированы и а которые нападали еретики), а не изобретала что-то новое.
[§ 335] Вот ещё другие 4 аргумента против "неканонических" книг, которые приводит Джош Мак-Дауэлл в своей книге "Неоспоримые свидетельства" (со ссылкой на "Библейский словарь" Унгера). Общую оценку этим аргументам можно дать такую: они являются просто голыми, субъективными, клеветническими и предубежденными заявлениями, не подкреплёнными никакими примерами и фактами. Кратко рассмотрим их.
[§ 336] 1) "Они ("неканонические" книги) содержат исторические и географические неточности, а также множество анахронизмов".
[§ 337] Об исторических и географических неточностях постоянно говорят либералы и атеисты; эти "неточности" они находят практически во всех библейских книгах, особенно Ветхого Завета. Но консервативные протестанты этому не верят и находят этим "противоречиям" объяснения, веруя, что ошибаться может наука и учёные, но не Библия. Но так как протестанты не верят "неканоническим" книгам, то в отношении их они с радостью и без всякого отпора принимают эту либеральную критику.
[§ 338] 2) "Они учат ложным взглядам и поддерживают обряды, расходящиеся с Боговдохновенным Писанием".
[§ 339] Под ложными взглядами протестанты имеют ввиду, нужно полагать, прежде всего молитвы за умерших, о которых ясно говорится в 2 Макк. 12:39-45. Но, как было показано в 4-й главе моей книги, молитвы за умерших это не ложный взгляд, и канонические книги (равно как и древнецерковные письменные и археологические свидетельства) полностью подтверждают это учение.
[§ 340] 3) "В них выведены литературные типы и содержится искусственность сюжета и стиля, которых нет в Писании".
[§ 341] Здесь можно только недоумевать: где протестантам видится в "неканонических" книгах искусственность стиля и сюжета? Данное мнение совершенно предвзято и надумано. Напротив, дух этих книг един с остальным Священным Писанием.
[§ 342] 4) "Им недостает отличительных черт, которые делают подлинные Писания Божественными, - таких, как пророческая сила, поэтическое и религиозное чувство".
[§ 343] Здесь тот же вопрос: где протестанты заметили в этих книгах нехватку пророческой силы, поэтичности и религиозного чувства? Напротив, эти книги написаны весьма поэтично, с сильнейшим религиозным чувством, и содержат много важных пророчеств. Если бы протестанты не были предубеждены против этих книг, то они никогда при чтении их не сказали бы того, что они говорят.
То есть, если бы они ничего не знали о каноне и им бы сказали, что некоторые книги в Библии неканонические, и что нужно их выявить, то по объективным причинам они скорее бы исключили книгу Есфирь, где ни разу не употребляется слово "Бог", чем Иудифь; и книгу Екклесиаста, где выражаются как бы сомнения в бессмертии души, воскресении и воздаянии (например: "Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому…" (9:2); "Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния…" (9:5); см. также 3:18-21; 5:14-16,19; 6:3-8,12; 8:7; 9:2-5,10) - потому, кстати, эту книгу так любят цитировать субботники и "свидетели", не верующие в ад и бессмертие души - чем книгу Премудрости Соломона, где о воскресении и воздаянии говорится с ясностью Нового Завета (например: "Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его" (5:1); "А праведники живут вовеки; награда их - в Господе, и попечение о них - у Вышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа…" (5:15-16); ср. 3:4,7,14,18; 4:10-11), и где содержится такое яркое пророчество о Христе (2:12-21); и Песни Песней, с её, как может показаться, слишком откровенным эротизмом, чем книгу Сираха, ни в чём не уступающую по мудрости притчам Соломона; и какую ни будь книгу малого пророка, чем 3 Ездры, где находится множество великих и сильных пророчеств.
[§ 344] Вообще, наибольшее недоумение вызывает то, что протестанты говорят о недостатке пророческой силы "неканонических" книг. Выше были приведены явно пророческие места из "неканонических" книг. Предлагаю моему читателю вернуться и прочесть ещё раз эти места (например, § 26, 30, 32, 44, 46, 52, 102, 181 и большинство мест из 3 Ездры). К ним хочу добавить ещё несколько ярких пророчеств из "неканонических" книг.
[§ 345] Пророчество о Церкви и язычниках: "Предам домы ваши людям грядущим, которые, не слышав Меня, уверуют, которые, хотя Я не показывал им знамений, исполнят то, что Я заповедал, не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях. Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев Меня очами плотскими, но духом веруя тому, что Я сказал, торжествуют с весельем. Итак теперь смотри, брат, какая слава, - смотри на людей, грядущих с востока…" (3 Езд. 1:35-38).
[§ 346] Пророчество о Христе, Его Церкви и воздаянии: "Посему вам говорю, язычники, которые можете слышать и понимать: ожидайте Пастыря вашего, Он даст вам покой вечный, ибо близко Тот, Который придет в скончание века. Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет немерцающий воссияет вам на вечное время. Избегайте тени века сего; приимите сладость славы вашей. Я открыто свидетельствую о Спасителе моем. Вверенный дар приимите, и наслаждайтесь, благодаря Того, Кто призвал вас в небесное царство. Встаньте и стойте, и смотрите, какое число знаменованных на вечери Господней, которые, переселившись от тени века сего, получили от Господа светлые одежды. Приими число твое, Сион, и заключи твоих, одетых в белые одеяния, которые исполнили закон Господень. Число желанных сынов твоих полно. Проси державу Господа, чтобы освятился народ твой, призванный от начала. Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. Посреди них был юноша величественный, превосходящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого из них и тем более возвышался; я поражен был удивлением. Тогда я спросил Ангела: кто сии, господин мой? Он в ответ мне сказал: это те, которые сложили смертную одежду и облеклись в бессмертную и исповедали имя Божие; они теперь увенчиваются и принимают победные пальмы. Я спросил: а кто сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы? Он отвечал мне: Сам Сын Божий, Которого они прославляли в веке сем. И я начал славить их, мужественно стоявших за имя Господне. Тогда Ангел сказал мне: иди и возвести народу моему, какие видел ты дивные дела Господа Бога" (3 Езд. 2:34-48).
[§ 347] А вот какое ясное пророчество о Христе, что Он - Сын Божий, о Его полном имени и Его смерти: "Ибо откроется Сын Мой Иисус… А после этих лет умрет Сын Мой Христос…" (3 Езд. 6:28-29); ср. 3 Езд. 13:37: "Сын же Мой обличит нечестия…".
[§ 348] Пророчество о воскресении, Страшном Суде и воздаянии: "И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда. И откроется озеро мучения, а против него место покоя; видна будет печь геенны, а против нея рай сладости. И скажет тогда Всевышний пробудившимся народам: "посмотрите и поймите, кого вы отвергли, кому вы не служили и чьи заповеди вы презрели. Взгляните прямо пред собою и напротив: там сладость и покой, а тут огонь и мучения". Вот что скажешь Ты им в день суда" (3 Езд. 7:32-35,(36-38)).
[§ 349] А вот пророчество о последнем времени: "и однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три и четыре месяца, и они останутся живыми, и укрепятся" (3 Езд. 6:21). Действительно, мы все свидетели исполнения данного пророчества: в последнее время всё чаще появляются такие дети, которые в 1 год бегло разговаривают, а медицина не так давно достигла того, что действительно, трёх-четырёх месячные дети могут быть выхоженными, о чём во все прежние века и помыслить было не возможно. Так не ясно ли, что такое пророчество могло быть произведено лишь всеведущим Духом Божиим?
[§ 350] При описании войн последнего времени Ездра упоминает о "мечах летающих" (3 Езд. 15:41). Очевидно, ему были показаны летящие ракеты (или самолёты), которые он таким выражением. Но как он мог говорить о летающих мечах, если Господь не открыл бы ему этого?
[§ 351] Теперь хочу дать краткую характеристику каждой из отвергаемых протестантами книг в отдельности, отвечая по ходу на те возражения, которые приводит против этих книг Джош Мак-Дауэлл (ссылаясь на Ральфа Эрла).
[§ 352] 2 Ездры. Эта книга почти полностью повторяет 1 Ездры и Неемию, и во многом книги Паралипоменон. По этой причине, не признавать эту книгу канонической есть меньше всего оснований. Ральф Эрл так говорит о 2 Ездры: "Наиболее интересна в этой книге история трех стражей, споривших о том, что сильнее всего на свете. Один из них сказал: "Вино", другой - "Царь", а третий - "Женщина и истина". Свои ответы они положили под подушку царю. Проснувшись, царь потребовал от трех стражей доказать их точку зрения. Единодушным решением стало: "Истина несет в себе высшую, недосягаемую силу". Зоровавель, которому принадлежал этот ответ, получил в награду право заново отстроить храм в Иерусалиме". Но при этом он совершенно огульно называет эти сведения "легендарными". Но откуда ему известно, что этого не могло быть, что это легенда? Почему протестантам история о том, как Даниил был брошен в ров ко львам, а трое отроков в печь, но при этом они остались живыми, и прочие многие подобные, казалось бы, невероятные библейские истории не кажутся легендами, а история с Зоровавелем, где нет ничего чудесного, кажется легендой?
[§ 353] Товита. Данная книга повествует об Ассирийском пленении 10 колен Израилевых, случившемся в 722 г. до Р.Х. О жизни иудеев в Вавилонском пленении мы знаем из книги Есфири и Даниила; о жизни же израильтян в плену Ассирийском говорит только книга Товита. Потому в этом отношении она уникальна, и восполняет важный пробел в истории народа Божия.
[§ 354] Ральф Эрл характеризует эту книгу так: "повесть, фарисейская по своему тону, и подчеркивающая необходимость соблюдать Закон Моисеев, употреблять лишь чистую пищу, совершать ритуальные омовения, жертвовать бедным, поститься и молиться. Ее идея, что милостыней можно искупить грех, явно противоречит Священному Писанию". Эти слова - явное свидетельство того, что протестанты в своем слепом отвержении "неканонических" книг впадают в какое-то безумие. Они как бы забывают, что речь идёт о книге Ветхого Завета. Ветхий же Завет постоянно говорит о необходимости:
1) соблюдать Закон Моисеев: "пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием - поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его" (Неем. 10:29);
2) употреблять лишь чистую пищу: "Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил Я, как нечистое" (Лев. 20:25);
3) совершать ритуальные омовения: "Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою…" (Лев. 14:8);
4) жертвовать бедным: "…не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим" (Втор. 15:7); "…кто милосерд к бедным, тот блажен" (Прит. 14:21);
5) поститься: "пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь…" (Есф. 4:16); "Назначьте пост…" (Иоил. 1:14);
6) молиться: "И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас" (Иер. 29:12). Причем, к совершению последних трёх добродетелей многократно призывает и Новый Завет (см., напр., Лк. 3:11; Мф. 6:16; Мк. 14:38). Так чем же книга Товита противоречит Библии?
[§ 355] То же относится и к заявлению: "Ее идея, что милостыней можно искупить грех, явно противоречит Священному Писанию". Нет, данная идея - совершенно типична для Ветхого Завета! У Даниила мы читаем: "Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным..." (4:27). Поэтому, протестантам нужно отвергать как противную Св. Писанию и книгу Даниила. Смущение протестантов мыслью о том, что милостыней (и вообще делами) можно искупить грех, происходит главным образом от их неверного понимания взаимосвязи веры и дел, о чём говорилось в гл. 6.
[§ 356] Итак, книга Товита весьма благодатна и трогательна, и в ней и близко нет ничего фарисейского. Она показывает нежную Божью заботу о любящих Его, и убеждает хранить верность Завету и соблюдать Божьи заповеди в условиях, когда почти все израильтяне отступили от Бога.
[§ 357] Иудифь. Данная книга повествует о том, как весьма красивая, мудрая и богобоязненная иудейская женщина Иудифь спасла свой народ от уничтожения, которое готовил ему Олоферн, военачальник царя Навуходоносора. Книга Иудифь в определённом смысле подобна книге Есфирь, где рассказывается похожая история.
[§ 358] О книге Иудифь Ральф Эрл, что она "тоже отличается фарисейской позицией и литературностью". Когда протестанты обвиняют в фарисействе книгу Товита, то можно, зная их менталитет, хотя бы догадаться, почему они это говорят. Но данное обвинение в адрес Иудифи - совершенно нелепо. Если книга Левит, которая почти вся состоит из обрядовых предписаний, не кажется протестантам фарисейской, то что фарисейского они нашли в Иудифи? Здесь опять на лицо крайняя предвзятость протестантов к "неканоническим" книгам и потребность придумать хоть какое ни будь обвинение против них.
[§ 359] Что же касается "литературности", то этим автор, безусловно, выражает своё неверие данной книге, но история Иудифи не более чудесна, чем история Есфири, и не верить/sup ей нет никаких оснований.
[§ 360] Премудрости Соломона. Данная книга относится к разделу поэтических книг, и подобна книгам Притчи и Сираха. В ней, как мы видели, не мало важных пророчеств (см. § 46, 52, 58-80, 102), а также много весьма мудрых наставлений.
Эту книгу, обычно, даже протестанты не решаются критиковать - Ральф Эрл признаёт, что в книге Премудростей "содержится немало благородных мыслей". Хотя, при этом он утверждает, что данная книга была написана в 40 г. от Р.Х. и, естественно, не является творением Соломона. Но в 33-м правиле Карфагенского Собора к каноническим писаниям причисляются "Соломоновых книг четыре", то есть: Притчи, Екклесиаст, Песни Песней и Премудрости, и лучше веровать данному древнему Собору, нежели выдумкам либералов.
[§ 361] Премудрости Иисуса, сына Сираха. Эта книга написана настолько мудро и разумно, что даже протестантского скептицизма и неверия не достаточно для того, чтобы сказать о ней что-то дурное. Напротив, от многих протестантов я неоднократно слышал высказывания о том, что это очень полезная книга, не уступающая Притчам Соломона. Ральф Эрл в своей характеристике даже приводит цитаты из неё, чтобы показать её мудрость, и замечает, что известный протестантский миссионер "Джон Весли нередко пользовался этой книгой в своих проповедях. Ее и поныне широко используют в англиканских кругах". Не понятно только то, почему протестанты при всём этом не включили до сих пор эту книгу в свою Библию - вот настолько свято они чтят предание иудеев-богоборцев.
[§ 362] Послание Иеремии. Данное послание, состоящее из одной главы, написано пророком для иудеев, идущих в вавилонский плен. Это краткое и великолепное резюме всех тех многочисленных увещеваний пророков против идолопоклонства. Трудно даже представить, как можно ещё сильнее и талантливее написать краткое наставление на данную тему. Даже протестанты не находят в ней ничего, к чему можно было бы придраться.
[§ 363] Варуха. Это пророческая книга не уступает по своей духовной силе другим малым пророкам. Протестантам также нечего против неё сказать. Они лишь, как обычно, отрицают её авторство и время написания, датируя её примерно 100 г. по Р.Х["Неоспоримые свидетельства", глава 3]. Но это - очередная и типичная либеральная выдумка.
[§ 364] Три книги Маккавейские. Эти книги описывают борьбу иудеев, под предводительством священника Матафии и его сыновей, братьев Маккавеев, против сирийского царя Антиоха IV Епифана (175-163 гг.), который превратил иерусалимский Храм в языческое капище, "мерзость запустения" (1 Мак. 1:54), запретил иудеям исполнять закон Моисея и начал настоящее гонение на тех, кто не подчинялся его указу. Еп. Нафанаил замечает, что когда настали гонения на христиан, то "все бесчисленные сонмы христианских мучеников первых веков вдохновлялись на подвиг святейшим примером мучеников Маккавейских, о которых повествует 2-я книга Маккавейская"["О святой Библии"].
В книге "Неоспоримые свидетельства" говорится, что "первая книга Маккавеев… является, возможно, самой ценной из апокрифических книг. В ней описываются подвиги трех братьев Маккавеев - Иуды, Ионафана и Симона. Наряду с книгами Иосифа Флавия, она представляет собой один из самых важных источников по этому важному и богатому событиями периоду еврейской истории". Действительно, без этих книг мы бы намного меньше знали о тех 400 лет жизни иудеев от пророка Малахии до Христа.
[§ 365] 3 Ездры. Данная книга относится к разделу апокалиптики. В ней содержится много сильных пророчеств и весьма важных и точных откровений: выше (§ 187-309) были показаны многие из них. И эти пророчества должны быть для скептиков-протестантов[Равно как и для православных скептиков, ибо, к сожалению, даже некоторые православные богословы заражаются либерализмом в отношении к 3 Ездры и других "неканонических" книг] главным признаком истинности и святости этой книги.
[§ 366] Выше (§ 322-325) уже было сказано о тайных книгах. 3 Ездры это полу тайная книга: ранее она была тайная[В Толковой Библии об этом говорится: "Можно сказать с блаж. Иеронимом, что книгу эту лучше бы отнести к апокрифам"] (по этой причине она и не была помещена евреями в Септуагинту), но со временем Господь сделал её открытой. Так Господь поступает не редко, и сами протестанты используют термин "прогрессивное откровение", который говорит как раз о том, что Господь открывал Себя и догматы веры людям не сразу, а постепенно, поэтапно. Так, Бог открыл людям Себя как Троицу только в Новом Завете. До этого Он говорил о Себе как Боге Триедином лишь намёками. Причём это учение, тринитарное Богословие, было развито и открыто для всех Церковью не сразу, а лишь в IV-V веках.
То же нужно сказать и о Божьем замысле соединить в Церкви все народы, а не только народ еврейский. До времени Господь скрывал эту тайну, и открывал её лишь в туманных изречениях - открыто же Он говорил о спасении и избранности лишь Израиля. Но потом Бог вполне открыл эту тайну язычников ап. Павлу, о чём он неоднократно упоминает в своих посланиях: "…мне через откровение возвещена тайна…" (Еф. 3:3); "тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его" (Кол. 1:26); "по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано" (Рим. 16:25; ср. 11:25; 1 Кор. 2:7; Еф. 1:9; 3:3-4,9; 6:19; Кол. 1:27; 4:3). И этой тайны до времени не понимали даже Апостолы[Об этом говорилось в гл. 14].
[§ 367] Есть и другие случаи, когда Господь открывает нечто постепенно, и что становится ясным только со временем. Например, многие пророчества, такие как приведенные в § 289, 349 и 350, становятся понятными только со временем. Также и пророчество из Откровения о том, что "никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его" (13:17) для всех предыдущих поколений было не понятно - нам же, дожившим до электронных денег, видящим, как объединяется мир в глобализации; как уже открыто говорят о чипах, которые планируют помещать человеку под кожу для его отождествления и хранения о нём всех данных; что вся эта система пронизана числом зверя 666, становится намного понятнее, о чём говорит данное пророчество. И всё касающееся последнего времени, то есть эсхатологии, Церковь будет всё больше понимать по мере приближения к последним временам.
[§ 368] Так вот, одно из важнейших событий перед приходом антихриста и концом мира будет раскрытие и объяснение Церковью тайных книг. (Сделано это будет для борьбы с антихристом и для спасения как Церкви, так и многих, оставшихся на Великую Скорбь). Об этом событии ясно пророчествовал Ездра: "А когда назнаменается век, который начнет проходить, то вот знамения, которые Я покажу: книги раскроются пред лицем тверди, и все вместе увидят" (3 Езд. 6:20). И в этом Божьем промысле раскрытия тайных книг и их смысла перед концом мира находится и сама третья книга Ездры, которая была раскрыта (и даже введена в состав Священного Писания) первой, и служит, таким образом, авторитетным указанием на существование святых тайных книг и переходом к их раскрытию… Но если об этом и православные мало что знают, что протестанты тем более. А знать это, особенно нам, живущим в последнее время последнего времени, крайне важно!
[§ 369] Что же говорят протестанты против 3 Ездры? Мак-Дауэлл приводит известный факт, что "Мартин Лютер был настолько смущен этими видениями, что, как рассказывают, выбросил эту книгу в реку Эльбу". То есть, Лютеру показалось, что пророчества этой книги совершенно не соответствуют книге Откровения и другим библейским пророчествам. На самом же деле, пророчества 3 Ездры находятся в удивительной гармонии с Библией и самой реальностью, которую мы уже наблюдаем, и в § 187-309, 345-350 одно и другое соответствие было ясно показано. Потому, если Лютер был слеп, то нам совершено не обязательно следовать его слепоте.
[§ 370] Неверующие в Богодухновенность 3 Ездры говорят ещё, что в ней описаны странная и мифическая история о сотворении огромных чудовищ бегемота и левиафана (6:49-52). Но о бегемоте и левиафане ещё более подробно говорится в книге Иова (40:10-27), и упоминается в Пс. 73:14; 103:26 и Ис. 27:1. Об этих животных неоднократно говорится и в иудейских преданиях - Талмуде и таргуме[См. Толковую Библию, толкование на 3 Езд. 6:49-52]. Это одна из тайн Божиих, которая откроется в последнее время, и непонимание её не может быть основанием для отвержения 3 Ездры - тогда нужно отвергать и другие вышеуказанные книги.
[§ 371] Говоря о каноне, важно уяснить
1) само значение этого понятия, а также
2) взаимоотношение канонических, библейских книг, и других священных книг Церкви.
Дело в том, что протестанты очень не точно понимают как один, так и другой пункт. Известно, что "канон" значит "мера длины", на подобии нашего метра. В энциклопедии Википедия о каноне говорится так: "Исследователи выводят происхождение греческого термина "канон" от западно-семитского слова ![]() , "тростник, камыш", обозначавшего в числе прочего тростниковый шест, использовавшийся в строительстве для точности измерений в качестве эталона длины".
, "тростник, камыш", обозначавшего в числе прочего тростниковый шест, использовавшийся в строительстве для точности измерений в качестве эталона длины".
Обычно протестанты хорошо об этом знают, и применительно к Библии делают такой вывод: книги, вошедшие в канон, то есть Библия, это эталон, это Богодухновенные и безошибочные писания; остальные книги подложны, не Богодухновенны, не имеют никакого (или большого) значения и всегда содержат ошибки. Поэтому, для сознания протестантов книги Библии отстоят от прочих книг на бесконечном расстоянии. Но это весьма искажённый вывод из понятия канона. Да, канон, безусловно, есть эталон, это можно сказать самые святые и важные книги, но канон есть ещё и мера.
То есть, определив канон, Церковь (или лучше сказать - Сам Дух Святой) не просто отделила истинные, Богодухновенные и безошибочные книги из среды не истинных, не Богодухновенных и содержащих ошибки. Для канона Церковь, безусловно, избрала самые святые книги, но кроме этого, Она руководствовалась ещё и мерой, то есть: для канона достаточно вот такой меры, вот стольких книг, и не больше - вот что очень важно понять!
Отличным примером для иллюстрации этого служит то, как составляют в настоящее время учебники для школ или вузов. Есть большой предмет, например, русская литература или биология. Оба эти предмета весьма обширны, и их нельзя охватить сразу. Поэтому, для школьной программы составляют учебники по двум важнейшим критериям:
1) он должен быть лучшим изложением предмета;
2) он должен давать определённую меру - не больше, и не меньше - самых главных знаний, которые министерство образования считает необходимым и достаточным для принятой программы. Итак, в данном контексте школьный учебник можно с полным правом назвать каноном. Но значит ли это, что министерство, избрав из многих учебников один, считают все остальные плохими и неправильными? Нет, другие могут быть тоже весьма неплохими, просто министерство образования посчитало избранный учебник наиболее удачным.
Кроме того, минобразования никак не отвергает те знания по данным предметам, которые не вошли в школьную программу - просто их посчитали не настолько важными, или слишком сложными для школьников. И конечно, если ученик, изучив учебник, станет и дальше углубляться в предмет и станет читать другие книги, то учителями это будет только поощряться.
[§ 372] Вот так же обстоят дела и с библейским каноном. Из многих богодухновенных и святых книг Церковь избрала для своих чад:
1) наиболее удобоприемлемые, которые можно и полезно читать всем, и
2) определённое количество книг, достаточное для того, чтобы понять суть христианской веры.
Но это вовсе не значит, что кроме Библии нет больше истинных и Богодухновенных книг. Например, св. Афанасий Великий в известном своём 39 праздничном послании после перечисления книг "принятых в канон" говорит: "…есть, кроме сих, и другие книги, не введенные в канон, но назначенные отцами для чтения нововступающим, и желающим огласиться словом благочестия: премудрость Соломонова, премудрость Сирахова, Есфирь, Иудифь, и Товия, и так именуемое Учение апостолов, и Пастырь".
Впоследствии промыслом Божиим первые пять книг были введены Церковью в библейский канон, а последние две - нет. К этим книгам нужно отнести и Постановления Апостольские[Об этой великой и весьма важной книге нужно заметить, что, к сожалению, со временем еретикам удалось испортить эту книгу. Во 2-м правиле Шестого Вселенского Собора об этом говорится: "Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятыя, и утвержденныя бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а так же и нам преданныя именем святых и славных Апостолов, восемьдесят пять правил. Поелику же в сих правилах повелено нам принимать оных же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которыя некогда иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, и помрачившее для нас благолепную красоту Божественнаго учения: то мы, ради назидания и ограждения Христианской паствы, оные Климентовы постановления благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретическаго лжесловесия, и не вмешивая их в чистое и совершенное Апостольское учение". Кроме того, в самом 85-м апостольском правиле, на которое и ссылается Собор, о Постановлениях говорится, что их "не подобает обнародовати пред всеми ради того, что в них таинственного". Таким образом, данная книга является тайной, и предназначена отнюдь не для всех (выявить же в ней не многие вставки еретиков не так трудно, если знать суть дела)] и два послания Климента, которые в 85-м Апостольском правиле относятся "к чтимым и святым книгам", то есть к канону. Но Церковью все эти книги (в итоге) не были причислены к канону вовсе не потому, что их посчитали не святыми или небогодухновенными - нет. Просто канон не может вместить в себя все святые книги, и по самому своему определению должен иметь меру, как имеет меру всякий учебник. Определив канон, Церковь как бы говорит своим духовным чадам: вот главные книги, которые всем вам обязательно и прежде всего нужно читать и изучать[Канон, кроме прочего, отделяет книги открытые, которые можно читать всем, от книг тайных, для мудрых]. Но, повторюсь, это не значит, что Церковь ограничивает круг Богодухновенных и святых книг каноном.
[§ 373] Чтобы с ещё большей ясностью понять то, чем является канон, нужно осознать тот факт, что в Евангелие (т.е. в канон), вошли лишь некоторые слова Христа. При этом совершенно понятно, что не введя в канон многие слова Христа Церковь (и Сам Дух Святой) не отделила истинные, святые и Богодухновенные слова Христа от не таковых - нет, ибо все слова Христа на протяжении всей Его жизни были святы, истины и Богодухновенны. Церковь лишь избрала определённую меру самого главного, что говорил и чему учил Христос. Вот так же Она поступила и со святыми книгами.
[§ 374] Здесь, кстати, нужно сказать ещё об одном недопонимании протестантов касательно Библии и вообще слов Божиих. Они знают лишь о разделении слова Божьего и слова человеческого, и писаний Богодухновенных и не Богодухновенных. На самом деле, как у всех плодов и даров Духа - святости, любви, смирения, терпения, прощения, пророчества, чудотворения, вспоможения и т.д. - есть степень (то есть, разные люди обладают одними и теми же дарами и проявлениями Духа, но в разной степени и силе), так и Богодухновенность у книг бывает разная. Можно сказать, что у Богодухновенности есть иерархия. Библейские книги стоят, безусловно, на высоте этой иерархии, хотя и сами библейские книги подчинены своей внутренней иерархии.
Например, из всей Библии лишь Евангелие (именно 4 Евангелия) православные полагают на престоле в алтаре, лишь его целуют и читают наиболее торжественно. За Евангелием следует книга Апостол - то есть, Деяния и послания Апостолов, за ней Псалтирь, а потом остальные книги Ветхого Завета. За Библией идут другие весьма святые книги, такие как Дидахе, Пастырь Ермы, послания св. Климента и подобные. На следующую ступень святости можно поставить писания святых отцов, которые также разняться по святости и силе. Например, те послания святых отцов, которые введены в книгу правил, имеют больше авторитета и святости, чем другие книги отцов, и т.д.
[§ 375] Кроме этого, в Церкви есть как минимум три различных канона -
1) библейский,
2) богослужебный (в который входят книги, читаемые за Богослужением - служебник, требник, часослов, октоих и пр.) и
3) канон догматов и правил церковного благочестия, которые составляют книгу правил, называемую ещё канонником или кормчей (в ней находятся: апостольские правила, правила Семи Вселенских Соборов, правила Святых поместных Соборов и правила святых отцов, признанные каноническими). И все эти каноны Церковь почитает Богодухновенным и непогрешимым Словом Божиим. У православных, например, нет ни малейшего сомнения в полной святости каждого слова литургии, хотя она не входит в библейский канон!
[§ 376] Таким образом, православные, зная, что библейским каноном отнюдь не ограничивается круг Божественных и святых книг - иначе говоря, не одна Библия содержит и провозглашает веру Христову и Божественное предание Церкви - могут вместе с Библией читать и почитать и другие книги.
Протестанты же со своим ущербным и весьма превратным пониманием канона лишают себя множества по истине Божественных и святых книг, то есть огромной части Божественного Предания, без которого нельзя понять и главную часть этого Предания - Священного Писания.
[§ 377] И последнее, что хотелось бы сказать протестантам о каноне: если Библия есть Слово Божие, и если о Своём Слове Господь проявляет особенное попечение (о чём постоянно говорят и пишут протестанты), то как же получилось, что в протестантской Библии оказалось не святое число 77[Что Божье число есть 7 понятно даже людям, далёким от Церкви. Так, в Апокалипсисе мы читаем о семи Церквах, семи звездах в руке Христа, семи светильниках, семи Ангелах, семи печатях на книге, семи трубах, семи очах, которые суть семь духов Божиих, семи громах, семи золотых чашах, и пр. Число 7 Господь вложил и в наш мир при сотворении: семь дней Бог творил мир, и наша неделя до сих пор состоит из 7-ми дней; в музыке у нас 7 нот; радуга включает в себя 7 цветов. Число 7 свято и для Церкви: у неё есть 7 Таинств; её вера утверждена 7-ю Вселенскими Соборами; в алтаре за престолом у неё находится семисвечник], а довольно соблазнительное 66, и не является ли само число книг православного канона Божьим знаком и помощью человеку в его поиске истины?
После выхода в свет первого издания книги я получил более 500 писем от своих читателей. В настоящем приложении я хочу привести некоторых из этих писем, чтобы мои бывшие единоверцы протестанты могли увидеть и понять, что обращение от протестантизма к Православию, возвращение в Церковь из сектантства - это повсеместное, нормальное явление, как свидетельствует о том протестантский профессор богословия Дон Ферберн, лекции которого я слушал в ДХУ: "Евангельские христиане все больше и больше слышат, узнают, а некоторые даже на собственном опыте переживают мир православного христианства, так как на протяжении этого десятилетия неуклонно растет количество евангельских христиан, перешедших в Православную Церковь" (Д.М. Ферберн, "Иными глазами", стр. 10).
Письма эти очень назидательны, интересны и полезны, и я надеюсь, что прочтение этих писем поможет многим колеблющимся протестантам сделать решительный шаг и, последовав примеру своих бывших единоверцев, написавших нижеследующие письма, принять Православие.
Протестанты, как правило, самоуверенно считают, что от православных многие к ним приходят, а вот от них к православным - почти никто. Но это не так. К протестантам приходят в подавляющем большинстве случаев только номинальные, формальные, не церковные "православные", которые до этого либо вообще не посещали Церковь, либо - раз или два в год, которые не исповедовались, не причащались, Библию и православных книг не читали, заповеди Божии исполнять не старались. В протестантизм обращаются худшие православные, которые, из-за того, что они не жили полнокровной церковной жизнью, не участвовали в церковных таинствах - отлучили сами себя от Церкви. По этой причине их и православными-то назвать нельзя в строгом смысле этого слова.
А вот в Православие от протестантизма обращаются именно лучшие, часто с протестантским образованием, которые, как правило, были весьма ревностными и искренними протестантами - пасторами, проповедниками, миссионерами, духовными писателями, лидерами групп, дьяконами и активистами - но, не удовлетворяясь протестантизмом, продолжали от всего сердца искать Бога и Истину, и пришли к Православию. В этом легко сможет убедится всякий, кто познакомится с нижеследующими письмами.
Кроме того, эти письма представляется уместным вставить в мою книгу по той причине, что они являются как бы её продолжением. Эти люди, так же как и я, свидетельствуют о единой Вере, о том же едином опыте поиска и нахождения Истины. Протестанты очень любят рассказывать и слушать свидетельства об обращении людей в их веру. Поэтому пусть они прочтут эти письма и увидят, как люди, искавшие Бога, нашли Его. Думаю, что для некоторых людей, которые воспринимают мир не столько умом, сколько чувствами, данное приложение может быть более убедительным, чем все другие части книги.
Привожу я нижеследующие выдержки и для моих православных братьев и сестер, чтобы они могли прославить Бога, ободриться и еще больше утвердиться в нашей Святой Правой Христовой Вере, убедившись, что Господь наш и сегодня жив и силен спасать и "разрушать твердыни" дьявольские в душах людских. Я прошу Вас помолиться об этих людях, чтобы Господь укрепил их в Вере и помогал им успешно проходить путь воцерковления и освящения.
(P.S. Письма приводятся практически в таком виде, в каком они были мною получены. Моё вмешательство ограничилось только набором на компьютере и сокращением этих писем; исправлял я изредка только самые явные грамматические ошибки или случайные описки).
[1] «Зравствуйте о. Сергий.
(…) Прочитав вашу книгу «Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом», я был просто ошеломлен. Неожиданно для себя я нашел ответы на множество вопросов, которые меня давно волновали.
Сначала напишу немного о себе. Мне 42 года (…) Как-то зашел к другу, который ходил в харизматическую «Церковь Христиан Завета Иисуса Христа». Весь вечер он мне рассказывал о Боге и спасение через Иисуса, и яhr title= решил покаяться (…) Я стал принимать активное участие в жизни церкви. Я был уверен, что я на правильном пути. Я окончил вечернюю Библейскую школу, Лидерскую Христианскую Школу и сейчас учусь в Киевской Школе Обучения Христианских Служителей, в которой являюсь лидером группы…
Что интересно, именно в Киевском колледже у меня стало возникать много вопросов. Нас учат, что бунт и раскол в церкви это грех. Но ведь и наша церковь откололась от пятидесятников, которые в свою очередь откололись от раскольников (грех порождает грех). Кроме того, меня всегда смущала направленность проповедей иностранных проповедников и учителей: иди за Богом, и улучшится твое благосостояние... Я с детства люблю читать и сейчас много читаю христианской литературы, в основном протестантской. А в последнее время стал изучать и православие. Как-то в плохом настроении я проходил мимо православной церкви и решил зайти. Постояв там около часа, я вдруг почувствовал какое-то благоговение, захотелось стать на колени и плакать. Потом я все думал, почему ничего подобного я не ощущаю в своей церкви (…) У нас в Житомирской области есть 19 дочерних церквей, хотя сама Церковь уже умудрилась расколоться (…) В последнее время я стал ходить и в православную церковь, мне там легче молиться (…) Постоянно мучает вопрос: в истинной я церкви, или нет? Ведь истина из неправильного источника – истиной не является. Из какого источника черпаю знания я? (…) Чтобы вы посоветовали мне почитать, и где взять эту литературу? И вообще, что мне теперь делать?
(Из следующего письма):
Здравствуйте уважаемый о. Сергий!
С огромной радостью в своем сердце хочу сообщить вам о своем возвращении в Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Я наконец-то порвал с сектантством и ересью. Поговорил с православными верующими, и они рассказали мне что делать. Ходил на исповедь к священнику, покаялся и принял участие в таинстве святого причащения. Таким образом я воцерковился. Регулярно по субботам (вечером) и в воскресенье хожу молиться в православную церковь (…) Изучаю книгу "Закон Божий". Жена моя, Катюша, тоже ходит со мной и порвала с сектантством. Сейчас провожу работу со своим родным братом. Он всегда меня внимательно слушает и тоже готов уйти из харизматов. В свое время туда привел его я, и теперь это просто мой долг, чтобы он принял православие. Огромное спасибо вам за ваше письмо. Оно пришло в тот день, когда мне надо было ехать на последние экзамены в христианском колледже перед получением диплома. Я, естественно, не поехал (…) Ведь именно ваша книга сыграла решающую роль и рассеяла мои сомнения. Своим братьям и сестрам по харизматии я объявил о своем уходе (…) Вообще, в харизматической церкви, не строго относятся кОни ( тому, если кто уходит в православную церковь… причем случаи ухода бывают очень часто (…) Лично я уже твердо утвердился в истинности только православия (…) Насколько мне известно, благодаря вашей книге многие вернулись на путь истинный, а все лжецеркви пропитаны лицемерием. И ходят туда в основном для получения гуманитарной помощи. Нам на днях звонили из церкви (бывшей уже) для получения продуктов, но мы с женой решили ничего оттуда не брать. Еще раз благодарю вас за все...
Бабчук Виталий, г. Житомир.
[2] Христос воскресе!
Кратко о себе: мне 33 года. Я фельдшер, работаю на «скорой». Вдова с 24 лет (…) Крещена в Православии, но была убежденной атеисткой, хоть то, что Бога нет, меня всегда огорчало. В 1993г. я и муж (уже покойный) вступили в секту – к харизматам. Затем, до 2002 г. я была членом церкви у 50-ников. Там я окончила библейский колледж (2,5 года), пела в хоре. Моя мама тоже сейчас в этой секте.
В 2002г. я пришла в Православную церковь. Прочитала книгу Кураева «Протестантам о Православии» и, затем, Вашу книгу. Я ощутила и пережила на себе силу истины, благодать Духа Святого… Конечно, пережила шок: зло на обманщиков, жалость к себе. Потом жалость и к ним. Потом обиду на Вас – где были раньше? Результат – покаяние, исповедь, причастие. Я – плод Вашей книги, потому, что я не протестантка уже. Я не могу и не хочу ею быть, пусть Бог сохранит Вас…
Бойко Надежда, г. Днепропетровск.
[3] Господи благослови.
С огромным интересом прочитал Вашу книгу… что даже не удержался чтобы не написать Вам письмо – за что прошу прощения. Очень хорошая книга, спаси Вас Господи. Назван я в святом крещении Владимиром и уже, слава Богу, 5 лет нахожусь в Православии, а до этого, Господи помилуй, был баптистом (…) Во время своих духовных поисков (в 1998 г.)… пережил почти то же, что и Вы, как и пишете в своей книге. С нашей общины в это время в ДХУ училась баптистка Пилипенко Оксана, потом она вышла замуж за Курлянова Игоря (может Вы их знаете), тоже студента ДХУ. Наверное они мне о Вас рассказывали, что какой-то студент, отучившись в ДХУ, увлекся Православием, «отошел», потом еще выслал реферат в ДХУ в оправдание своего перехода в Православие. Я (тогда еще убежденный баптист) просил у Игоря отксерить его (реферат) и дать мне почитать, он и обещал, но что-то не получилось.
Убедил меня в Православии о. диакон Андрей Кураев, спаси его Господи. После прочтения его книги «Протестантам о Православии» и особенно «Наследие Христа» я решил: вы как хотите, а я пойду один раз в Православную церковь и причащусь истинного Тела и Крови Христа (Ин. 6:53), а дальше буду спокойно себе протестантстовать. Помню, как уже сделал выбор, первую неделю ходил сам не свой, очень угнетали душу те три препятствия, о которых Вы пишите в начале своей книги. Жена как раз была в роддоме, так что дочь моя Иулия родилась уже в Православной семье. Бог дал мудрости моей жене Ксении (но честно сказать она была в шоке), она сказала: «Где ты – там и я, потому что ты мой муж». У нас в Смеле 6 молодых людей (кроме нас) перешли с баптистской общины в Православие. Один даже с традиционной баптистской семьи (Сергий) сейчас служит диаконом в Свято-Покровском Соборе. Знаю еще и с других городов серьезных людей православных из бывших баптистов (…) Помню как я на протяжении 4-х месяцев, будучи еще в баптистах, после диспута с пятидесятниками, увидев, что можно искренне заблуждаться, ввел в свое молитвенное правило прошение об утверждении меня в истинной Церкви (наверное впервые осознал свою духовную нищету). И по сей день удивляюсь и благодарю Бога, как он мне недостойному и многогрешному открыл духовные глаза на истину.
Кстати, мне также как и Вам «пресвитер» не разрешил рассказать всей общине о причинах моего возвращения в Православие… хотя я там был вторым лицом. А про моего друга Владимира, также ушедшего спустя пару месяцев в Православие, сказал, что он сошел с ума и скоро попадет на психбольницу. Воистину, ложь боится осветится светом правды. Поэтому злые ангелы всячески не допускают баптистам читать Православные книги…
Броварский Владимир, г. Шпола, Черкасская обл.
[4] Христос воскресе! (…)
Мы с женой не так давно отстали от баптистской ереси и, наверное, еще не до конца утвердились в вере истинной… Жена лишилась заработка в баптисткой общине. Это сейчас она рада, что не зависит от «братьев», а тогда очень сильно переживала, и не столько из-за материальной зависимости, сколько из-за духовной.
Думаю, что от протестантов отбиться проще. Они сами себя почитают большими знатоками Писания (а точнее – его мертвой буквы) и на букве строят свои «религии», не понимая того, что Православие (и Древнее) Христианство – религия не буквоедская, а мистическая (таинственная) и центр его в Таинствах, соединении с Богом через Апостольскую благодать, а не через букву (…) Как я писал, друзья баптисты с нами оставили общение, но как ни странно, те, которые друзьями не были, ищут общения с нами…
Дорошенко Михаил, г. Макеевка, Донецкая обл.
[5] Здравствуйте дорогой брат Сергей!
Сразу начну писать о себе… По линии матери у меня все православные. Отец мой был атеист…
В 2001 году я за совершение преступления был арестован и приговорен к 6 годам лишения свободы… Потом ради интереса пошел на собрание церкви «Слово жизни» при колонии. Через 3 недели осознал отвратительность своей греховной жизни, и искренне вышел на молитву покаяния… Я искал правды и истины, но вскоре начал понимать, что что- то в их учении неправильно. После чего мне в руки попала ваша книга – которую я прочитав понял все, о чем вы писали. Благодарю Бога за Вас и за Вашу книгу. Весь год я не пропускал ни одного служения, просмотра видео школы и т.д. Был самым послушным и примерным.
8.06.03 г. я пришел на собрание в последний раз и сообщил всем и лидеру, что я оставляю свое служение в их церкви и их собрание – за что меня облили грязью, и сказали, что, уходя из церкви я ухожу и от Христа. Но я знаю, что это ложь. Я достал брошюру Серафима Саровского и прочтя понял, насколько я был слеп в отношении протестантов, но я просто не знал раньше глубины и истины Православной Церкви. У меня были определенные мысли, что у них что-то не так, но нигде я не мог найти подтверждения своим пониманиям и мыслям – пока не прочел вашу книгу (…) Очень прошу Вас помочь мне стать на правильный и истинный путь следования за Христом…
Зайченко Евгений, п. Молодежный, Донецкая обл.
(Некоторое время я переписывался с Евгением, пока он не почил в Господе - Царствие ему Небесное)
[6] Слава Богу!
(…) Чтобы долго не рассказывать о себе, высылаю Вам свою последнюю книгу «Исповедь бывшего беззаконника», в которой можно познакомится с моей биографией. Если коротко, то скажу о себе следующее.
В январе 1992 года покаялся в церкви пятидесятников в городе Червонограде Львовской обл. В этом же году поступил и закончил семинарию (колледж) американской пресвитерианской миссии «Благодать». Сразу же после окончания семинара был рукоположен в Лос-анджелесской церкви «Благодать» в миссионеры и направлен первым миссионером пресвитерианских церквей в Украину, получив задание организовать пресвитерианский союз (ассамблею, братство и т.п.) Получал солидное жалованье в американских долларах, регулярно посещал Калифорнию, пользовался всеми льготами (совершенно не заслуженно).
Постепенно начал осознавать, что становлюсь классическим церковным начальником-бюрократом, не слишком отличающимся от мирского… Постепенно начал избавляться от чиновнических регалий: отказался от жалованья, от миссионерства, от пасторства (я не одной жены муж), вообще от того, чтобы быть старшим в церкви (подробности в книге). Очень хотел найти собрание, где бы мне было уютно и спокойно служить Богу (проповедовать) и смиренно подчинятся духовному наставнику.
Несмотря на то, что знаю и посещаю много собраний пресвитериан, баптистов, пятидесятников и харизматов в Киеве и в Украине, пришел к вы/strongводу, что не нашел своего. Хотя у меня немало друзей в этих собраниях, в том числе и пасторов, убедился, что не могу ни одному из них доверить для попечения свою душу.
Без сомнения, был уверен, что истина у протестантов (но у каких же?), а к православию относился если и не враждебно, то, по крайней мере, снисходительно.
Первую брешь в моих убеждениях пробила прочитанная мною книга Кураева «Протестантам о Православии». Вторую – «Отец Арсений». Третью – Ваша книга.
Посещала наше собрание одна смиренная сестра – Артюшенко Наталья Геннадиевна, мой хороший друг. Дал я ей почитать Кураева и вскоре она стала посещать православную церковь. Теперь она оглашенная, учится на курсах и я вижу, что она безмерно счастлива.
Не без ее влияния я и сам обратил свои взоры к Православию, что еще год назад казалось для меня вообще немыслимым. Теперь я почти принял решение, ему во многом пособствовала Ваша книга, которую еще раз перечитываю… Сегодня взял в библиотеке две православные книги. После прочтения Вашей книги я уже могу читать и вмещать православную литературу. В ближайшее воскресенье хочу посетить православный храм в г. Могилев-Подольске.
Пишу Вам, чтобы Вы помолились обо мне, о моих друзьях протестантах, о матери. Рад буду услышать совет человека, нашедшего истину. С удовольствием прочту рекомендованные Вами книги...
Жукотонский Владимир, п. Вендиганы, Винницкая обл.
(В феврале 2004г. я навестил Владимира в Киево-Печерской Лавре, где он является послушником и желает принять монашество).
[7] Господи благослови!
(…) Я родилась в семье баптистов… Путь к вере был трудным… С детства я была окружена протестантами и вольно и невольно усвоила их манеры агитировать, пропагандировать, навязываться… Мне пока нечем похвалиться. Часто унываю. Но куда и делось мое уныние, и как я обрадовалась, увидев вашу книгу и только перелистав ее. Не без ее влияния я и сам обратил свои взоры к Православию, что еще год назад казалось для меня вообще немыслимым. Теперь я почти принял решение, ему во многом пособствовала Ваша книга, которую еще раз перечитываю… Сегодня взял в библиотеке две православные книги. После прочтения Вашей книги я уже могу читать и вмещать православную литературу. В ближайшее воскресенье хочу посетить православный храм в г. Могилев-Подольске.«Вот вы где у меня теперь» - говорила я своим многочисленным родственникам-баптистам. Их у меня тьма тем – только по линии родителей наберется не менее 20 чел. Спаси Господи и помилуй и сохрани вас от всякого зла. То, что я собирала по крупице, теперь явилось «лавиной» опровержений и доказательств (…)
Духовной радости, терпения, любви к ближнему и всех духовных благ вам как воину Христову на путях борьбы за Истину…
Жук Зинаида, г. Рубежное, Луганская обл.
[8] Здравствуйте о. Сергий Кобзарь!
Я десять лет посещал секту пятидесятников, но все время чувствовал, что там что-то не то. А потом начал читать православную литературу, жизнь Святых Отцов Церкви, изучать Православие и окончательно возвратился в православную Церковь.
Прочитав вашу книгу - окончательно остановился в православной Церкви. Прошу выслать мне наложенным платежом эту книгу, так как в наших магазинах такой книги нет. Эта книга поможет мне много людей направить на путь Православия.
Зинчук Василий, Хмельницкая обл., г. Нетешин
[9] Уважаемый о. Сергий, пишет Вам семья из г. Нетешина, а зовут нас Олег и Влада Казнодий.
Имели честь в кратких чертах ознакомится с Вашей книгой «Почему я не могу оставаться баптистом…», а поскольку этой книги нет в продаже, мы хотели бы приобрести ее с вашей помощью. Дело в том, что недавно мы посещали собрания баптистов, но настал момент, когда мы поняли, что это не тот путь и мы вышли оттуда. Но на этом дело не закончилось.
Некоторые из близких родственников моего мужа – баптисты. И как только он им сказал, что мы посещаем Православный храм и стали членами Православной Церкви, началось очень сильное моральное давление с их стороны – прямое запугивание с разными страшными историями, обливание грязью и т.д.
Дело в том, что мой муж пишет песни, которые посвящает Господу, и баптисты видели в нем служителя и теперь всячески пытаются навязать ему мысли, что он ушел от Бога, отказался от служения, и вообще ему прямо говорили, что он умрет, засохнет и т.д. А он вообще не хочет быть баптистом, считает баптизм человеческой наукой и очень любит Православную Церковь. Но, несмотря на это, он мнительный и очень переживает по этому поводу. А поскольку Вам тоже пришлось пережить «выход из баптизма» может Вы поможете нам мудрым советом, может подскажите, какую еще литературу можно почитать. Будем благодарны Вам за ответ...
Казнодий Олег и Влада, г. Нетишин, Хмельницкая обл.
[10] Добрый день, о. Сергий, матушка и маленькие детки.
Пишет к Вам клирик Хмельницкой епархии священник Василий. Написать к вам письмо меня вдохновила ваша удивительная жизнь, о которой я узнал из уст своего тестя о. Михаила Варахобы. Ваша жизнь – это пример христианам нашего времени, не говоря уже о священнослужителях.
Прочитали мы с матушкой Вашу книгу «одним дыханием». Нас поразила простота написанного в книге, именно все, что так тяжело познать о вере, о сектах, о церковных догматах, в вашей книге написано на языке простого народа (…) Почитав Вашу книгу сразу же мы заказали еще книг и, подписав каждому индивидуально, мы подарили учителям школы. Теперь мы просим вас, если можно, вышлите нам еще 10 книг, дабы распространить по селу…
(Из следующего письма)
(…) Также в своем письме я хочу поделиться с Вами чудом, которое сделала ваша книга по промыслу Божьему. Мы Вам говорили, что у нас есть друзья в городе Почаеве. Как то раз, говоря с ними по телефону они сказали, что два человека, один из них директор школы, были заядлые (извините, что так назову) штунды. Разговоры со священниками ни к чему не приводили. И вот к этим людям в руки попала эта книга «Почему я не могу оставаться…». Прочитав ее, они начали узнавать еще больше, и уже не священник шел к ним, а они к нему. И по Божьему промыслу они поехали к Владыке Сергию с этим священником и брали благословение, и писали прошение на переход в лоно Православия. Святое дело, о. Сергий. Сам Господь помощник Вам и покровитель. Дай Бог Вам долгой жизни и разуму, чтобы Вы могли просвещать людей своими трудами.
Священник Василий Каракацюк, с. Голенищево, Хмельницкая обл.
[11] Здравствуйте, уважаемый отец Сергий!
(…) Примерно год назад, я решил обратиться к Богу лицом, поняв, что человечество, живя по своим собственным законам, а не по законам Божиим, катится в пучину хаоса. Я оказался перед выбором: какая церковь настоящая, истинная? В одном нашем городишке религиозных организаций масса: пятидесятники, евангелисты, баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, и все наперебой утверждают, что только их вероучение ведет к свету. Поэтому я сначала стал изучать Святое Писание, чтобы не быть введенным в заблуждение «волками в овечьей шкуре». Несколько раз прочтя Новый Завет и частично – Ветхий, я поразился той чистоте и свету, который несла эта величайшая книга. Но одновременно у меня появилось очень много вопросов, на которые я хотел получить ответы, и как можно скорее. Общался с представителями вышеупомянутых религиозных организаций и не получал искомых ответов, так как они трактовали Библию на свой лад, выделяя удобные им стихи и опуская неудобные. Единственное в чем они были едины, так это в дружном порицании Православия. Да и сам считал его красиво и таинственно разрисованной ширмой, за которой, увы, ничего нет (…) Я считал, что прихожане просто исполняют ритуал, не вдумываясь в его духовный смысл, а батюшка просто ходит на работу, как и все миряне.
В общем, я окончательно запутался и впал в уныние. В душе моей разрослась (как я ее сам называл) желчная язва. Она не давала мне душевного спокойствия из-за моей неопределенности.
И вот однажды о/strongдна моя знакомая – православная христианка, дала мне Вашу книгу, и сказала, что эта книга может решить мою проблему. Скажу честно, вначале, читая книгу, вся моя сущность брыкалась, как необъезженный конь. Вы опровергали все те убеждения, в которых я был так твердо уверен. Несколько раз я даже откладывал ее в сторону. Но потом продолжал читать, так как сказал себе, что не стоит уподобляться глупцам, которые не принимают что-то только потому, что это им не нравится. И так читая главу за главой, я понял, что Истина есть только в Православии, только Православная Церковь есть Церковь Христа. Я понял, как близоруко и однобоко я мыслил, как сильно я заблуждался. Потом я перечитывал Писание другими глазами и понимал его совсем по иному, чем раньше. Я понял, как хитер, изворотлив и многолик сатана. Если ему не удается отвернуть нас от Бога прямым путем, он приходит к нам в образе ангела света и выдает себя за Бога. Он опускает на наши глаза пелену, которая подобна светофильтру, что пропускает лишь один спектр света, дает нам видеть одни стихи Писания, уводя от нашего взора и разума другие. Поэтому и трактуем мы Писание так извращенно и однобоко (…)
Я благодарен Богу за то, что Он послал мне эту спасительную «лодку» в виде вашей книги. Благодарю Господа, что вдохновил вас написать эту замечательную книгу. И, конечно же, я искренне благодарю вас за написание столь нужной книги. Мне очень жаль, что у меня лично ее нет, иначе я бы давал ее для прочтения всем моим знакомым, что состоят в иных христианских организациях, в надежде, что хотя бы кто ни будь из них обратится от тьмы ереси к свету Истины...
Кандеев Вадим, г. Ясиноватая, Донецкая обл.
[12] Мир вам, дорогой о. Сергий!
Пишет к вам человек, совсем для вас не знакомый, но о вас я немножко знаю, поскольку прочел вашу книгу «Почему я не могу оставаться баптистом…».
Хочу вкратце рассказать о себе… Мне сейчас 26 лет и на данный момент я состою членом поместной пятидесятнической церкви… В 2000-м году принял крещение и вошел в церковь пятидесятников… Вскоре я пошел учится в Библейскую школу, проповедовал и был избран в кандидаты на дьякона… Совсем недавно ко мне подошел православный священник и предложил мне вашу книгу, почти ничего не комментируя и не объясняя. Я нехотя ее брал, потому что своей литературы стопки лежат уже годами и никак не хватает времени на них, а тут еще на тебе, православную читай. Но мною все таки преобладала толи вежливость толи интерес и я все таки взял ее. Начал читать. Уже на первых страницах имел кучу вопросов и опровержений на написанное, но решил все таки читать дальше. По мере чтения и до его окончания я почувствовал, что мое сознание стало как маятник, то на сторону пятидесятников (в лице баптистов), то на сторону православных. Сегодня дочитал. Меня как бы разрывает на две части. Во время чтения, да и сейчас, почти постоянно в сокрушении взываю к Богу: «Господи, мне не нужны ни протестанты ни православные со своими догмами, мне нужна лишь воля Твоя. О, дай мне на все эти вещи посмотреть глазами Твоими. Я беспомощен и слеп. Я не смогу ступить и шагу с уверенностью, что я не заблуждаюсь. Пожалуйста, помоги мне, возьми меня за руку (духовно) и проведи…» Все мое понимание дало трещину…
Возможно, это письмо перешло уже в исповедь, но я как бы в огне, мне нужна помощь в первую очередь Божия, а потом и человеческая. Я как слепой, куда поведешь, туда и пойду… Своим братьям, пастору рассказать не могу, потому что реакция на это будет сами знаете какой. Вам полностью довериться тоже еще боюсь. Боюсь, но все же пишу… В один момент уже как бы решаю принять Православие, а в другой все же останавливаюсь, во многом сомневаюсь и на многое не имею ответа… Поверьте, что перейти к пятидесятникам (от субботников) мне было легче намного, чем сейчас. Молитесь обо мне. Я знаю, что у меня будет сотни вопросов, и если мне придется принять Православие, то на все я должен буду дать ответ себе и людям…
(Далее следует 35 вопросов о Православии, на которые я ответил в письме.
Из следующего письма)
(…) Я получил ваш ответ на мое письмо, чему очень рад, потому что очень ждал его (…) Мое духовное состояние не изменилось, я по прежнему в состоянии маятника (…) Я сравниваю тех и тех учения и вижу, что для того, чтобы здесь достичь полного познания истины, мне нужно посвятить для этого пол жизни (…) Я так запутался, что уже ни те ни другие не милы. А вопросов в голове столько появляется, что если бы их все записывать, то была бы цифра с многими нулями. Я думал, что куда я, туда и жена, а она оказывается против, чтобы я шел в Православие. Вот в таком я сейчас смятении. Был бы на земле Христос, кажется на другую сторону планеты поехал бы спросить Его - как мне быть?
(Далее мне было задано ещё 34 вопроса, на которые я также ответил.
Из третьего письма)
(…) Пастыря моей церкви я во все мои мысли о Православии не посвящал, но он по слухам и сам об этом узнал. После этого состоялся у нас разговор на эту тему, которого я психически не вынес и неожиданно прервав этот разговор вышел, плотно закрыв за собою дверь. Пастыря это сильно волнует, так как я занимал служение проповедника, а также был избран в диакона (я один из двух)… На данный момент я отстранен от проповеди, что для меня вышло не столько наказанием, сколько облегчением в моей ситуации (…)
Я прямо жажду знать истину. Христос говорил, что такие насытятся, но это потом, а мне эта истина нужна сейчас!
(Из четвертого письма):
(…) Вы единственный православный священник, с которым я могу откровенно общаться, хотя и через бумагу… Часто бывают какие-то депрессии, нервные срывы (…) Жизнь и обстоятельства прижимают меня, чтобы я принял какое-то решение, определился в какую-то сторону к Православию или к протестантизму. Обо мне разошлись разные верные и не верные слухи и это дошло до пресвитера моего. Он после собрания оставил меня на разговор. В ходе разговора (недолгого) он меня спросил, правда ли то, что я ходил к православному священнику. Услышав, что это так, пресвитер сказал, что я согрешил. Даже по протестантским меркам он «перегнул палку» и я этого не выдержал. Сразу после этих слов немедленно вышел из Дома молитвы. С этих пор я уже больше месяца не ходил на собрания. Пропустил два хлебопреломления. Жена советует пока походить до моего окончательного определения, но у меня нет ни малейшего желания через неведение истины, да и через конфликт с пресвитером.
Раньше я был ревностным пятидесятником, а сейчас я вижу себя таким же, как мирские люди… Я сейчас как старуха у разбитого корыта. Молюсь вообще в 2-3 дня один раз, да и то только «прости» да «открой» и все, да еще за едой. Вот так застала бы меня смерть или пришел бы Христос, то даже не знаю. где бы я очутился в вечности. В ад-то не хочется, а на Царство Небесное в моем теперешнем состоянии вряд ли претендую. Грехов столько посыпалось, что я и замечать их перестал, как на дне моря песка (…) То из мирского человека чудесно превратился, было, в «святого», а то теперь из святого тоже чудесно сделался мирским [Такие же чувства испытывал и я в свое время, и практически каждый, кто обратился в Православие из протестантизма. Так происходит потому, что дьявол помогает сектантам вести внешне порядочную "святую" жизнь. Он, как правило, не искушает сектанта ни к пьянству, ни к курению, ни к ругательству, ни к раздражению - ни к каким внешним грехам, так как ему нужно через внешнюю фарисейскую праведность сектантов обольщать людей и привлекать их в секту. Когда же человек отвергает сектантский дух, то дьявол не только перестает помогать ему казаться праведным, но и со всей яростью обрушивает на него искушения и давление всякого рода. И так как сектант еще не принял вполне Православие, не крестился, не получил дар Духа Святого, не научился истинной духовной жизни, то ему очень трудно противостоять дьявольскому давлению и он вдруг видит в себе все грехи в самом прямом смысле слова: он понимает, что в душе у него задатки и сочувствие ко всем грехам. Т.е. он начинает себя видеть именно таким, каким он есть на самом деле. Это его ужасает и часто приводит чуть ли не до отчаяния. В свое время от такого видения себя я просто не хотел жить: казалось, что от такого душевного страдания душа расстанется с телом. И самая коварная мысль, которую при этом внушает диавол, суть такова: "смотри в кого ты превратился! Когда ты был баптистом, ты постоянно читал Библию, с радостью молился, праведно жил, исполняя все заповеди, проповедовал людям Евангелие. А в Православии ты стал жалким, нищим и нагим - последним грешником. Так где же истина и Бог в действительности - в баптизме или Православии? "По плодам их узнаете их". Раз в баптизме ты жил праведно, а в Православии грешно, то значит Бог с баптистами. Поэтому вернись туда, пока не поздно".
Но на такое предложение дьявола нужно сказать ему: "иди вон", помня о том, что именно сокрушенное (т.е. разбитое, признающее себя ничем) сердце Богу наиболее приятно, и что именно такое состояние духовной нищеты - блаженство пред Богом. Только после этого, если человек не отчается, а воззовет к Богу, Господь сможет начать работу над ним и вести его не к дьявольской лжеправедности, а праведности истинной]… Чем все это окончится – не знаю, но хочется надеяться, что Господь не оставит меня в таком положении (…) Я сейчас не пятидесятник и не православный Православный где-то на 55%, а протестант на 45%. Исследуя и размышляя над двумя этими деноминациями, я каждый раз дохожу до одного и того же итога, что за этими религиями стоят не просто учения, а реальные дух, силы, которые и двигают людьми и совершают чудеса. У православных вдохновляет людей и пророчествует Дух Святой и у протестантов тоже самое делает Дух Святой. Но так ведь быть то не может. За кем-то стоит Дух Святой, а за иными – диавол.
После прочтения ваших обеих книг, я прихожу опять таки к тому же итогу, что за Отцами Церкви и за вами самими стоит какая-то духовная сила. Но вот вопрос, кто это? (…) Для меня пока еще все в тумане. Физически слепой человек в лучшем состоянии, чем я; он хоть на ощупь что-то и как-то может ориентироваться, а у меня и того нет…
(Из пятого письма):
(…) Слава Богу, ко времени получения вашего 4-го письма, я уже был познакомлен с одним священником из соседнего села. Он по сравнению с другими мне известными, отличается неплохой обученностью и ревностью в дух жизни и служении… У меня есть друг (протестант) с которым я постоянно делился своими мыслями, особенно последними о Православии. Он тоже прочел Вашу книгу (которую вы мне подарили) и он также довольно поколебался как протестант. Бог конечно сердцеведец, но по нашим разговорам он сейчас на балансе между Православием и протестантизмом, 50% на 50% (…) Понимаете, я беседовал и с моим священником и с другими православными, но никто таком положении, как я. Потому общение с вами для меня имеет особое значение (…)
Тот мой друг протестант был знаком со священником из соседнего села о. Андреем. Вот мой друг и предложил мне пойти вечером к отцу Андрею… и пошли. О. Андрей мне сразу понравился (как человек) и я решил с ним общаться. После этого вечера был другой и третий, и т.д. Все вопросы, которые у меня возникали, я обращал к нему, а потом уже писал их и вам. Я с ним беседовал и сам, и со своим другом, а потом уже и со своей женой ходили вместе к нему. По благодати Божией о. Андрей подвел нас к тому, чтобы мы приняли Православие… и мы это сделали! Я говорю только о факте присоединения к Православию, но в духовном плане это было довольно тяжело, потому что были сильные духовные и душевные терзания, которые и сейчас еще имеют место, особенно у жены. Разум вывод сделал, а вот в духовном отношении происходит что-то вроде пыток (…)
Мы крестили троих наших деток и они уже тоже в Церкви. Самая главная «ломка» уже прошла для нас: скандал и отлучение от пятидесятников, а также первый приход в Церковь на богослужение, который для меня в деревне как подвиг…
Карпец Андрей, с. Подгайцы, Тернопольская обл.
[13] Здравствуйте!
Я прочла Вашу книгу о том, почему Вы ушли от баптистов. Я была глубоко потрясена. Она, кажется, по-настоящему открыла мне глаза. Я не могу написать Вам всего, что я перstrongечувствовала…
В 1971 г. приехав с мужем в Мариуполь, купили дом рядом с баптистами. И вот им удалось меня привести в их церковь. Муж был возмущен, но потом смирился. С 1983г. я ходила в церковь Вифания и 15 лет была в дружбе с пресвитером Понамаревым, его женой и тещей…
Мой сын хотел, чтобы я была православная. Меня это пугало тем, что я не знала как там себя вести перед священником. Смотря на него я просто терялась, казалось, что я видела Иисуса. Помогла соседка. В общем я первый раз в жизни говорила со священником. Беседа была часа два… Я была восхищена этой беседой. Я стала постоянно посещать богослужения и через две недели покаялась и приняла причастие. Этот день я назвала в своей жизни днем рождения. Я не могу объяснить этот день: необъяснимая радость, счастье…
Все время досаждали баптисты, тянули вернуться. Недалеко от меня живут Семикины Петр Павлович, может Вы их знаете. Я с его невесткой в дружбе. Они надоели мне и я решила дать им прочесть вашу книгу. Они держали ее у себя месяца два. Сейчас отстали от меня и наконец поняли.
Коляденко Клавдия, г. Мариуполь.
[14] Радоваться Вам во Христе, о. Сергий!
Я с запоем прямо съел вашу книгу, где вы подробно и доходчиво все объясняете о догматах Церкви и о своей вере. Ведь у нас очень схожие жизни – я ведь тоже был баптистом и крестился у них, но слава Богу, что Он просветил меня светом познания и я будучи уже в этой зоне принял миропомазание от о. Вячеслава и был принят в лоно Православной Церкви…
До этого я был ярым противником Господа, начал позже изучать и другие «христианские конфессии» - адвентистов, пятидесятников, менонитов – ну в общем все, что касается христианства. По началу я думал, что нашел что-то ценное, жемчуг. Я посещал конгрессы «свидетелей Иеговы», но меня в глубине души мучили вопросы, которые разрешить я не мог даже общаясь со свидетелями в собрании. Эти вопросы касались креста (у них столб), расхождение в их литературе, вырывание текстов Св. Писания. Меня на тот момент как человека верующего мучила совесть, и я понял, что это хитрая ложь, прикрытая правдой… Потом я встретил баптистов, которые меня как мне казалось «просветили» в истине, ведь моя голодная душа искала истину, и снова я клюнул, даже крестился у них…
Я умолил Господа о милости и Он действительно открыл мне глаза на все через брата Александра, он с г. Макеевки. Мы с ним общались ровно год, как все мне стало понятно. Слава Богу, что так Господь все устроил в моей жизни…
Киселев Александр, г. Суходольск, Луганская обл.
[15] Здравствуйте уважаемый отец Сергий!...
Сектантскую ловушку я избежала чудом, по воле Божьей. Из удавовых объятий «Свидетелей», выдохнувших в мое полное незнание Библии гипнотическое заклятие «Иди к нам и ты никогда не умрешь» меня вырвали старшие коллеги вполне отрезвляющим предложением самостоятельно разобраться в Священном Писании без чьих-либо комментариев, запечатленных на лоснящейся бумаге заокеанских «учителей». Понять Православие самостоятельно, разобраться во всех его тонкостях без помощи для меня было невозможно. Я всегда ходила в Церковь, даже когда не могла найти в Библии объяснения почитанию Марии и святых. Я барахталась в своих выводах, мнениях, симпатизируя многим сектам; Господь смилостивился надо мной, призрев на мои мучения и ниспослал мне Вашу книгу «Почему я…». Это было как раз то, что я искала и долго не могла найти, на ощупь пробираясь в дебрях разноголосой какофонии протестантизма. Этот Ваш драгоценный труд для Православия – самое яркое доказательство силы Вашей веры и преданности Богу…
(Из следующего письма):
Пропасть между Православием и протестантскими сектами разрывает семьи, что я видела воочию прошлым летом на Западной Украине. Мать и младший сын с помощью вашей книги и книги Андрея Кураева вышли из баптистской секты, а отец и старшая дочь остались в ереси. Это трагедия…
Шульга Ирина, п. Коммунист, Харьковская обл.
(Новые письма, которых не было в предыдущих изданиях):
[16] Здравствуйте отец Сергий!
Я прочитал вашу книгу… Я был 12 лет баптистом, последние годы очень тяжело, у меня были и есть большие жизненные трудности, в которых я усматриваю Божье провидение. Об этом, если найдете возможность со мною пообщаться, напишу позже.
Я благодарен вам за ваш труд, хотя есть моменты, которые мне пока не понятны до глубины души, но ваши рассуждения о единой Церкви перевернули мое восприятие этой доктрины кардинально. Действительно, это именно тот факт, который смущал меня всегда, хотя я не отдавал себе в этом отчет.
Прошу вас о помощи. Посоветуйте, как мне, бывшему укорененному баптисту, который с юности вырос в баптистской церкви, служил и проповедовал в ней, понять православное богослужение, с кем лучше говорить об этом, кто может меня наставить, какие книги и в каком порядке лучше прочесть?
Моя жизнь как разбитый сосуд и я не могу уже склеить ее протестантским скотчем. Я нуждаюсь в восстановлении Небесным Горшечником.
Господь давал мне знаки - я сейчас работаю в 100 метрах от забора Киево-Печерской Лавры (там, кстати, и купил вашу книгу), сам водил сотрудников в нее (я руководитель), осматривали Храмы, спускались в пещеры. Когда читал вашу книгу, одно из писем вызвало во мне мысль: "Хорошо, если бы здесь было письмо моего хорошего знакомого брата Жукотанского (за несколько дней до этого в беседе с родителями я узнал, что он ушел в Православие)". Я перевернул страницу и … увидел подпись под письмом "В. Жукотанский". Невозможно передать, какие чувства захлестнули тогда душу. Ищите и найдете! … Оказывается мой брат, который ревностно искал Истину и обличал лицемерие протестантских пастырей, в нескольких сотнях метрах от места моей работы служит Богу!
Буду благодарен, если Вы подскажете мне, что мне лучше сейчас делать.
Виталий, г. Киев.
[17] Сергей Александрович, здравствуйте!
Цель моего письма: мне очень надо 2-3 экземпляра Вашей книги… Чтобы не злоупотреблять Вашим временем, хочу написать ясно и сжато. Да поможет мне Бог.
О себе: мне, Валентине, и моему супругу Александру по 75 лет… Дарвинизм и научное мне было очень понятно (мы этому верили всю жизнь). К старости пришлось поменять место жительства, где со всех сторон нас окружают церкви, рядом через переулок Православная, еще ближе "свидетели Иеговы", харизматы, баптисты. Мы решили, что это не случайно. Пошли сначала в Православную. Накупили литературы (хотя бы как вести себя в храме). Купили Библию. Читая ее не понимали и ужасались тем жестокостям, что написано [Имеются в виду войны и убийства, описанные в Ветхом Завете]. Поняли, что без помощи нам не разобраться. Решили обратиться в "голос Надii" на заочные курсы. Идя мимо бывшего детсада увидели объявление: Курсы по изучению Библии. Мы решили, что это сам Бог нам помогает (наши добрые силы). Это было в церкви АСД [Адвентисты седьмого дня]. Преподаватели - молодые ребята (нас поразила их вера). Краткий курс изучения расчитан на 18 лекций. Мы столько узнали, научились пользоваться Библией, все находить быстро. А когда в субботу зашли в зал молитв, мы сразу же оставили Православную Церковь. Нам показалось здесь все так просто и доступно, и главное уроки, уроки, а это знания, которые мы впитывали.
Научившись чему-то со временем стали понимать, что здесь что-то не то. И пошли новые поиски Истины (жаль, что возраст уже дает о себе знать). Узнав, что мы протестанты, никак не могли добиться, по отношении к кому мы протестанты? Мы стали самостоятельно читать по главам Новый Завет, так как поняли, что каждая из деноминаций находит те стихи, которые им подходят. Е. Уайт нам не внушала доверия с самого начала. Поняв, что оставаясь в церкви АСД мы вообще отпадаем от благодати и Иисус Христос не умер за нас. Мы написали заявление об уходе. Услышав, что какой-то баптист ушел в Православие, мы нашли Вашу книгу, в которой получили много ответов на интересующие нас вопросы. И главное, мы поняли, что Церковь Христова единая, неделимая до конца века, и врата ада не одолеют ее. Так сказал Сам Бог наш Спаситель Иисус Христос, а все секты - протестанты по отношению к ней.
Я человек не бездействующий, впитывая учение АСД помогла уверовать в это своим детям и некоторым близким. Сейчас считаю своим долгом помочь им выйти из этого заблуждения. Господи, помоги мне исправить мои ошибки и помочь моим детям и близким познать Церковь Иисуса Христа… Имея такую отрицательную информацию от сектантов о Православии надо много потрудиться самим, и помочь другим. Имея Ваши книги, я одну отошлю одним, другую другим…
Кравчук Валентина, г. Никополь, Днепропетровская обл.
[18] Мир Вам, дорогой моему сердцу о. Сергий! Решился собраться с мыслями и написать Вам…
Я родился и вырос на Луганщине… После службы в армии во мне было много ненависти к людям за их жестокость, безразличие к судьбам других… Но стремление найти в мире добрую душу у меня сохранилось. Я вспомнил девочку скромную из школы, которую так же обижали, как и меня, захотел с ней встретиться и завязать дружбу. У меня это получилось. Когда она сказала, что у её бабушки собираются верующие, что они хорошие, добрые, то мне сразу же захотелось с ними познакомиться… Я узнал, что они пятидесятники… С ними у меня сформировалось понятие о том, что крестное знамение (по их учению) это непотребство, что иконы - это идолы, а то крещение в младенчестве - не истинное, а ложное. Так мое сознМир Вам, дорогой моему сердцу о. Сергий! Решился собраться с мыслями и написать Вам…ание о Православии было постепенно уничтожено и я стал "приближенным" протестантом-пятидесятником…
В 1997 году… решил отдать свою жизнь Богу, а через три месяца после "обращения" крестился у них. Два года я был пятидесятником, был "крещен Духом" - "говорил на иных языках и пророчествовал, видел видения", но разочаровался в их вероучении, сильно они давили на мою душу, запрещали читать другую литературу, хотя и свою не давали. Я стал для них непослушным… Я не дожидался их решения о моем отлучении от "церкви" и сам ушел с их богослужения-хлебопреломления, где каждого доводили до истерики, слез, вынужденного смирения перед их служителями, вынуждали так же запугиваниями и отречениями от "ереси" в их понимании.
В 1999 году, порвав с пятидесятниками, я увлекся харизматическим движением веры "Слово Жизни", где меня приняли как своего и в последствии признанного "Божьим помазанником", так как я из своей бывшей общины пятидесятников увел своих односельчан и также считался среди них "лидером". Я имел тесные отношения с лидерами обоих сект (пасторами, епископами и т.д.) Пользовался авторитетом среди собственных прихожан в своей общине и не только. Я был у них авторитетным толкователем Писания и критиком всех других учений, в том числе и Православия, но любовью всегда горел к людям всем, и верующим и неверующим. Все это длилось до тех пор, пока я не нашел изъяны в учении "Слова Жизни", учителей "церкви" Коупленда, Майера, Ледяева и др. ярых защитников протестантизма. Во время проповедей стал замечать кощунства, насмешки как в свой адрес, так и в адрес других людей, несогласных со словом пастора… Ранее лица искренне кажущиеся верующими, стали лицемерными. На собраниях, вместо добровольных пожертвований, вымогалась десятина и сверх десятины и сверх пожертвования, что приводило в ужас не только меня, но и других искренне верующих харизматов. Я отказался от лидерства в церкви, стал воздерживаться от личных проповедей и начал обращаться к традиционной русской, украинской литературе, черпать из них то духовное, что было присуще всегда нашему народу… Разочаровался вообще в протестантизме, но не знал, что делать дальше, как быть, ибо чувствовал себя самым последним грешником. Сколько я замечал, что людей обманывают исцелениями ложными и различными чувствами "любви", но терпеть этого лицемерия больше не мог, О себе: мне, Валентине, и моему супругу Александру по 75 лет… Дарвинизм и научное мне было очень понятно (мы этому верили всю жизнь). К старости пришлось поменять место жительства, где со всех сторон нас окружают церкви, рядом через переулок Православная, еще ближе ибо они только снаружи кажутся благочестивыми, а внутри очень испорчены…
Я поступил в Университет в Луганске, чтобы таким образом получить высшее образование… Когда учился с последующей группой… с ними сложились прекрасные отношения. Большая часть одногрупников - это православные верующие, которые разбили окончательно мое извращенное представление о Православии. Сам я изучаю много различной протестантской литературы. Знаком с учениями баптистов, пятидесятников, харизматов, "свидетелей Иеговы", адвентистов, вочманистов, кальвинистов, лютеран и т.д. Изучал католицизм. По мере изучения литературы я много встречался с лидерами сект "свидетелей Иеговы" и другими адептами. На основе личного опыта, многих свидетельств и фактов научной и сектоведческой литературы склонялся к христианской ортодоксии Православной Церкви.
Когда я порвал с протестантами в 2002 г. я впервые по-настоящему признал в Православии таинство исповеди и причастия, что и совершилось в тот же год. Помогли утвердиться мне в истине книги по истории религии и церкви А. Меня и Э. Паснова. Вообще-то я даже отвергнул себя, свое мнение, свое знание и как Сократ стал повсюду и всем отвечать на вопросы то, что я ничего на самом деле не знаю. Стал неверующим, незнающим ничего, пока не утвердился в истине Православия. И решительный шаг, помимо православных преподавателей в институте и однокурсников, помогли мне Вы, отец Сергий. Вашу книгу я буквально съел в библиотеке, когда готовил контрольные работы. Я ее читал, как тот пройденный материал, который человек учил, но не нашел в себе силы воли самому себе признаться в своем выборе. После её прочтения и Вашего совета я полностью признал Православную Церковь как истинную Христовую и Апостольскую. Спасибо Вам особенное и огромное за Ваше бескорыстие.
Дегтярь Сергей, с. Комсомолец, Луганская обл.
[19] Здравствуйте уважаемый о. Сергий, Господь благослови Вас! Я и мой муж читаем вашу книгу… и не можем оставить и всех наших родственников баптистов без этой книги, да поможет Бог и им найти единственный истинный путь к спасению. Мы вам звонили и попросили прислать нам 1 экземпляр этой книги, огромное спасибо вам и за это…
Я расскажу немного о нашей семье. Я и мой муж, Катя и Вова, женаты уже седьмой год по регистрации, и только в этом году Господь привел нас в Православие, и мы сразу же крестились, и наших двух детей. В тот же день мы заключили и брак в Церкви и перед Богом. Сейчас ожидаем уже третью девочку, Вера, Надя и будет София.
Я до этого ходила в секту баптистов, около года, хотела креститься, а мой муж видел, что в этой вере что-то не так, и стал искать истину. Так через интернет нашел православный храм. Через пару недель, хоть и вся противясь, я поехала с ним. А уже через месяца два мы крестились. Мой муж дал мне книгу А. Кураева "Протестантам о Православии", и с Божьей помощью я вышла из секты. Родственники и родители Вовы - баптисты, они и читать ничего православного не хотят. Родители нас жалеют, дедушки и бабушки молятся о нас, хотят "спасти". А еще больше упреки, что детей мы своих туда втягиваем. Но вы знаете как это и понимаете нас. Мы хотим оставаться православными и так же и жить. Надеемся, что Господь откроет им истину, лишь бы они ее искали. Просим вас молиться об этом и о нас…
Владимир и Екатерина, Германия
[20] Здравствуйте Сергей!
Пишет вам один из ваших читателей из г. Анапы, тоже Сергей. Меня всегда волновал и волнует вопрос об Истине, и как ее искать. Дело в том, что у нас с вами по этому вопросу много общего. Я также несколько лет был баптистом, с 90 по 95 год, и на Православие смотрел через призму отдельно вырванных цитат и авторитетных мнений моих более опытных братьев по вере. Основываясь только на Писании, я тем не менее всегда был открыт к апологетике других течений, и когда столкнулся с реальным Православным учением, основанным полностью на Писании, был просто шокирован. Во-первых, как можно столько раз читать одно место и не видеть главного. И, конечно же, первое ощущение, - наверное как у человека, всю жизнь прожившего в пустыне и который вдруг увидел океан, о котором он даже не подозревал. Конечно же, первое твое действие - ты пытаешься рассказать тем другим - идите и сами посмотрите… Слава Богу, я обратился в Православие, так что в этом нам можно сказать повезло. Ваша книга вызвала сразу у меня интерес, особенно там, где вы приводите тексты Св. Писания. Я иногда сталкиваюсь со своими старыми единоверцами, единственный язык для которых Писание. За это вам спасибо. Мне показалось, что в баптизме сейчас что-то меняется, они стали присматриваться к Православию (надоело на себя смотреть)…
Сергей, г. Анапа, Краснодарский Край
[21] Приветствую вас, дорогой брат отец Сергий.
Я прочел вашу книгу и вот решил написать вам. У меня та же история. Семь лет я был в протестантах, сначала у харизматов, а потом ушел к пятидесятникам, посещал собрания баптистов и негде я не мог найти истинный Божий свет. Они вроде бы и говорят по Писанию, и молятся, и поют, и во многих видна как бы не лицемерная ревность, но за всем этим какая-то пустота, грязь, я даже не знаю как это выразить. Православие для меня было так же чем-то очень далеким от истины. Я не знал что делать, мне казалось, что я нигде не смогу вкусить истины Божьей. В конце концов, я ушел от протестантов, и недоумевал, куда же мне идти, где мне искать общение, ибо ни с кем я не мог найти общий язык. Возвратиться к пятидесятникам я также не мог, потому что весь этот мертвый протестантский мир стал для меня мерзок, а объяснить никому ничего невозможно. Меня, точно так же, как и вас, стали обвинять в скрытых грехах, в ересях, в предательстве, не хочу больше об этом говорить. И вот Сам Господь привел меня в православный храм и открыл мне мое заблуждение относительно Православия, и я увидел, что это воистину полнота наполняющая все во всем. Я нашел то, что искал многие годы и не мог найти, а ведь истинная истина была так рядом, спасибо Господу Богу. Сейчас, когда предлагаю бывшим братьям по евангельской церкви почитать вашу книгу, то мне становится очень жалко этих людей, какая ложь и извращение владеют ими, спаси их Господи. У меня желание сердца служить Богу также, как и вы, в храме, и не отвлекаться суетой мира сего…
Тищенко Александр, г. Житомир
[22] Приветствую Вас, о. Сергий!
Мне 47 лет. Я родился и вырос в баптистской семье. Очень многие мои родственники и хорошие знакомые - баптисты. Среди них: пресвитеры, регенты, дьяконы, миссионеры, проповедники и простые верующие. В таком окружении я, часто посещая собрания, присутствовал на всевозможных праздниках, служениях. Но моего "прихода к Богу" у баптистов так и не произошло. Я долгoе время был так сказать "без 5 минут баптистом". Что-то меня сдерживало. Моя жена, еще до свадьбы, в советские времена, покрестилась в Православии. На этом ее воцерковление остановилось, так как без наставников, без примера это сделать сложно. Попав в плотную баптистскую среду она "покаялась" и вскоре "крестилась". Это вызвало у меня вопрос и удивление: "Почему я не первый? Ведь я здесь вырос, я все это знаю!?", а у моих родителей и родственников - одобрение. "Теперь твоя очередь" - говорили мне. Но моя очередь не наступила.
По прошествии времени у нас стали возникать вопросы и протестантские ответы на них не всегда удовлетворяли. Вот тогда Господь послал к нам в гости моего бывшего одногруппника по институту, принявшего Православие. После общих житейских вопросов тема разговора, естественно, перекинулась к противостоянию протестантов Православию. И мы вооруженные стандартными протестантскими вопросами "пошли в наступление". На все вопросы теперешний крестный отец моих детей тогда не смог ответить, но зерна сомнения в протестантской основательности посеял. В какой-то момент разговора, касающегося Единой Церкви Христовой, он высказал нам реплик, как протестантам: "А вы вообще самозванцы!". На вопрос "почему?" ответил вопросом: "А кто рукоположил первого баптистского пастора?" У вас прервана связь с апостолами, церковью Христовой!" Согласитесь: обвинение серьезное. Ответа на него НЕТ!
Наглядную демонстрацию в виде "Древа Христианской Церкви" [См. иллюстрацию в конце книги] с вопросом: "Где 1,5 тыс. лет от основания до Мартина Лютера была Церковь Христова? И где она сейчас?" я показывал пресвитеру и другим "братьям". Их ответы и доводы были очень не убедительны и безосновательны (на уровне: "я так думаю!"), что побудило во мне еще большее желание продолжить поиск, но… в другом месте.
Книга А. Кураева "Протестантам о Православии" была первой православной книгой, которую мы прочитали. Какая-то пелена спала с наших глаз. Мы были поражены своим примитивным представлением о Православии, которое знает свою Историю, живет по Канонам и Догматам, уходящим своими корнями к первоистокам: Апостолам, Вселенским Соборам и Церковным Преданиям. Здесь все основательно, незыблемо, логично!
У нас начался очень тяжелый, болезненный и продолжительный процесс духовной "перестройки". Разговоры с пресвитером, другими "авторитетными" братьями, "хорошо знающими Библию" убедили меня в том, что многочтение Священного Писания, знание многих стихов наизусть не гарантирует правильного его толкования, если дом строится на песке, а не на камне! И все эти свободные разнотолки - есть ни что иное, как мудрствования человеческие! В результате много сотен протестантских конфессий, порой очень разнящихся между собой, пытаются убедить всех только в СВОЕЙ правоте…- это абсурд!!! Церковь Христова - ОДНА!
В подкрепление моих исследовательских умозаключений, Господь явил мне два чуда, показав, что святая вода - не обман с "серебрением" воды, а крестное знамение - не "служение рук человеческих", это - мощная защита от сил зла, данная Богом человеку! Испытав все это не понаслышке, а наяву, когда от неожиданности по спине проходит холодок, а волосы становятся дыбом - для сомнений не остается места.
Мы перестали посещать собрания. В скорости крестили четверых наших детей. Еще через год крестился и я. Но мои корни протестантизма еще долгое время давали о себе знать. Ваша книга для меня стала "спасательным кругом", именно тем, что было мне остро необходимо на пути становления и утверждения в Истинной Вере. В ней лаконично, методично и аргументировано изложен весь материал. Особенная ценность ее в том, что именно бывший протестант говорит протестантам в понятной для них форме, примерах и выражениях.
Я благодарю Бога за то, что Он дал Вам сил духовных и физических для написания этой книги, которая, я надеюсь, еще многим откроет глаза, станет своеобразной Азбукой на пути познания Бога и Его Живой Единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви. Спаси Вас Господи!
Панченко Вячеслав, г. Мелитополь
[23] Здравствуйте отец Сергий!
(…) Я начал посещать секту субботников. Они все твердили, что Православная Церковь не соблюдает правильного изучения Слова Божьего. Господи! Прости меня грешного. Слава Богу, что мне попала в руки ваша книга… С вашей книги я понял, что я заблуждаюсь и нахожусь далеко от Истины. Слава Богу, что Он дал мне прозрение. И я пошел в Православную Церковь. Там служит батюшка Игорь. Я раскаялся в своих грехах и начал посещать Церковь, богослужения. Я почувствовал по себе, насколько мне стало легче на душе. Я постоянно читаю и познаю духовную литературу… Мы должны служить и прославлять Бога в Православной Церкви…
Коваль Олег, с. Бабаны, Черкасская обл.
[24] Уважаемый о. Сергий!
Господи благослови Вас за все, что Вы делаете. Ведь Ваша книга "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом" может стать и, я уверена, становится для многих спасательным кругом. Ведь за 70 лет воинствующего атеизма выросло несколько поколений людей, оторванных насильно от своих корней. Разрыв духовной традиции стал трагедией нашего народа. Для меня ваша книга стала очень важной вехой в моих духовных поисках. Дело в том, что я, как и многие, выросшие и сформировавшиеся как личности в СССР, официальная политика которого представляла собой воинствующий атеизм, оказались в сложной ситуации. С распадом СССР, когда наконец-то стало ясно, что без Бога нельзя, я начала искать Бога, Веру, Истину. Поиски мои были долгими и очень непростыми, ведь помочь мне было некому. Мои родители были и остаются далекими от веры. У меня возникало много вопросов, а ответов на них у меня не было. И в своих поисках я искала ответы в самих разных местах. Но мои поиски были тщетными, что причиняло мне не малую душевную боль. И наконец, где-то полтора года назад, я начала изучать Библию со "свидетелями Иеговы". Именно они и помогли мне, крещенной в православной Церкви, но много лет жившей вне Православия, начать новый этап в своей жизни - этап возвращения к Православию. Ведь благодаря этому изучению Писания (я сама для себя решила изучать Библию максимально всесторонне и не предвзято), я постепенно стала убеждаться в истинности Православия. Я при всякой возможности стараюсь зайти в православный храм. С ближайшего воскресенья буду посещать воскресную школу для взрослых.
Только каждый раз, заходя в православный храм, я чувствую страх и растерянность. Удастся ли мне выплакать перед Господом все мои грехи и ошибки? Смогу ли я преодолеть все то, что препятствует мне стать истинной христианкой? Остро ощущаю свою недостойность пребывать в храме. К тому же играет свою роль и то, что я только начинаю постигать основные азы Православия. И Ваша книга очень мне помогает…
Крижаловская Оксана, г. Киев
[25] Удалено по личной просьбе автора письма.
[26] Мир вашему дому!
Многоуважаемый о. Сергий, сердечно благодарю вас за ваш очень нужный труд по написанию книги "Почему я не могу оставаться баптистом…". Дело в том, что будучи духовно не грамотной, но приняв крещение в Православии в 33-х летнем возрасте, я ушла к баптистам, думая, что ко спасению идут тремя путями: католики, протестанты, православные - выбирай, что по душе. А вообще мы с мужем раньше были атеистами, но Господь простер к нам Свои длани и дал веру.
Муж неожиданно заболел, начал слепнуть, мы жили на Крайнем Севере. Его лечили 8 месяцев и приговорили к инвалидности. Пока он лежал в больнице в Тюмени 3 месяца, я взяла у знакомой Евангелие и начала читать. Я была потрясена, что такую истину скрывают от людей и отвергают. Ведь, думаю, какая жизнь была бы, если бы люди жили по Евангелию!…
Церкви у нас не было, да мы и не знали абсолютно ничего. Покрестились в Православии всей семьей, а когда муж вернулся домой из больницы и стоял унылый у окна, я предложила ему вымыть глаза святой водой. Он умылся. На другой день надо было ехать получать инвалидность. И вдруг он почувствовал, что зрение пошло, сказал врачам - те проверили - 0,5; 0,6; а к концу месяца 0,8; 0,9 - и выписали на работу. На консультацию мы ездили в Москву, и там на Арбате услышали проповедь о Христе, спасении, кончине века и были потрясены. Нам дали приглашение с адресом, я просто летела туда на другой день, вошла и удивилась: ни икон, ни одежд священнических, но все доброжелательные, внимательные. Взяла адрес тюменских братьев и сестер, написала туда, а потом домой привела баптистов…
Я регулярно стала туда ездить, и баптисты ездили к нам за 70 км. в любую погоду. Мы пели, проповедовали, радовались, изучали Евангелие. Я была очень активной: ходила по домам; желала, чтобы все уверовали, спаслись. Со старшей дочкой приняли баптистское крещение. Прошло 4 года… Я уже была баптисткой и отвергла Православие. Прости меня Господи, безумную. Если бы я знала, сколько позже слез пролью.
На собраниях мне стало чего-то недоставать, неудовлетворенность души ощущала, иногда были сомнения: а если этот путь ложный? (…) Приехала по телеграмме хоронить маму, а через три часа умер папа (он 4 года был парализованный), а поскольку баптисты не молятся за умерших, я поняла, что не могу там больше оставаться и поехала с младшей дочкой к преподобному Сергию, в Лавру, куда я из любопытства приезжала на экскурсию. Ровно отсюда началось мое возвращение в Православие, я как бы пришла в себя. Стояла в храме, наслаждалась Богослужением и стенала: как я могла отказаться от всего этого? Одела крестик, обручальное кольцо, вернулась в Ханымей. Читаю Евангелие и бросились в глаза строки из Евангелия о посещении девой Марией праведной Елизаветы, особенно слова: "отны Я умолил Господа о милости и Он действительно открыл мне глаза на все через брата Александра, он с г. Макеевки. Мы с ним общались ровно год, как все мне стало понятно. Слава Богу, что так Господь все устроил в моей жизни…не ублажат меня все роды". Как же раньше я не задумывалась? Ведь в Библии каждое слово имеет смысл.
А в Екатеринбурге я пришла в монастырь, Господь привел, и я отреклась от протестантской веры. Когда пресвитер пришел беседовать со мной, он уже знал, что я отреклась, хотя я не успела сказать даже об этом. Враг мне отомстил. Младшая дочка к вечеру заболела. Я с ужасом видела, как на голове у нее появились бугры, а губы одеревенели и веки глаз заплыли и пятнами тело покрылось, зрелище было ужасное. Я поставила наши венчальные иконы рядом: Спасителя и Казанскую икону Божией Матери и омыла дочку водичкой преп. Сергия. Процесс остановился, а когда пришла скорая - опасность уже миновала. Не буду описывать, как я рыдала, что была на ложном пути, служила вовсе не Христу, вводила людей в заблуждение…
После ухода из секты, меня не велено было приветствовать и общаться. Я же ходила и просила у всех прощения, что вела людей не туда, губила их души. Почти все ушли от баптистов, а моя старшая дочь Юлия так и пребывает в заблуждении. Она с 13 лет стала баптисткой, осталась и остается в секте уже 11 лет, а я семь лет вымаливаю ее, обливаясь слезами, но увы, пожинаю плоды своего заблуждения…
Прошу Вас передать мое письмо, вернее его содержание тем, кто может понять меня и поверить, что Истина одна, она в Православии, я познала это опытно, на собственном опыте, но какой ценой?…
Не буду описывать, как враг нападал на меня - реально и во сне, и через людей, как не хотел выпустить из своих лап. Но я черпала силы в таинствах Церкви и с Божьей помощью преодолевала препятствия. Второй дочери уже скоро 15 лет, она православная. Мы с мужем и Анной готовы претерпеть скорби, гонения, лишения, чтобы остаться верными Христу в наше последнее время…
Какое наследие оставили Православию святые отцы, как бы хотелось день и ночь поучаться у них, впитывать их опыт, а не полагаться на свой. Вот уже 8-й год как мы воцерковились, но и всей жизни не хватит, чтобы постичь всю красоту, величие, высоту веры православной…
Ширыкалова Татьяна, г. Шуя, Ивановская обл.
[27] Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь. Отец Сергий, здравствуйте!
Пишет вам письмо верующая Анна. Я была баптистка у американца с 1995 готвисла челюстьода, хотела подробно написать вам письмо. Мои родители православные, когда я была маленькая, меня крестили. Я выросла и училась в школе интернате для слабослышащих в г. Феодосии, потом вышла замуж и у меня есть дети две девочки. Одна дочка старшая Жанна… ходила в Церковь православную… К ней пришли "свидетели Иеговы" и принесли журналы. Ей очень понравилось и она стала ходить и проповедовать. И Жанна уговорила мою младшую дочку Олю… Теперь Оля ходит к "свидетелям Иеговы" и берет дочку Веронику. Меня она уговаривала, но я отказала. Я была в православной Церкви, но в Библии я ничего не понимала, так просто ходила в Церковь и все.
В 1995 году к нам в Симферополь приезжал пастор из Америки баптист, и была наша переводчица для глухих. В начале нам понравилось, и я стала ходить в баптистскую церковь. В 1997 году меня крестили, но на шее у меня был крест, я ношу его постоянно. Мне сказали, что крест можно носить, но без распятого Христа, так как Иисус живой. Были бесплатные продукты, вещи из Америки…
В 2003 году мои друзья сказали, что наша церковь ложная, и я никому не верила. В декабре я ездила до моей мамы. Ко мне пришла сестра и дала мне журнал "Спасите наши души". Потом мой друг одноклассник посоветовал мне - бери эту книгу "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом", прочти и ты поймешь. Я прочитала вашу книгу, я так плакала. Спасибо за откровенность. Вы действительно смело написали книгу. Спасибо за искренность! Я раскаиваюсь, что пошла в баптистскую церковь.
После Нового Года я сМир Вам, дорогой моему сердцу о. Сергий! Решился собраться с мыслями и написать Вам…тала ходить в Православную Церковь до конца. Мне начали говорить, что я изменила, что православная вера ложная и дьявольская, что я на небеса не попаду, а баптистская истинная. Я никому не верю, только одному нашему Богу верю. Спасибо вам, что вы написали в книге правду. Прости Господи за все мои грехи, что я натворила. Спасибо моему однокласснику, что он помог прочитать вашу книгу…
Павленко Анна, г. Симферополь
[28] Здравствуйте, уважаемый о. Сергий Кобзарь.
Пишет вам из Чернигова брат во Христе Александр. Письмо это написать побудила меня ваша книга "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом". Когда я эту книгу читал, моя душа просто ликовала. Ведь все те откровения, которые я получал, будучи протестантом (харизматом), они подтверждались через вашу книгу. Мало того, ваша книга окончательно добила во мне протестанта. И хоть я ушел из харизматической секты "Спасение" до прочтения вашей книги, все равно она мне очень помогла; утвердила меня в Православии, многое объяснила, и для меня это очень важно, так как я совершенно не понимал многих вещей в Православии…
(Из следующего письма):
…Ваша книга… очень многим православным, которые в прошлом были протестантами, помогла окончательно развеять в себе все сомнения по отношению к Православию. Я сам знаю двух человек, которые вернулись из харизматической секты в лоно православной церкви, и для них ваша книга стала завершающим штрихом их сектантской жизни…
Мое обращение произошло при чудесном содействии благодати Божией… После окончания института меня постигло осознание бессмыслицы всей нашей жизни и я судорожно начал искать этот смысл - где я его только не искал: и в психологии, и в разных методах самосовершенствования, но о Боге меня заставили задуматься кришнаиты. Членом их секты я был около 1 года. Несмотря на их сатанинскую премудрость, которая привлекает сердца гордых людей, имя Иисуса Христа оказалось сильнее. И вот я становлюсь харизматом. Вы знаете, хоть харизматы и сектанты, но с ними намного милее для души, чем с кришнаитами, доля демонизма разная. У харизматов я задержался около 2-3 лет. Решение стать православным возрастало под влиянием чтения православной литературы. Кроме того, я тайно посещал служения в православных храмах и даже исповедовался и причащался, много молился о вразумлении, особенно свят. Феодосию. В поисках истины мне было попущено очень много внутренних душевных скорбей, которые невозможно описать людям, не испытавшим лично. Но и содействие благодати было ощутимо.
Будучи студентом хариз. Миссионерской Библейской Школы, я собирался бросить секту, но мне предстояло 3 года практики в одном из районных центров нашей области и что-то влекло меня на эту поездку. Позже я узнал о пользе своего пребывания там. Нас собралась команда из 5 человек, все ехали туда в надежде построить новую церковь и только я ехал с тайной целью, как шпион, чтобы развалить все их начинания, и с Божьей помощью их команда развалилась. Я ушел первым, а после меня ушло еще три человека, правда не знаю, стали ли они православными. Остался один человек и те люди, которых мы успели привлечь. Один из них наркоман, который хотел завязать, и мы ему помогали. Через два года этот наркоман нашел меня в Черниemгове, ему стало интересно, почему я ушел. С наркоманами он завязал и, благодаря св. Феодосию, он уходит из секты. Это был второй ощутимый удар для них, поскольку в этом городе он был живое свидетельство их успеха, и вдруг этот человек осуждает их секту.
Александр, г. Чернигов
[29] Дорогой о. Сергий!
Закончила читать Вашу книгу и не смогла удержаться от желания написать и выразить свою благодарность за Ваш труд, такой нужный, особенно тем, кто заблудился, но при том горячо и всем сердцем любит Господа и ищет лица Его. В таком состоянии была и я - 10 лет.
Родилась в семье коренных православных, крещенная в детском возрасте, посещавшая Русскую Православную Церковь во Львове, любившая Господа, и тем не менее, в 1994 году я попала в ловушку диавола, послушала "крикунов" и попала к пятидесятникам… В 1994 году "покаялась", позже приняла участие в водном крещении и затем, спустя совсем не много времени, по семейным обстоятельствам, переехала жить к родителям мужа в Одесскую обл. с. Слободка. Старенькие больные родители мужа были в таком состоянии, что уже не могли обходиться без помощи. Мы решили, я уволилась с работы и стала жить со старичками. (…) После их смерти я, естественно, как истинная протестантка начала евангелизировать, учить, проповедовать и проч. И преуспела. У нас в доме организовала служения, с Котовского дома молитвы (пятидесятники) приезжал брат очень обязательный в течении 4-х лет каждое воскресенье. Словом началась бурная жизнь - евангелизации, служения, пение…
Последствия операции дали право моему Николаю на инвалидность первой группы… И вот мы решаем возвращаться во Львов, ведь жить в деревне трудно больному и с больным. (…) Уже в это время, до отъезда во Львов, я начала молиться и просить Господа, чтобы Он мне помог разобраться и правильно принять решение, а именно: в какую церковь, в какой дом молитвы мне возвращаться членом. Молилась, молилась - никакого вразумления не получила. Тогда стала просить Бога употребить для этого моего мужа. Бог видел мое сердце, что я просила чистосердечно и с верой, пусть Бог расположит сердце моего мужа, неискушенного еще в этих вопросах, религиозных. Пусть Бог мне укажет через мужа, где он выберет, туда и я за ним пойду.
И вот в августе прошлого года мы переехали во Львов и сразу занялись устройством дома и параллельно посещаем служения. На эти поиски ушло месяца три. Никак муж не может определиться, нигде не нравится. И тут сестра моя предлагает: "Вы везде ходите, выбираете, правильно, это серьезный шаг, но давайте сходим еще и в Православную Церковь, посмотрим еще там". Мы так и сделали, пошли. И мой муж после службы сразу сказал, что если я хочу, то могу ходить и дальше искать, а ему так понравилось в Русской Церкви, что он будет ходить только туда! Я сразу вспомнила мою молитву и мою просьбу. Стали ходить в Рemусскую Церковь.
А к пятидесятникам тянет, скучаю, пришло какое-то раздвоение: одна половина здесь, другая туда тянется. Опять молюсь, опять умоляю Господа и ставлю Богу условие: если я приняла правильное (или) не правильное решение, Ты мне это решение дважды подтверди любым угодным Тебе путем. Но непременно дважды. И долго не пришлось ждать. Бог ответил мне. Как-то на трамвайной остановке подходит к нам женщина, которая тоже ходит на занятия к отцу Андрею Ткачеву по изучению Св. Писания, и мы ходим. Она стала сама делиться с нами, как она от протестантов перешла, вернулась в православную веру. Вы знаете, Бог нашел такие убедительные слова для меня через эту женщину, что я сразу сказала: это - раз!
Второй раз произошел через несколько дней. После службы я зашла в книжную лавку, денег для покупки книг не было, зашла посмотреть литературу, стоит стопка книг, отнимаю одну, механически другую, третью и сразу вынимаю уверенной рукой книгу, читаю название: "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом". Я сердцем почувствовала, что это - два, т.е. второе подтверждение того, что мы выбрали правильно. И когда я прочла книгу, на многие вещи духовные открылись мои глаза. В молитве я пообещала Господу, что больше никаких сомнений допускать не буду. Была горячая молитва со слезами радости и горя от моего заблуждения…
На Троицу мы с мужем (представляете?) поехали вместе с паломниками с нашей церкви автобусом в Почаев, на праздник. Боже! Какое счастье, что Ты нас нашел и опять спас! Я думала, что Коля (как инвалид) будет ночевать в гостинице, но нет, он ночевал вместе со мной в Храме Иова, в пещерном Храме, спал вместе с нами на полу. На всех службах был со мной. Очень устал, очень потрясен, все говорили, что мы с ним сияем от счастья. Это так…
Вот я решила обратиться к Вам и просить о помощи, пожалуйста, о. Сергий, если у Вас есть такая возможность, вышлите на мой адрес 5-6 экз. Вашей книги "Почему я не могу оставаться баптистом…". Я вместе с моим письмом отошлю их тем, перед кем виновата. Лучшего убеждения не найти. Я молюсь уже о том, чтобы Бог приготовил их сердца и сделал их "доброй почвой", чтобы когда они получат книги - смогли увидеть, понять, принять, поверить в то, что в ней изложено…
(Из следующего письма):
Я сделала все, как мне было велено моим духовником о. Андреем Ткачевым: я написала всем в с. Слободку… После моего письма с извинениями и объяснениями, слава Богу, две семьи возвратились в Православие, покаялись и сейчас посещают богослужения, исповедуются, причащаются, жизнь налаживается. (…) Написала я также батюшке в Слободку, извенилась, покаялась, объяснила как смогла. Он мне в ответ прислал замечательное письмо. А мое письмо читал в церкви, то многие плакали… Ведь меня все знали…
Кодос Наталья, г. Львов
[30] Добрый день, о. Сергий!
Это пишет Вам читатель вашей книги… Мне хочется высказать свое мнение о книге, может вам и нужно знать, как воспринял вашу книгу простой читатель. На праздники 17-19 декабря я была в церкви. Служба была хорошая, праздничная. Я исповедалась, причастилась и как-то стало на душе легче. А в церковь привела меня ваша книга. Я не могла от нее оторваться. Написана так, что доступна в понимании каждому. Вы как будто читали мысли, интуитивно чувствовали, чего ждет читатель уже давно - это истину. Вам это удалось. Если ваша книга дойдет до многих читателей, то они пойдут в православную церковь. Вы так хорошо в сравнении доказали, где пустота и где истина…
Да, "свидетели Иеговы" знают этикет. Они вежливы, но слишком навязчивы. Когда умер у меня муж и я осталась одна, они сразу окружили заботой, обеспечили литературой "Строжевая башня", "Пробудитесь" и др. Не успела разобраться в их литературе, как они говорят, что я уже готова ехать на конгресс в Киев и принять крещение. Я им говорю: "а как же Символ Веры, там написано, что исповедую единое крещение во оставление грехов, я ведь крестилась в православной церкви". В общем, еле отвязалась. Евангелисты какого дня не знаю тоже умеют вести пропаганду. Вежливо предложат литературу, подарят календарик, знают и умеют постоять за свою религию. Когда я спросила почитать Сергия Радонежского, Серафима Саровского, то они сказали, что этой литературы у них нет. Я поняла, что это не то…
Сягло Варвара, п. Широкий, Луганская обл.
[31] Здравствуйте о. Сергий!
Спасибо вам большое за бесценный труд "Почему я не могу оставаться баптистом…" Был потрясен, что так кратко, но в тоже время объемно и полно Вы описали и сравнили Церковь с протестантизмом! По Божьей милости Вашим трудом был утолен некоторый духовный голод и поставлены точки над "i" по многим утверждениям и вопросам. И в настоящее время переданные Вами знания очень помогают мне в жизни. Сам я с 12 лет исповедовал баптизм, а с 19 лет по милости Божьей стал членом Православной Церкви. (…) Хотя супруга с молоком матери приняла пятидесятников и "крещена Духом Святым", т.е. говорит на иных языках с 12 лет, я все таки надеюсь на ее обращение в Православие и непрестанно об этом молюсь…
Чадаев Михаил, п. Каменномосткий, Майкопский р-н.
[32] Приветствую Вас, Сергий!
Я христианка, в детстве крещенная в Православной Церкви, от моей бабушки у меня вера в Бога. Ваша книга меня потрясла, потому что я уже много лет в поисках истины об "узкой дороге" к Христовой Церкви. Около года я ходила к "свидетелям", изучала их вероучение. Затем в 2002 г. приехал из США проповедник-адвентист Френк и я прослушала все его проповеди, а так же трактовку Писания, в том числе самую последнюю книгу "Откровения" - какие события произойдут при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, о воскресении, о том, что будет с землей 1000 лет, о Новом Иерусалиме, рае и т.д. (…) Я покрестилась и стала ходить на службу к адвентистам, перечитавши днями и ночами много книг. Я не могу жить, не читая Библию. У меня дочка Марина (кстати, тоже тогда со мной окрестилась) не ляжет спать, пока мы с ней не прочитаем 1-2 раздела из Писания. Мой муж Петр постоянно противился, даже один раз порвал адвентистскую книжку, как он выражается "сборище" протестантов. Меня протестанты успокаивали, что это предвидел Иисус Христос, но это не то разделение в семье, когда один верует в Бога, а другой атеист, а здесь два разных вероучения, это не разделение. Здесь просто один прав, а другой неправильно понимает. Я ночами плохо спала, меня что-то мучило, думаю: не может быть при такой вере никакого сомнения. Молилась, старалась поститься (хотя протестанты не признают поста)… Вы знаете, что я на 100% верую в то, что Бог, видя мои поиски, через соседку пятидесятницу (она более 10 лет там) послал мне вашу ценнейшую из всех убедительных книг о Единой Соборной Христовой Апостольской Православной Церкви и вере, книгу "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом"… Я вас поддерживаю и не только я, но и та соседка - пятидесятница, и другие, которые обязательно прочтут эту книгу… Даже мой муж, который ничего не хочет читать, читал ее с захватом, он очень верит…
Я после прочтения вашей книги пошла с дочкой в Церковь Православную, стала спокойно спать и жить, у меня в доме воцарился мир и спокойствие. Я уже два раза причащалась, верю в пресуществление… Несмотря на то, что я была в протестантах, я Церковь Православную всегда уважала и любила, даже было чувство со слезами. Я исчерпала все свои сомнения… Изображение Иисуса Христа (туринская плащаница) стоит у меня на столе как икона, но лично для меня - это живое лицо, потому что у меня выступают слезы, когда я смотрю Ему в глаза [Удивительно, что я много раз испытывал тоже чувство, глядя на туринскую плащаницу]… Я написала Вам потому, что через Вас Бог изменил мою жизнь навсегда… Я на правильном пути. Главное, в моем сердце нет ни капли сомнения…
(Из следующего письма):
Прошло более полгода, и решила написать Вам снова. Я и моя семья еще более изменились, я уже с Истинной Православной Соборной Апостольской Христовой Церковью, и уже со всей своей простотой и искренностью сердца, как только это могу я верить - говорю: мне больше некуда идти, Господи (слезы выступили)…
Та пятидесятница, которая дала мне вашу книгу, однажды сказала так: "Я все-таки убедилась, что спасение в Православной Церкви", а сама продолжает ходить к ним в молитвенный дом. Эту секту дьявол прельщает выездом в Америку, Канаду, очень много уже уехало. Не так давно и последний их пресвитер. Они еще там получают очень много гуманитарной помощи. Я как узнала, что какая-то пятидесятница плакала из-за того, что ей не достались какие-то туфли, то подумала: "да, дешево они отдают душу дьяволу"…
Ромась Нелля, г. Кузнецовск, Ровенская обл.
[33] Пусть Господь благословит Вас о. Сергий за книгу "Почему я не могу оставаться баптистом…" так как и я - еще одна душа, которая через эту книгу вернулась в Православие…
Путь ко Христу у меня довольно витиеват, но благодарю Бога, что /emхоть в чем-то прозрела. Буквально несколько минут назад поговорила с пастором пятидесятнического собрания, где я вела детей воскресной школы и сказала о своем решении оставить это собрание и служение и перейти, т.е. вернуться в Православие. Состояние как в невесомости, т.к. не представляю последствий этого шага в моей духовной жизни...
[34] Мир Вам, брат Сергей!
Прочла Вашу книгу "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом". Для меня это было шоком, откровением, прозрением!!! Я баптистка, хотя сейчас, после Вашей книги, уже нет. Читая книгу, я плакала, просила у Господа прощения за своё заблуждение, я была просто какое-то время в оцепенении от того, что я узнавала из книги. Всё правильно!!! Я тоже больше не могу оставаться баптисткой, мне стыдно и горько. Хотелось, говоря Вашими же словами, подчеркнуть и запомнить каждую мысль и строку, хотелось читать и читать. Я так же думала, только не знала, что делать? Мне 57 лет, я боялась. Слава Господу за то, что дал Вам этот дар! Прошу Вас: вышлите, пожалуйста, если можно, 2 Ваших книги "Почему я не могу оставаться баптистом…". Одну из них я вышлю своей дочери, которая протестантка ярая. Очень хочу, чтобы Господь открыл и её глаза и уши. Неужели я получу книги? С уважением к Вам,
сестра Людмила
[35] Здравствуйте, уважаемый отец Сергий!
Меня зовут Кристина, мне 23 года, я из города Ровно. Приблизительно 2 года назад я купила Вашу книгу, прочитала её за 2 или 3 дня, и очень давно собиралась вам написать письмо, но никак не решалась.
Напишу немного о себе. Когда мне было 13 лет, моя мама начала ходить в баптистскую церковь и мы с сестрой тоже туда ходили. До этого я с дедушкой и бабушкой ходила в Православную Церковь и для меня было шоком то, что мама пошла к баптистам. Я не хотела ходить к ним, но должна была, потому что была тогда ещё ребёнком. Ходила в воскресную школу, пела в детском, а потом и в молодёжном хоре, училась в Библейском институте, позже преподавала в воскресной школе, т.е. была активным членом баптистской организации.
Но! Моя душа постоянно металась, болела, и я не понимала почему. Мне говорили, что я нашла Бога, истинную церковь, что я несу служение, что я поступаю правильно, а мне чего-то не хватало. Я постоянно хотела уйти от них (от баптистов), но они очень на меня давили, запугивали, что это грех непростительный перед Богом, что я буду отступником, если покину их собрание.
Проходила я к баптистам 8 лет. Я научилась так же, как и они, проповедовать детям и подросткам, и даже друзьям, но (я тогда не понимала почему) я никогда искренне не хотела, чтобы люди приходили к баптистам, "наелись" у них. Я не знала почему.
Когда я закончила университет и пошла на работу, у меня начался переломный момент. Я начала по чуть-чуть интересоваться Православием. Хотела разобраться где же Истина. По чуть-чуть я начала кидать все свои служения, реже ходила на собрания. Иногда заходила в Православный Храм, чтобы помолиться или просто постоять и посмотреть на иконы. Мои друзья баптисты, моя семья (на то время уже почти все родственники по линии мамы стали баптистами) пытались вернуть меня на "путь истинный", всячески агитировали вернуться, запугивая вечными муками, адом. Я тогда была на раздорожьи, душа моя рвалась на части и я очень страдала. В тот период я познакомилась со своим будущим мужем, а он был православным христианином. Он впервые привёз меня в Почаев, мы начали регулярно ходить в Православный Храм, он рассказывал мне всё, что знал о Православии, но у меня было очень, очень много вопросов, на которые я не находила нигде ответов. Но мне попала в руки ваша книга, я её прочитала и была в шоке: всё, чему меня учили, было неправдой! У меня открылись глаза! Я прочитала ещё пару подобных Православных книг, но уже не помню каких. Позже я впервые за много, много лет исповедалась, причастилась, вернулась в Православную семью. Я нашла ту Истину, которую искала.
Конечно же, меня мои друзья не поняли, не приняли, и родные тем более. Говорили, что я грешница, отступница, что Бог меня не простит за всё, что я сделала. Да они и сейчас так говорят. Когда встречают в городе, спрашивают: "как твои дела?", а я им отвечаю: "хорошо, слава Богу!". А они говорят: "это плохо, что хорошо. Надо, чтобы тебе было очень плохо за то, что ты сделала!"
Я стараюсь не принимать близко к сердцу их слова, но иногда бывает так больно и обидно. И больше всего обидно, что эти заблудшие люди тянут в свои сети других!
Через год после моего обращения в Православную Церковь я вышла замуж, обвенчалась в Храме. Мне было очень обидно, потому что никто из моей стороны на свадьбу и венчание не пришёл. Мама моя с мамой моего мужа не общается, потому что она православная. С мужем общается сквозь зубы, а когда я с ней разговариваю, она постоянно говорит плохие вещи о Православных священниках и т.д.
А вот совсем недавно произошёл неприятный случай. К нам в гости пришёл мой младший брат. Ему 7 лет. Увидев на стенах иконы и крестики, он начал говорить, что все Православные Храмы надо уничтожать, иконы спаливать, и кресты тоже. Что одни баптисты правы, а все остальные (а больше всего православные) грешники. Он очень агрессивно настроен против Православия. И мне стало страшно, ему ведь всего 7 лет, а в его памяти уже заложено что-то злое. Мы ему начали читать православные рассказы для детей, но он, послушав чуть-чуть, сказал, что надо читать только Библию и только с баптистским толкованием.
Могу ли я как ни будь повлиять на него или на маму? Что я могу сделать, чтобы они так не относились к нам, православным? Объяснить, как я понимаю, не получается, потому что они даже слушать не хотят…
Таченко Кристина, г. Ровно
[36] Здравствуйте батюшка!!!
Сейчас читаю вашу книгу "Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом". Благодарю Бога, что она мне попалась!!! Я очень с вами согласна во всём! Спаси вас Господи!
Я вот тоже была протестанткой 2 года, а потом пошла в православную церковь. Бог Сам меня привёл сюда! Читаю много полезных душевных книг. Прочитала про Оптинских мучеников убиенных на Пасху 1993 года. Эта книга вообще исполнена благодати и радости!
Хотела вас спросить: я в младенчестве была крещена в православии, а потом, когда пошла в церковь Голгофы, там меня крестили в воде. Нужно ли мне перекрещиваться? И ещё вопрос: как быть с друзьями с протестантской церкви, все зовут чтоб я приехала к ним в гости на служение. Батюшка, я с ними вижусь редко, о том что хожу в православную церковь я им не говорю, так как последует много осуждений и т.п. Думаю, как дочитаю книгу, Бог откроет! Храни вас Господь!!! Простите, если занимаю ваше время!
(Из следующего письма): Спасибо большое за ответ!!! Я тоже так думаю. Сейчас читаю вашу книгу. Я изначально, как пришла в ту церковь, не была против икон и православия. Просто на данный момент я не всё уяснила по поводу православия. После учёбы я переехала жить домой (я когда училась в другом городе, то ходила в ту церковь) и начала ходить в православную церковь. Только мне пока тяжело, я же стихи в Библии понимала неправильно, как пастор объяснял. Сейчас потихоньку читаю толкование Библии Св. Отцами, хожу в церковь, там такая благодать! Спаси вас Господи! Спасибо за ответ!
Lena Razuvaeva
[37] Здравствуйте, отец Сергий!...
Родился и рос я в Грузии, в Тбилиси. Во времена, когда еще был СССР и нас в школе пугали баптистами и вообще объясняли, что Бога нет...
Помню очень ясно и четко, как каждый раз оставался на улице, когда бабушка заходила в православный храм... из опасения, что меня снимет на фото в храме КГБ - показательно стоял на улице и ни ногой в храм... Но однажды был случай... мне было лет 5 и я оказался запертым в доме и так получилось, что открыть дверь мог только я и только изнутри... Я долго мучил замок, но ничего не получалось и тогда в мою детскую голову пришла мысль - прове. Одну из них я вышлю своей дочери, которая протестантка ярая. Очень хочу, чтобы Господь открыл и её глаза и уши. Неужели я получу книги? С уважением к Вам,рить есть ли Бог... я помолился "Бог, если ты есть, помоги открыть эту дверь" и тут же замок поддался и дверь была отворена. Я смутился, но случай тот я никогда не забывал... И стал относиться к вере в Бога иначе, для меня это было подтверждением, что "Кто-то" там точно есть.
В середине 90-х семья перебралась в Россию, в Краснодарский край, я поступил учиться на юриста, устроился на работу, время шло и как то однажды услышал "свидетельство" протестантов, посетил их собрание и пошло поехало... я думал, что я нашел Бога... Со временем даже стал служителем, руководил евангелизационной работой, работал в миссионерском отделе, посещал общины по краю, служил в разных миссиях и т.д. была хорошая "карьера"... Позже, я осознал, что я "выслуживаясь" пред Богом думая, что уже имею спасение, знаю Бога, на самом деле, потерял то, что было у меня - искание Бога, искание себя, смирение и т.д.
Дальше веселей - увидел лицемерие, ложь, интриги, сребролюбие и т.д. которое было вокруг в протестантских общинах и что все это ретушируется, замалчивается и прикрывается всякими благовидными отговорками.
Я впал в депрессию... К тому моменту я руководил крупным фондом и как-то проходя мимо Храма решил зайти, а там в Храме решил на "безумный" (с точки зрения протестанта) поступок - освятить офис... подошел к батюшке и договорились о дате освещения. Это была суббота (потому, что в офисе кроме бухгалтера никого не оказалось) и после освящения мы с отцом Димитрием (который теперь мой духовник) остались и долго общались... не смотря на то, что у о. Димитрия были еще какие-то важные дела в тот день, он отменил их и уделил мне время... я тогда многое узнал о православии, хотя сам не мало говорил и немного слушал... Потом познакомился с настоятелем Храма - он мне порекомендовал начать мое знакомство с Православием с книги Аввы Дорофея "Душеполезные поучения". Должен признаться, я был поражен глубиной прочитанного... Я вдруг увидел Православие в том виде, какое оно есть на самом деле, а не то, которое создавалось в моем сознание коммунистической пропагандой. Для меня произошло "воссияние истины православия" я вдруг осознал, что вся "духовность" протестантизма и в подметки не идет... Все "духовные откровения" в одночасье потеряли всякую ценность... По истечении какого-то срока я прошел чин воцерковления с отречением от ереси (забыл как называлась ересь...)
С тех пор я все больше и больше укреплялся в православии... Я очень мало до сих пор знаком с православием, но то, что я уже узнал для себя оказало невероятное по своей силе влияние на все мои ценности и взгляды. Конечно же, были вопросы, но благодаря моим наставникам в православии я стал тем, кем являюсь... Надеюсь, буду помилован Господом за свои грехи и ереси, которыми не просто был увлечен, но и многих увлек, будучи служителем и проповедником...
Виктор Беликов, Краснодарский Край
[38] Здравствуйте Сергей Александрович!
Пишет вам осуждённый, зовут меня Руслан. А побудило меня написать вам письмо моё внутреннее желание. После прочтения вашей книги "Почему я не могу быть баптистом и вообще протестантом" я в корень поменял своё представление и рассуждение о православии. Я с 2003 года посещал церковь баптистов. Я стойко был уверен, что именно она (церковь) есть истинная со всех деноминаций, и сколько мне не говорили, что это всё сектантство, я всё же тупо и слепо был уверен в обратном. Но благодаря вашему труду и Господу нашему, у меня открылись глаза. Я искренне шёл и верил учению баптистов, и может поэтому Господь и вывел меня из заблуждения. Вы не представляете как я рад, что прочитал вашу книгу. Я не признавал иконы, моления святым, но теперь во мне всё перевернулось, и слава Богу. Впервые в своей жизни я с верой и почтением поцеловал привезенную в нашу колонию икону и мощи Св. Пантелеймона, это было в этом году в начале июня. Действительно, я почувствовал в православном Храме Божие присутствие, благоговение, умиротворение внутри себя. В протестантской церкви чего-то не хватает, и я не мог понять, чего же.
Один раз пастор харизматичной церкви, можно сказать, выбила меня из тапочек тем, что сказала, что я Апостол Руслан. Я не смог этого понять, и после этого изречения я начал глубже прислушиваться к учению. Я про себя думал на тот момент, что я и ногтя не достоин Апостола Павла или Петра, а они так легко из меня сделали Апостола.
Последнее время много читаю о монахах, подвижниках. Игнатия Брянчанинова, Серафима Саровского, и вы знаете, Сергей Александрович, меня что-то тянет к монастырской жизни, что-то подсказывает мне, что я смогу только в монастыре по настоящему узнать себя и отрекшись от мира приблизиться к Богу. Вот только не знаю, есть ли на то воля Божия. Прошу вас дать мне хоть какой-то совет и наставление… Я очень благодарен вам, пусть Бог хранит вас.
Дяков Руслан, г. Брянка
-
 Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая
Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая
В книге собрано множество рассказов очевидцев о схимонахе Илье, Афонском старце, прожившем в г. Макеевке. -
 Дивен Бог во Святых Своих...
Дивен Бог во Святых Своих...
Почти 20 лет назад советские ученые, исследовав многие останки святых угодников Киево-Печерской лавры, неожиданно «открыли» тайну феномена нетленности -
 Кощунствующий целитель
Кощунствующий целитель
"Чудо-доктор" Сергей Коновалов из Санкт-Петербурга и о его "удивительный метод" целительства. -
 "Свидетели Иеговы" - кто они?
"Свидетели Иеговы" - кто они?
История секты "Свидетели Иеговы" - авторитарное давление одного человека, ловко играющего на невежестве определенных слоев общества, может привести к серьезным и губительным последствиям. -
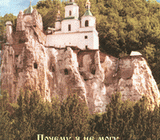 Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом
Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом
Книга является свидетельством автора своей веры и описанием результатов духовных поисков, пути от баптизма к Православию. -
 Нисхождение во ад. Почему Бог попускает страдание и смерть?
Нисхождение во ад. Почему Бог попускает страдание и смерть?
Бог попускает зло для нашей же пользы либо когда учит нас, либо когда хочет, чтобы с нами не случилось чего-либо еще худшего... -
 Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая
Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая
В книге собрано множество рассказов очевидцев о схимонахе Илье, Афонском старце, прожившем в г. Макеевке. -
 Дивен Бог во Святых Своих...
Дивен Бог во Святых Своих...
Почти 20 лет назад советские ученые, исследовав многие останки святых угодников Киево-Печерской лавры, неожиданно «открыли» тайну феномена нетленности



 БЛАГОВЕСТ
БЛАГОВЕСТ
